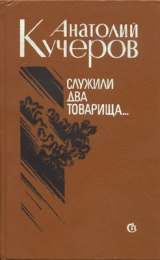
Текст книги "Служили два товарища... Трое (повести)"
Автор книги: Анатолий Кучеров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Первое было полной неожиданностью. Значит, Вася нес меня, раненный, и даже ничего не сказал! Но ведь надо было сделать перевязку?
– Он сделал перевязку, когда вы были без сознания. Ему помогал Котов, – объяснил Василий Иванович.
– Почему же он не здесь, не со мной?
– Это медицинские идеи нашей Горемыкиной: полный покой и прочее. Вы бредили, и она беспокоится, нет ли трещины. Голова у вас тоже разбита.
Я знал, что голова разбита, но не придавал этому значения.
– Даже сейчас могу летать, если нужно, Василий Иванович, – сказал я волнуясь, – но Калугин – герой! Он с Котовым нес меня всю дорогу, нес раненный! Я этого не забуду!
Василий Иванович помолчал и сказал очень коротко:
– Настоящий боевой товарищ.
Потом я спросил Василия Ивановича, летал ли он в Ленинград, как предполагал. Василий Иванович улыбнулся, усы у него при этом полезли вверх, и лицо стало очень добродушным.
– Да, летал, но придется слетать еще через недельку. Если врач разрешит, возьму с собой Калугина или вас. Вы уж сами об этом договоритесь и постарайтесь поправиться.
Впереди была неделя, и я решил во что бы то ни стало поправиться.
Вы представляете жизнь в медпункте авиационного полка в ту пору? Пусто, приходит на перевязку какой-нибудь моторист (в авиации, конечно, мало раненых, в авиации больше не возвращаются). По временам далекий артиллерийский грохот, треск зениток. Душевное состояние у всех томительное, но вечером все же гоняют в «козла», слушают нервное, забывшее о музыке радио. В ту зиму патефон никто не заводил, словно сговорились.
Под подушкой лежало у меня письмо Веры, полученное перед самым вылетом, и я перечитывал его, когда оставался один.
«Дорогой мой, – писала Вера, – от тебя ни одного письма, но я не хочу думать ничего плохого. У нас теперь очень неаккуратно носят почту, вернее, вообще не носят. Просто некому носить. Я убеждена, что это единственная причина. Если ты моих тоже не получал, то имей в виду, что это письмо уже четвертое. Я не знаю, как ты живешь, но очень хорошо представляю.
Я, кажется, нашла себе настоящее дело, но это еще не наверное, и потому не хочу писать.
Каждый раз, когда тревога, я думаю о тебе, Сашенька. Даже если б я думала о тебе только в эти часы, это было бы довольно часто.
При встрече многое расскажу, так много пережито с тех пор, как мы расстались на вокзале. И что еще предстоит пережить? Может быть, я не выдержала бы, если бы не ты, если бы я не знала, что тебе еще труднее. Это большое счастье, что мы встретились и нашли друг друга.
Когда у человека есть свое, пусть маленькое, счастье, он сильнее.
Я очень занята, у меня много работы, но я довольна, что я здесь, хотя это трудно. Ведь если бы я уехала со своими, мы бы не встретились.
Бабушка жива, но в больнице.
Саша, – заканчивалось письмо, – разумеется, если ты приедешь в Ленинград, я тебя увижу. Но ты пиши, потому что, может быть, все же начнут разносить письма.
Твоя Вера».
На другой день с утра пришел ко мне Калугин с перевязанной рукой, улыбнулся, щелкнул пальцами здоровой руки и, подмигнув, сказал:
– А все-таки разбомбили мы его с тобой к фрицевой маме!… Я уже давно собирался к тебе, да Горемычиха не пускает… От нее письмо, от твоей? Ты-то получаешь!
Калугин сел и здоровой рукой стал ерошить свои длинные и светлые как лен волосы.
В халате он был, как говорят, неавантажен.
Я осторожно спросил его, почему он не в духе, что случилось.
– Любопытнейшее событие, и показывает нашу советскую женщину с самой героической стороны, – неожиданно сказал Калугин. Он любил иногда говорить торжественно. – Только для меня гроб с музыкой, – закончил он так же неожиданно, как и начал. – Но это неважно. Понимаешь, я оказался прав: это действительно необычайная женщина.
– Настенька?
– Разумеется. Столько месяцев работать в тылу врага, побывать черт знает в каких трудных операциях. Она, понимаешь, там великих дел натворила. Героиня! И, вероятно, еще бы осталась, если бы не рана. Я тебе не рассказывал?
Я сказал: «Нет, не рассказывал», – хотя не раз слышал об этом.
Он очень любил говорить о Настеньке.
– Везу я ее, – продолжал Калугин, – ей, видно, очень больно – бледная и щека дергается, а терпит и все молчит, молчит, и мне ее неловко тревожить. Так мы с нею только «здравствуйте» и «до свидания» сказали… Ты посоветуй, куда написать, чтобы ей дали Героя Советского Союза. Это будет абсолютно справедливо в настоящий момент.
Я сказал, что если это нужно, напишут и без его помощи.
– Ты прав, конечно, – огорченно кивнул Калугин, – я ведь тут со всеми моими чувствами вовсе ни при чем. У нее, очевидно, в душевных делах полный порядок. Но именно теперь, когда она, понимаешь, выполнила задание и, понимаешь, раненная работала, я еще выше ставлю ее и поклоняюсь ей.
Калугин рассказал, что сестру нашей Вали-официантки, дружинницу, ранило при бомбежке, и Валя получила от нее письмо через одного лейтенанта, который ездил в Ленинград.
Так вот в этом письме о Настеньке как раз написано, потому что Настенька и Валина сестра лежат в госпитале рядом, и Валина сестра про нее пишет и восхищается. И, кроме того, в письме много тяжелого.
– Прямо им до того кисло приходится в Ленинграде, что дальше некуда, – огорченно закончил Калугин.
Его посещение имело специальную цель, и он тут же объявил о ней.
– Саша, – сказал он, – я мог бы на следующей неделе слетать в Ленинград, но лучше слетай ты. Не спорь, не перебивай. В Ленинграде у меня ни души…
– А Настенька?
– Что ж Настенька, – подумав и сжав губы, печально сказал Калугин. – У тебя в Ленинграде близкий человек, это совсем другое дело. Надо быть справедливым… А Настеньке я решил сделать подарок. Я тут копил и подкоплю еще сахару и сгущенки, а ты ей, пожалуйста, отвези и скажи, что от того летчика, который ее на катер провожал, скажи как-нибудь получше.
Не могу передать, как меня тронуло предложение Калугина.
– Ты мне спас жизнь, Вася, – сказал я, – и теперь отпускаешь в Ленинград! А мог бы полететь и повидаться с Настенькой… Не знаю, как тебя отблагодарить.
Калугин махнул рукой, и я подумал: «Какой он славный парень и верный товарищ».
Я пообещал выполнить его просьбу, и через три дня он появился у меня с узелком. Там были не только сахар и молоко – целая посылка, и тут я заметил, что Вася даже похудел за эти дни.
– Нужно бы цветы послать, если б другое время, а сейчас – какие там цветы! – смущенно сказал Калугин и засмеялся.
Я воспользовался идеей Калугина и тоже откладывал из своего рациона все, что мог.
Командировку мою утвердили, и я принялся за выполнение основной половины плана.
Когда я пришел на склад за пайком, там сидели завскладом и начпрод. Я не очень рассчитывал на их щедрость, но добросовестно рассказал о ленинградских моих нуждах и спросил, не могу ли получить за лишний день, а приеду – как-нибудь перебьюсь. Сначала начпрод строго спросил:
– Подвести меня хотите под монастырь? – А потом уже закончил торжественно: – Вы что ж хотите, чтобы я из-за вас, Борисов, под суд попал?
Я, конечно, не стал спорить, получил по аттестату и про себя подумал, что было бы очень хорошо – попади он под суд.
У меня была еще надежда на кока Климкова, чрезвычайно честного и доброго человека. Его по решению командира и с одобрения комсомольской организации полка, в которой он состоял членом бюро, перевели из мотористов в коки командирской столовой, хотя он всячески противился и отказывался от своей гражданской специальности. В конце концов его уговорили, и на своей новой работе он, как говорится, развернулся на все сто.
Я пошел прямо к нему. Климков как раз проверял хлебные рационы. Он брал то одну, то другую порцию, задумчиво качал ее в своей огромной белой ладони, как дитя в люльке, и бережно клал на стол.
– Я дам вам буханку хлеба, – подумав, сказал Степа, – а ребятам объявлю, что поэтому и урезываю с каждого грамм двадцать. Никто не будет в обиде… Небывалое время, – добавил он, плюнув, – раньше разве думали о хлебе? Если б вы знали, сколько его в столовых сохло, сколько его выбрасывали. Прямо с ума схожу, когда об этом вспоминаю. У нас на гражданке при столовой три хрюшки откармливались, не поверишь, как я их кормил! Что вчерашнее – им, котлеты пожарские – им, майонез, винегреты самые лучшие – летом же они не держатся, – пожалуйста, им. Как вспомню, так седею от таких дел.
Стараясь не обнаружить нетерпения, я безропотно и не перебивая выслушал все рассуждения Климкова, любившего поговорить, от всей души поблагодарил его и побежал собираться.
Я очень волновался. Предполагалось, что я вылечу, но погода, как назло, совсем испортилась: туман да снег. И я решил, не дожидаясь самолета, доехать до Ораниенбаума, там по льду восемь километров до Кронштадта – лед уже стал, – а дальше на машине до Лисьего Носа и – в Ленинград. Маршрут более длинный, зато верный.
Лейтенант, выписывавший командировочное предписание, посмотрел на меня и сказал:
– В другое время я бы позавидовал, а теперь нет. Счастливого пути.
* * *
Со мной был только вещевой мешок и посылка Калугина.
Без особых приключений, если не считать обстрела в Ораниенбауме, я добрался до Кронштадта. Там пошел прямо на заставу, отметился. Перед моим носом ушла полуторка, потом откуда-то появилось несколько саней с такими худыми и костлявыми лошаденками, что было непонятно, как они переставляли ноги.
Пока один возчик оформлял пропуска, я заговорил с другими. Все это были красноармейцы, колхозные парни откуда-то из-под Рязани.
– Видишь ли, нам и груза не дают, потому что животины совсем выбились из сил – себя не тащат. За сеном едем. Авось и есть где сено.
– Да их давно пора на жаркое, – сказал другой красноармеец.
– Ты у меня поговори еще, – заворчал третий, – боевого коня, товарища, на жаркое – слыхал? И, во-первых, какое же из него жаркое? Вот только если как следует отварить с солью…
Он вдруг подробно и волнуясь стал рассказывать, как варить и приготовлять конину, и все слушали с большим вниманием.
– Ну что ж, садитесь, товарищ командир, – сказал тот, который оформлял пропуска, – как-нибудь довезем.
Я сел в сани; там лежало несколько дырявых мешков, я укрыл ими ноги.
Путь до Лисьего Носа – каких-нибудь двадцать километров, но мы ехали очень медленно. На середине пути в нас постреляли финны. Потом стемнело, повалил снег. Я лежал в санях, мерз и думал о Вере: «Где она? Как живет? Как работает?» Я старался представить ее жизнь в эти месяцы и не мог: я не знал, какая она. Я понимал, что жизнь ее – новая, необыкновенная, но какая?
Повозочный спросил, нет ли у меня табачку. Мы закурили. Тогда он спросил, не найдется ли для товарищей. Он остановил свою лошаденку, и за нею остановились остальные. Солдаты – их было четверо – подошли к нам, и каждый с наслаждением закурил.
Мы снова тронулись. Теперь только огоньки наших самокруток светились в темноте.
Я устал, намерзся за день, меня клонило ко сну, и сквозь дремоту я слышал, как мы останавливались раза два, как кто-то жаловался, что «ничего дороги не видать», и потом ходил искать дорогу.
Но мы не сбились потому, что вскоре навстречу нам попался грузовичок с краснофлотцами; фары его едва светили голубым матовым светом, зато над кузовом, словно золотые жуки, роились огоньки цигарок.
Мы разъехались. Грузовик исчез в темноте на пути к Кронштадту, а мы потащились дальше.
Как труден был в то время путь в Ленинград, как долго еще пришлось так путешествовать!
В Лисьем Носу стояла застава, спрашивали пропуска.
Я зашел в деревянный сарайчик; там дышала теплом раскаленная докрасна чугунная печурка, и на ней шумно кипел чайник.
– В Ленинград? – осведомился молоденький краснофлотец, разжевывая бумажку и выплевывая ее. Он почему-то все время жевал бумагу.
Я спросил его, как скорее добраться.
– Тут поезд ходит, только ждешь, ждешь его, осточертеет. Вы на машину попробуйте, товарищ старший лейтенант. Если в кабине есть место – возьмут.
– Да вы не слушайте, – посоветовал толстый капитан в овчинном кожухе, гревший пальцы у печурки, – куда торопитесь? Еще успеете намерзнуться, часа в четыре утра пойдет поезд.
Я объяснил, что очень тороплюсь и, отметив командировочное, зашагал к шоссе. Рядом тянулась железная дорога. Я шел как на крыльях. Я торопился к Вере. Впереди был хоть короткий, но мой день, и мне все было нипочем, одолевало только нетерпение.
Что и говорить, невесело в крепкий мороз ночью стоять у дороги и ждать машину: может, пройдет, а может, нет.
Дул резкий ветер с залива, поднимал и кружил мелкий колючий снег. Я расхаживал взад и вперед, бегал, чтобы согреться, курил, то и дело поглядывал на часы, а машины все не было и не было. И вдруг я услышал еще издали (на морозе ведь хорошо слышно) какой-то нарастающий шум, и сердце у меня забилось, как будто я бегом взобрался на вышку Исаакия. Конечно, машина! И, разумеется, она обязана меня захватить!
И вот из снежной мглы вырастает окрашенная в белое машина, едва светят сквозь решетку бледно-голубые фары.
Я уже заранее приготовился, стал у дороги и поднял руку. Проклятие! Она проносится мимо, и клаксон кричит в мою сторону не то приветствие, не то ругательство. Я слышу запах трофейного бензина, напоминающий запах сосновой хвои. Снова тишина, снова холод, снова я жду и проклинаю шофера, и курю, и хожу, чтобы не замерзнуть. И от нетерпения снова смотрю на часы.
Оказалось, капитан прав. Машины, черт бы их побрал, ходили редко.
Часа в четыре ночи на рельсах вдруг мелькнули полупритушенные фонари поезда. Вагонов было, кажется, шесть, тянул их паровоз-кукушка. В том вагоне, куда я забрался, было совершенно темно, но не очень холодно, потому что топилась маленькая печка. На полу сидели красноармейцы и краснофлотцы. Я положил голову на вещевой мешок и сквозь сон слышал, как краснофлотцы рассказывали о каком-то отчаянном парне, которому сам черт не брат и который совершает такие чудеса храбрости, что скоро ему некуда будет вешать медали.
Я спал до самого Финляндского. Когда мы приехали, Выборгская обстреливалась, и я сразу почувствовал себя на передовой. На аэродроме не бывало такого чувства.
Рассветало. Шел снежок. Медленно кружились и падали снежинки в тихом и чистом воздухе. Вокруг по-хозяйски раскинулись сугробы. Пустынная площадь перед вокзалом белела, словно поле после метели: намело по колени. На ней не было памятника Ленину. И площадь без памятника и улицы у вокзала, всегда шумные, сейчас были пустые, словно я попал в замерзший, мертвый город. Я знал, что нет электрического света, я знал, что не ходят трамваи, но я не представлял себе этого дикого снежного поля перед вокзалом. Я многого не представлял. Но раздумывать некогда. Впереди встреча с Верой. Я уже мысленно вхожу в ее квартиру.
Какая Вера теперь? Как пережила эти месяцы?
Пошел бы сразу к ней, но госпиталь, где лежала Настенька, на мое солдатское счастье, оказался по соседству с вокзалом, буквально в двух шагах. И я решил выполнить сначала поручение друга.
В вестибюле госпиталя, а может быть больницы, было темно и морозно, как на улице.
Я вошел в коридор. У маленького стола, на котором горела коптилка, в халате поверх шубы сидела женщина и с величайшим вниманием читала листок «Ленинградской правды». Потом она исчезла в темноте коридора, и я услышал голос:
– Товарищи, газета!
Это было сказано торжественно, как об очень важном и радостном событии, и, по-видимому, это так и было. Потом женщина заметила меня и спросила, к кому я. Я назвал фамилию.
И тут все спуталось.
– А, знаю, знаю! У вас сын…
Я не успел остановить женщину, ответить ей, объясниться. Она исчезла в темноте коридора, потом вернулась с белым маленьким свертком, который не кричал и не плакал. Несла она его мне или в другое место, не знаю. Я снова не успел ей ничего сказать: раздался сигнал воздушной тревоги.
– Опять! Да что же это? – заволновалась женщина. – Подержите, пожалуйста, только осторожно. – Она сунула маленький сверток мне в руки, и я услышал, как другой голос где-то рядом заговорил:
– Но поймите, у нас некому переносить больных и раненых в бомбоубежище! Не разъединяйте!… Печурки? Дымят ужасно… Не разъединяйте!… Да, служащие тоже болеют… Нет, здорова. Не верите? Пришлите движок, нельзя оперировать… Я говорю: нельзя оперировать при коптилках!…
Пока продолжался этот разговор, я стоял с мешком и новорожденным ленинградцем на руках. Я не мог рассмотреть при свете коптилки его личико. Выживет ли он?
Дом дрогнул, и тяжелый гул покатился по всему коридору. На лестнице посыпалась штукатурка: бомба упала где-то очень недалеко.
В коридоре хлопнуло несколько дверей, ко мне подбежала какая-то девушка в платке и тоже в халате поверх шубы, взяла от меня сурово молчавшего ленинградца и сказала второпях:
– Папаша, помогите, пожалуйста, перенести лежачих в нижний этаж.
Ничего не успев объяснить (да и кто стал бы слушать?), я помог девушкам-санитаркам таскать с верхних этажей кровати с больными и ранеными. Мною уже командовали: кто-то выговаривал:
– Аккуратнее ставьте, папаша.
Я старался делать все как можно лучше. Было так темно, что я едва видел лица тех, кого переносил.
Поблизости торопливо стучал зенитный автомат.
– В кои веки один папаша объявился! Приходили бы по очереди дежурить! – бойко сказала женщина, поднимаясь по лестнице с мокрым бельем в тазу.
– Им воевать надо, – возразил из темноты другой, рассудительный голос.
Я помогал переносить кровати, когда из полумрака передо мной появилась строгая сухонькая женщина в пенсне и спросила, почему я здесь, да еще без халата, и что это безобразие означает.
Я постарался объяснить, что я к Роговой.
– Ах, к Роговой, – обрадовалась строгая женщина, – у вас сын. – И не слушая, она быстро ушла, очевидно, оповестить о моем приходе.
Вообще я заметил, что люди в ту пору странно себя вели. В другое время давно бы все разъяснилось. А тут мелькнула мысль, да еще приятная – и каждый готов за нее ухватиться. И правда, где тут расслышать, когда целое отделение срочно переселялось в нижний этаж. И я никак не мог объяснить, что это, наверное, не та Рогова, раз у нее сын, что моя Рогова ранена в руку, что зовут ее Настасья Андреевна.
Вероятно, меня потащили бы носить дрова или воду, если бы женщина в пенсне не прислала за мной. Меня втолкнули в какую-то комнату, где тоже было очень холодно и горело несколько фитильков на ночных столиках. И девушка, еще совсем школьница, крикнула, что пришел один папаша.
Признаюсь, я смутился и даже не знал, с чего начать в этом довольно затруднительном положении, но в то время редко кто видел смешную сторону вещей.
– Вы Настасья Андреевна? – спросил я.
Худая бледная женщина смотрела на меня с удивлением. И тут выяснилось, что она Рогова, но не Настасья Андреевна.
– Так вот какой папа! А я уже подумала и правда: каких чудес не бывает, – сказала она тихо. – Ваша Рогова в другой палате, счастливица.
Она неотступно смотрела на мой вещевой мешок. Да и не только она. Я достал банку сгущенного молока и с ловкостью медведя поставил на столик.
– Сгущенное молоко?! – удивилась и заволновалась Рогова не-Настенька. – Вы даже не понимаете, как оно необходимо! – И тут же она спросила, что слышно на фронте.
Я рассказал, что мог, постарался утешить. Слушали меня жадно.
– Вы поскорее бы воевали, – сказала она очень серьезно и тоскливо обвела глазами палату. Я невольно последовал за ее взглядом и услышал робкий голос:
– Нет ли у вас молока и для моего?
У меня больше не было сгущенного молока, но я отдал женщине с робким голосом сахар и понял, что невозможно уйти и не оставить хоть что-нибудь остальным. Увы, я преувеличивал запасы в моем вещевом мешке. Я вел себя как рождественский Дед Мороз, только мрачный. Просто невозможно было спокойно смотреть на эти лица. Я сурово сказал, что такого добра у меня достаточно и пускай они не беспокоятся и не благодарят.
– Поскорей бы воевали, – повторила Рогова не-Настенька, пожелала нам успеха, протянула худенькую руку, и мы попрощались.
– Так вы, значит, не папа? – спросила девушка, слышавшая наш разговор и провожавшая меня.
– Только в будущем, – ответил я.
Настасьи Андреевны Роговой я не видел: она лежала в другом отделении, и, когда я туда добрался, там оказался действительно военный госпиталь. Ей делали перевязку, и я оставил для нее посылку и письмецо Васи Калугина.
Когда я вышел из госпиталя на пустынную, заметенную снегом улицу, когда я наконец мог отправиться к Вере, выяснилось, что мне не остается ничего другого, как прийти с пустыми руками и, как говорят у нас военные, стать на ее довольствие. Это было невозможно; о чем, собственно, я думал в госпитале, когда расставался со всем, что вез? Вышло так – и баста. Попробовал себя упрекнуть, но и это не получилось: решительно я не чувствовал за собой вины.
«Ну и отправляйся тогда, герой, с пустыми руками», – сказал я самому себе. Но и этот совет нельзя было принять. Я знал по рассказам, что на рынке можно было достать продукты. Пересчитал деньги: их оказалось обидно мало, каких-нибудь четыреста рублей. Сумма смешная по тем временам.
Что же делать? И тут вспомнил я о ящиках с нашим платьем у старого доктора и обрадовался так, как мог бы обрадоваться ученый, сделавший очень важное открытие. Я зашагал бодрым походным шагом на Кирочную.
Шел я, поглощенный всевозможными расчетами. «Что, если все эвакуировались? Но, может быть, кто-нибудь остался в квартире? А если ящики в передней, кто позволит их открыть? Соседи тебя не знают. Но, может быть, доктор сказал, что придет такой лейтенант. Так то лейтенант, а ты теперь старший лейтенант», и я подумал о второй широкой нашивке, которую с гордостью стал носить две недели тому назад.
Это неважно, в конце концов соседи понимают, что лейтенанты становятся старшими лейтенантами. Интересно, у кого ключи – у доктора? Он мог увезти их с собой, что тогда? Но хотя я думал о докторе, о ключах, о соседях, в действительности я думал только о Вере. Она была за всем и во всем.
По белоснежной глади Невы у Литейного моста бежали тропки, и по ним шли темные фигурки. Мост был пуст. У спуска к Неве, на льду, хлопотала горсточка ленинградцев с ведрами, чайниками и кастрюльками. Почти у всех саночки.
На Литейном пустынно. Прошла женщина с девочкой, волоча санки, на которых лежала белая дверь с медной ручкой.
Все было странно. Но мне некогда было об этом думать.
Вот я и у цели. Нажимаю по рассеянности электрический звонок, – он не работает. Стучу. Наконец открывают. В темноту парадной высовывается голова старушки.
Я спрашиваю о докторе, мне говорят, что я очень счастливый молодой человек, потому что доктор все время в госпитале, но как раз сегодня обязательно придет. И тут только я замечаю, что разговариваю с женой доктора.
Я называю себя.
– Господи, Сашенька! – радостно всплеснула руками докторша.
Раньше она никогда так не говорила. Она ввела меня в столовую. Вся мебель была на своих местах, только у рояля в углу появилась чугунная печка и пахло дымом.
– Вот ты увидишь дядю Лешу, какой он теперь… Что слышно на фронте?
Потом я понял, что это был первый или второй вопрос, которым встречали в Ленинграде. Был еще один такой же вопрос: «Что выдают?» В Ленинграде оба вопроса переплелись: от положения на фронте совершенно непосредственно зависело, сколько граммов хлеба завтра будут выдавать в магазинах.
Пока мы разговаривали, диктор объявил обстрел района.
– Ну вот, теперь дядя задержится, – сказала докторша.
Было заметно, что обстрел беспокоит ее только с этой стороны.
Но обстрел скоро окончился, и как только он окончился, сразу же забарабанил в дверь доктор.
Какая это была встреча! Ничего подобного я не представлял себе. В этом доме всегда относились ко мне немного свысока. Во-первых, за то, что мой отец еще в юности был человеком, как им казалось, ленивого ума, не добился высшего образования и по собственному убеждению и любви к делу пошел работать в железнодорожное депо. Я не раз слышал сетования по этому поводу и пытался возражать. Мои возражения обычно сводились к тому, что Спиноза был шлифовальщиком стекол и в то же время Спинозой, и что давно пора уважать всякий честный труд, и что если все на свете будут врачами, то им придется ходить в чем мать родила и есть дикие ягоды.
Во– вторых, ко мне относились свысока потому, что я избрал военную специальность, что тоже свидетельствовало если не о лени моего ума, то о черствости моего характера. Но сейчас все это было вдруг забыто. Доктор целовал меня, называл героем и при этом говорил:
– Я все знаю, не спорь. Вы настоящие герои, вы сражаетесь за человечество, культуру, за наши родные просторы… Да, да, и за них! Я старик и не боюсь сентиментальности.
Доктор так настойчиво называл меня героем, что мне даже стало не по себе. Потом он спросил, что слышно на фронте, и вдруг перешел в наступление.
– Снимай поскорее блокаду! – кричал он, как будто я мог сделать это один. – Почему вы позволяете этим мерзавцам, этим извергам торчать под Ленинградом? Ни приехать, ни уехать, а по воздуху мне нельзя: у меня сердечные явления.
Впрочем, я заметил, что доктор, хотя и очень похудел и осунулся, был чрезвычайно бодр и одушевлен. Меня удивила эта перемена. Только потом я понял ее.
До войны доктор сторонился большой работы, жаловался на старость и недомогание. А тут все переменилось.
– Сегодня даже оперировал, – рассказывал он, суетясь у печки. – Для ученого и врача интереснейшее время. Что происходит с болезнями? Они исчезают. Нет больше болезней в Ленинграде, Сашенька, есть только одна болезнь – голод! Но мы найдем управу и на нее.
Он был очень возбужден.
– Слыхал ты что-нибудь об «искусственных дрожжах? Дрожжи – белковое живое вещество. Осажденный Ленинград научился создавать его из сосновых опилок, вот из этого, – доктор пихнул ногой полено. – Дерево нельзя есть, но белковые дрожжи – это пища, это питание, это калории. Наука в осажденном Ленинграде продолжает свое дело, и я, старый ворчун, не перестаю этому удивляться… Должен тебе сказать, Саша: я очень рад, что не уехал.
– Бог с тобой, – перебила докторша, – опомнись!
– Да рад! – закричал доктор и застучал кулаком по столу. – Я сейчас действую, мне в конце концов надоело многое в моей прежней однообразной и малополезной для людей жизни… Я пойду в армию, у меня сыновья в армии. Работать я умею не хуже, чем они, лучше. Что вы мне кричите о голоде? Надо с ним бороться. Мы получили белок, надо синтезировать сахар…
С мучительным нетерпением, сжав зубы, чтобы не оборвать доктора, я слушал его монолог, который потом вспоминал с интересом. Воспользовавшись паузой, я торопливо объяснил цель своего посещения. Тетушка покачала головой и стала жаловаться, что цены на хлеб такие – просто срам, но на рынке все же можно купить хоть немного.
Я взломал один ящик. Из него поднялся чудесный, мирный запах нафталина. Он напомнил о том, как мать весной аккуратно пересыпала и складывала зимнюю одежду. Я вынул костюм отца, свой старый костюм. Под руку мне попалось белоснежное свадебное платье матери. Я взял и его. Мне не было жаль этих вещей, я знал, что и отец и мать одобрили бы мой поступок. Мне было немного жаль свадебное платье. Оно каким-то чудом не было продано двадцать пять лет назад, в дни гражданской войны. Мать его берегла. Отец смеялся, спрашивал: «Для кого бережешь, для Анки? Так ей не надо, комсомолки в бога не верят». У пояса и на плече на платье были маленькие белоснежные восковые цветы, свежие, как в дни нашего детства, когда сестра, будто зачарованная, любовалась ими. Она спросила у матери, как они называются, и мать ответила: флердоранж. У самого слова был чудесный запах апельсинов и миндаля, и сестре нравилось его повторять.
Почему я вспомнил об этих пустяках – и сам не знаю. Сложив все барахлишко в сверток и торопливо попрощавшись, я помчался, как мне посоветовали, на Кузнечный рынок.
Какое это было странное место! Самое здание рынка заперто. Золотые стрелки часов на синем циферблате, изображавшем небесный свод, остановились. На ступеньках рыночной лестницы дремала старушка в бархатном капоре, похожая на мощи; перед ней в снегу – севрская вазочка, две пестрые фарфоровые чашки, на коленях – голубое японское кимоно с красными птицами.
На воротах рынка висело несколько объявлений. На одном было написано: «Меняю кошку на дрова». В другом сообщалось: «Продается отрез на пальто, комод дубовый, зеркало в позолоченной раме – только на продукты». Особенно поразило меня третье объявление, энергичное и немногословное: «Срочно продается гроб».
Вдруг меня окликнул парень в полушубке, похожий на шофера.
– Продаешь что-нибудь, старшой лейтенант? – спросил он бодро и деловито.
Я стоял со своим свертком, и он, вероятно, присматривался ко мне.
– А ну, покажи!
Я протянул сверток. Он развернул его опытной рукой, брезгливо повертел костюм, осмотрел платье, перебросив его через левую руку и откинув голову набок, как делают фотографы, выбирая позу для клиента.
Мне был противен этот человек.
– Это что же, на невесту или на покойницу? – спросил он с интересом. – Ну да ладно, тебе все равно ни к чему. Бери буханку хлеба и триста граммов перловки. И не спорь, старшой лейтенант, много даю, никто больше не даст… Пошли, что ли?
У этого человека было широкое здоровое лицо, сиявшее на морозе румянцем, сообразительные глаза, в них горел огонек алчности, вдруг вырвавшейся на волю. Нет, он совсем не походил на тех людей, которые проходили мимо нас.
Он провел меня в подворотню: там стоял другой человек с мешком, в шинели и ушанке.
– Выдай этому гражданину хлеба буханку и триста граммов перловой.
Человек в ушанке хозяйственно сунул руку в мешок, протянул мне замерзший кирпичик и заготовленный сверточек с крупой. Пока он все это передавал, я смотрел на парня в полушубке, и мне хотелось избить его, дать ему по сытой морде. К сожалению, не было времени отвести его в милицию.
Когда я вновь проходил мимо старушки, дремавшей с голубым кимоно на коленях, она вдруг открыла в ужасе глаза и всплеснула руками:
– Сколько хлеба!
Я отрезал небольшой ломоть и протянул ей. Она не поняла, а когда поняла, снова всплеснула руками и, стараясь сунуть мне вазочку и чашки, быстро говорила:
– Почему же вы отказываетесь, молодой человек? Это александровские чашки, очень хороший фарфор. Да что же вы, в самом деле, я ведь не прошу, я учительница!
* * *
Вера жила на канале Грибоедова, среди путаницы тихих улочек и мостиков. Был пятый час, когда я прошел мимо Сенной площади. Уже стемнело, за городом громыхала артиллерия, в низком облачном небе загорались далекие зарницы. На площади завывал ветер, бросал в лицо снежную пыль.








