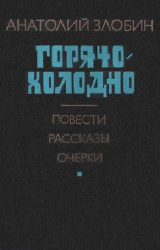
Текст книги "Горячо-холодно: Повести, рассказы, очерки"
Автор книги: Анатолий Злобин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 42 страниц)
Добежал до забора, остановился, перевел дух. Вахтер в проходной узнал его, с радостной услужливостью приоткрыл дверь, ведущую во внутренний двор.
– С благополучным прибытием, Семен Васильевич. Как там в Москве? Не жарко?
Он ничего не ответил, прошел на территорию стройки, сделал еще несколько шагов – и больше не смог. Поставил чемодан к ногам и, вытирая руками мокрый лоб, обвел блуждающими глазами знакомый двор.
Двое парней в синих комбинезонах вышли из конторы. Впереди шел Лычков, веселый щербатый парень. Лычков увидел Семена и сделал ногами антраша.
– Семен Васильевич, центробежный привет. Как поживают детки-семилетки? Каков прогноз гемоглобина?
Парни подошли. Лычков протянул пачку сигарет. Семен закурил, хотя во рту было горько и противно.
– Плотник на месте? – спросил он.
– Начальство пропагандирует спокойствие и порядок, – непонятно ответил Лычков, иначе он вообще не умел разговаривать.
– Пойду к нему, – сказал Семен, придавливая сигарету ботинком.
Плотник сидел за небольшим ученическим столом, отгороженным от комнаты невысоким барьером. Он увидел Семена и молча принялся собирать конторские книги и складывать их стопкой на подоконнике. Кроме Плотника в конторе была машинистка. Она на секунду перестала стучать на машинке и улыбнулась Семену. Машинистка эта давно нравилась ему, и, видя ее, он каждый раз жалел, что она работает здесь, а не в тресте. В другое время он никогда не вспоминал о ней.
– Прогрессивку привез? – спросил Плотник.
– Целый пуд, наверное, в вашей прогрессивке, будь она неладна.
– Не ропщи, – сказал Плотник. – Мы тебя тоже не обижаем.
Семен помолчал, а потом стал растерянно оглядываться и рассматривать пустые руки. С отчаянным гиканьем в контору ворвался Лычков, в руках у него был чемодан.
– Вива Куба! – закричал он и протянул чемодан над барьером. – Тяжел, бродяга. Всемирный закон тяжести.
– Давай, давай, – сказал Семен, принимая чемодан. – С этим не шутят.
– Запись на процедуры продолжается, – изрек Лычков и метнулся к двери.
– Чтоб в порядке. Не толпиться, – сказал Плотник вслед.
Плотник был строгим, прижимистым прорабом, и его участок шел одним из первых по тресту. Это он, Плотник, предложил Семену привозить сюда деньги. После того как участок неожиданно и срочно выбросили за город на строительство нового цеха. Плотник увидел, что каждый месяц теряет на этом почти два полных рабочих дня. Раньше строители ездили получать заработную плату в Москву, где осталась бухгалтерия и касса. Плотник упорно ругался с управляющим, пока тот не заявил, что закроет глаза, если прораб сумеет договориться с кассиром. Плотник умел договариваться и Семен согласился.
Семен сел за стол на место Плотника, разложил свои премудрости: платежную ведомость, пачки денег, мешочки с монетами. Пристроившись у окна, Плотник заполнял какую-то сводку.
По двое, по трое в контору входили рабочие. Вставали у барьерчика, расписывались в ведомости, которую протягивал им Семен, получали деньги и уходили. Машинистка кончила стучать и встала у барьера рядом с высоким красивым брюнетом со сросшимися бровями, крановщиком Зурабовым. Семен знал, что Зурабов приударяет за машинисткой, и ему захотелось причинить какую-либо неприятность этому красавчику.
– Бюллетень поздно сдали, – сообщил Семен. – Бухгалтерия не успела учесть.
– Не к спеху, – ответил Зурабов. – Как-нибудь перебьемся.
– Надо в срок, – продолжал Семен. – Все по танцам, наверное…
– Я же сказал, не спешу. Вам-то что?
– Шестьдесят три сорок восемь, прогрессивка тридцать три четырнадцать. Итого к получению, – Семен быстро пощелкал на счетах, – девяносто пять рублей шестьдесят две копейки. Прошу.
Зурабов небрежно и неумело сунул деньги в карман комбинезона и с выражением посмотрел на машинистку. Наконец он убрался из конторы.
– Здрасте, Верочка, прошу, – говорил Семен, заглядывая в ведомость и одновременно ловко орудуя счетами. – Тридцать два сорок плюс восемнадцать тридцать. Итого сорок девять семьдесят. Какими желаете?
– Возьмите тридцать копеек, а мне дайте пятьдесят рублей.
– Для вас, Верочка, все что угодно.
– Спасибо, – Вера взяла деньги, села за свой столик, достала бутылку кефира, булку и принялась за них.
Лычков ворвался в контору с ватагой парней.
– Я лидер, – заявил он и встал у барьера.
– Не шебурши, – сказал Плотник, не отрываясь от писанины.
Семен побубнил немного, пощелкал на счетах, отсчитал деньги для Лычкова. За ним стоял крепкий, коротко стриженный парень в матросской тельняшке. Семен внимательно посмотрел на парня, он еще ни разу не выдавал ему заработной платы. Парень заметил испытующий взгляд Семена, несколько смущенно улыбнулся в ответ.
– Новенький? Фамилия? – озабоченно спросил Семен.
– Круглов И. В., – сказал новенький. – Обучен.
– Круглов, Круглов. – Семен провел пальцем по ведомости. – Вот. Сорок три и двадцать один сорок три. Итого шестьдесят три сорок три. Прошу… Следующий, – сказал Семен.
Пришла жена заболевшего рабочего. Семен выплатил ей деньги по доверенности. Подошел вахтер. Долго считал деньги, вел разговоры о погоде.
Дело шло к концу. Семен побросал в чемодан пустые мешочки, сложил ведомость, убрал остаток денег в бумажник.
Он с удовольствием поднял пустой чемодан и подержал его на ладони. Чемодан был легкий и крепкий – именно такой и нужен для этой работы.
– К зиме сдадим объект, – сказал Плотник, глядя на чемодан. – Пришло письмо из треста. Обещают подбросить материалы, сокращают сроки. Так что уж недолго тебе.
– А мне не к спеху, – весело ответил Семен, вставая и помахивая пустым чемоданом. – Люблю бывать на свежем воздухе. В Москве духотища, а у вас воздух свежий.
– Молодец ты, Семен Васильевич! На днях приеду в трест. Тогда посидим.
– Это принимается. Кстати, как бы не забыть, – Семен повернулся в дверях и посмотрел на Плотникова. – В следующий раз приеду, наверное, попозже. Дела будут в городе.
– Ладно. Я своих предупрежу.
– Вот, вот, предупредите. – Семен не решил еще, каким поездом он поедет в следующий раз, может, позже, а может быть, и раньше. Важно лишь, чтобы никто не знал, когда он собирается выехать.
Семен Никульшин вышел из конторы, пересек двор, прошел через проходную. Остановился, закурил папиросу и зашагал по дороге на станцию, облегченно и радостно думая о том, что не надо никуда спешить, не надо оглядываться и вздрагивать при виде какой-нибудь серой кепки, не надо думать о чемодане и хвататься за кастет – в запасе у него целых две недели, а если быть точным до копеечки, целых шестнадцать дней, потому что в этом месяце тридцать одно число – целых шестнадцать дней свободной жизни, и ничего не надо – надо только позвонить жене с вокзала, чтобы она не беспокоилась о нем на целых шестнадцать дней вперед.
<1966>
СКОРЫЙ ПОЕЗД
Мы ехали на курорт.
Поезд был курьерский, он делал редкие короткие остановки, давал сильные гудки, плавно и быстро набирал разбег, и мы радовались его хорошему скорому ходу.
– Подумать только, через тридцать часов будем у моря. Будем жить в саду и брать виноград прямо с ветки, есть свежие овощи из огорода, валяться под солнцем. Из осенней дождливой Москвы перенестись к морю. Чудесно и удивительно. Подумать только.
Она говорила не переставая. Маленькая стройная женщина с широко раскрытыми мечтательными глазами, с медлительными плавными движениями. Она говорила о море, о детском воспитании, о дрейфующих полярных станциях, о музыке – и обо всем восторженно и взахлеб, а «подумать только» были ее любимые слова.
Ее муж лежал на полке с книгой и почти не разговаривал после того, как прошел по вагону и с горестным видом доложил нам, что никто не играет в преферанс. В общем, мы считали, что нам повезло с соседями; только бы Вера Николаевна говорила чуть поменьше, и все было бы идеально.
В конце концов моя жена не выдержала, извинилась перед ней и забралась на верхнюю полку отсыпаться после тяжелых операций, которые ей пришлось вести в больнице весь последний месяц перед отпуском.
– Да, да, – живо сказала Вера Николаевна. – Пора начинать отдых. Ведь мы едем в такую прекрасную страну, где главное занятие состоит в том, чтобы ничего не делать. – Вера Николаевна была учительницей, поэтому она все объясняла.
А поезд неуклонно стремился вперед, в туманную пелену дождя. Незаметно подошел вечер. Мы выпили по стакану чая, который принес проводник в белой куртке, и стали укладываться на ночь. Полка мягко покачивалась в ритме движения вагона и убаюкивала, слышались долгие сильные гудки локомотива, мчавшего нас вперед, внезапно набегающий и плавно уходящий назад шум встречных поездов. Я слышал во сне гудки, и мне снился наш поезд, летящий вперед сквозь ночь. И на лбу локомотива горит ослепительный фонарь, разрывающий темноту.
Утром меня разбудило яркое солнце, бившее в окно. Поезд только что отошел от станции и набирал ход. Соседей в купе не было. Моя жена расчесывала волосы. Она увидела меня в зеркале и улыбнулась.
Зеркало с шумом сдвинулось в сторону. В дверях остановилась Вера Николаевна, в халате, с мыльницей в руках.
– Ах, простите, пожалуйста. Я не знала, что вы заняты туалетом. Вы просто не представляете, как я расстроилась. Подумать только, мы опаздываем уже на сорок минут.
– То-то мы стояли ночью, – сказала моя жена, зажимая губами шпильки.
– Вы тоже почувствовали это? Я три раза просыпалась оттого, что мы стоим. Но посмотрите, какое здесь солнце. В Москве никогда не увидишь такого солнца. И вот теперь у нас отнимают сорок минут солнца и моря, и мы бессильны перед этим.
– Дыни, дыни, – послышалось в коридоре, и в купе вошел муж Веры Николаевны с сумкой в руках. Он опрокинул сумку, и круглые желтые дыни раскатились по полке.
– Какие замечательные дыни, Юрик. Просто прелесть.
– Прошу отведать, – он сделал приглашающий жест рукой.
– Спасибо. После чая непременно, – сказала моя жена.
– Нашел одного партнера. Может, вы все-таки составите компанию для пульки. Все равно поезд опаздывает. Скоротаем время.
– С удовольствием. Но я не умею.
– Одна хорошая пулька, и не заметишь, как ты уже приехал, – он явно не верил мне.
– Он в самом деле не играет в преферанс, Юрий Петрович, – сказала моя жена, взяла полотенце и вышла из купе.
Поезд замедлил ход, с одной стороны замелькали красные прямоугольники вагонов. Вера Николаевна испуганно посмотрела в окно.
– Так я и знала, – сказала она. – Мы выпали из графика и будем теперь простаивать на каждом разъезде. Отставание будет увеличиваться.
– Дыни, – крикнула моя жена, появляясь в дверях.
Но поезд уже набирал ход, и женщины с дынями лишь мелькнули в окне.
На следующей станции мы выбежали с Юрием Петровичем и набили сумки тугими круглыми дынями. Теперь дынь в купе набралось столько, что их пришлось перекладывать на верхние полки, чтобы они не мешали сидеть. Поезд быстро двигался по нескончаемой плоской равнине.
– Может, мы еще войдем в график, – сказала моя жена.
– Я просто не верю в такое счастье, – обрадованно подхватила Вера Николаевна. – Вы не представляете, как я истосковалась по морю. Я решила еще в Москве – сразу с поезда брошусь в море. И теперь мое счастье откладывается на сорок минут.
– Ах, Вера, брось убиваться по пустякам, – сказал ее муж.
По коридору прошла высокая тонкая девушка, неся на ладони необыкновенно желтую дыню. Девушка машинально заглянула в наше купе и вдруг широко заулыбалась:
– Вера Николаевна, дорогая, вы тоже на юг? Как я рада, что вижу вас.
Вера Николаевна посмотрела на девушку и снова опустила голову.
– Увы, мы опаздываем, – только и сказала она.
– И вы знаете почему? – девушка вошла в купе, поздоровалась. – Как? Вы не слышали? Ничего не слышали? Перед самым Харьковым наш поезд переехал двух человек. От этого и случилась задержка.
– Что вы говорите? Не может быть? – воскликнула Вера Николаевна.
– Я знаю точно. Муж и жена. Он был пьяный и не хотел уходить с рельс. Жена бросилась за ним, когда увидела поезд, и погибла вместе с ним. И мы стояли, пока суд да дело. Но мне начальник поезда сказал, что мы нагоним расписание. Мы едем в девятом вагоне, приходите к нам, Вера Николаевна. Мы взяли с собой Олечку. Обязательно приходите, – и она ушла, унося на ладони свою необыкновенную дыню.
– Какой ужас, подумать только, – сказала Вера Николаевна.
Мимо прошел проводник с пустым подносом.
– Товарищ проводник, – позвала моя жена.
Проводник вернулся и просунул голову в купе:
– Желаете чаек? Сколько принести?
Жена смотрела на меня.
– Говорят, ночью, перед Харьковым, был несчастный случай. Это правда? – спросил я.
Проводник опустил поднос и с готовностью вытер руку о фартук:
– Пьяный один шел по путям. А может, не пьяный, а старик, теперь уж все равно. И с ним девочка лет двенадцати. Домой его вела, наверное. А мы как раз им навстречу. Они и растерялись от яркого луча. Девочка потащила его в сторону и в аккурат на наш путь. Тут уж ничего не поделаешь. Их при мне вытаскивали из-под третьего вагона. Так я отвернулся. На такое лучше не смотреть.
– Так вот почему мы опаздываем, – сказал муж Веры Николаевны.
– Может, нагоним еще. Будете пить чаек? Сколько принести?
Мы что-то сказали ему, и он ушел, звякнув подносом об угол. Вера Николаевна задвинула дверь.
– Какая нелепая смерть, – сказала она.
– А ты не напивайся, – сказал ее муж.
– Нет, Юрик, ты неправ. Ты не представляешь, как это трагично. Отец и дочь – сразу. Девочка двенадцати лет, как наш Витенька. Ужасная трагедия.
– Я все-таки думаю, что он был с женой. Ведь было очень поздно, сказала моя жена. – Проводник же сказал, что он не видел.
– Нет, нет, это была девочка. Я чувствую.
– Какая разница, Вера, дочь или жена. Не все ли равно.
– Как ты не понимаешь этого, Юрик? Я просто удивляюсь, как вы, мужчины, все-таки грубо сделаны.
– И вообще, стоит ли так расстраиваться. Если все начнут расстраиваться из-за каждого несчастного случая…
– Да, да, – перебила Вера Николаевна. – Как ты не понимаешь? Мы ведь едем на курорт… А тут темная ночь и ослепленные поездом люди – это ужасно.
– Что ужасного, что мы едем на курорт? – с раздражением сказал Юрий Петрович.
– Неужели человек не может быть счастлив просто так, чтобы не переезжать чужие жизни.
– Вера, прошу тебя. Твоя философия неуместна. Зачем с самого начала отравлять себе отдых?
Моя жена посмотрела наверх.
– Товарищи, давайте есть дыни, – сказала она.
– Вот это дело, – обрадовался муж Веры Николаевны.
Я встал и выбрал самые крупные и желтые дыни. Юрий Петрович разложил на столике газеты и разрезал дыни пополам, обнажая спелую мякоть. Он ловко очистил половинки от зерен, разрезал их на лунные дольки и дал нам.
– В самом деле, – сказала Вера Николаевна, – хватит об этом. Ведь уже сегодня мы будем у моря и там забудутся все наши заботы и печали. Вы не представляете, сколько проблем было у меня в школе перед отъездом. Но теперь все останется позади.
– Вот именно, – сказал Юрий Петрович.
– Отличная дыня, – сказала моя жена.
– Необыкновенная, – подтвердил Юрий Петрович.
– Вкуснее, чем ананас, – сказала Вера Николаевна.
– Купим еще, Вера, да? – сказал Юрий Петрович. Он уже кончил резать вторую дыню. – Прошу, эта тоже не хуже.
– Лучшая дыня сезона, – сказал я. – Счастливая дыня.
Жена посмотрела на меня и улыбнулась.
– Простите, у вас есть дети? – спросил вдруг Юрий Петрович.
– Нет, а что?
– Мы только перед маем поженились, – сказала жена.
– А познакомились в прошлом году, в поезде, когда возвращались с юга, – сказал я.
– И вместе покупали дыни на станциях, – сказала жена.
– И теперь опять дыни, – сказал я, глядя на жену.
– Прелестная дыня, – сказала Вера Николаевна, – я давно не ела таких дынь. Отрежь мне еще кусочек. Я думаю, это не будет вредно для меня.
В окно било сверкающее утреннее солнце. Поезд упруго мчался вперед, нагоняя расписание. Мы ехали к морю.
<1961>
РАССКАЗ НА ЧАЙ
Любил я речи держать, но теперь в моем состоянии перемена – помалкиваю в синтетику, в тряпочку то есть. А молчать мне тяжело и нерентабельно. Тяжело, ох как тяжело, потому что помню я золотые денечки и громогласные речи. А нерентабельно по чисто персональной причине: если я в данной ситуации не раскроюсь, не узнают наши счастливые потомки, отчего моя биография переменилась и что не всегда я существовал в теперешнем состоянии, а вовсе даже наоборот. Поэтому и решаюсь.
А чтобы рассказ лучше следовал, мне на чай полагается сто пятьдесят с прицепом. От селедочки натуральной тоже не отрекусь: всякая закуска на пользу существованию. При таком наличии я свою автобио раскрою до предела, ничего за пазухой не утаю.
Я человек коллективный, из народной массы. У меня трудовая книжка, характеристика с плюсом, почетная грамота в красной рамке. Семья, разумеется: мать-старушка, жена, из загса приведенная, потомство в виде двух слюнявчиков, квартира с видом на сады и огороды – все как положено. Проживаем с женой на общей площади дружно: в разводе не состоял, в судах не проявлялся. Такая у меня автобио, по всем пунктам на вершину тянет.
Образования, правда, высокого не проходил. Мое ученье на героическую разруху пришлось. Отец как убыл с эшелоном на запад, так и остался там в неизвестных солдатах. Получили мы похоронную – что предпринять? Мать сначала крепилась, а потом вывела меня из пятого класса, повезла на заводскую территорию. Так я окончательно определился при рабочем классе. Пять лет проработал в энском цехе по высшему разряду, в начальство вырастать стал, в бригадиры то есть. В комсомол бумагу подал, ни одного собрания не оставлял без внимания. Возвышался на трибунах. Трибуна меня всегда к себе притягивала. Как выйду к графину, рот сам собой раскрывается. Говорил как по писаному, но в бумажку, заметь, взоров не бросал: от души изливался. В комитет меня за мои речи произвели. А там дела всяческие в наличии, и все больше по морально-бытовой горизонтали. Если кого провернуть в мясорубке требуется, секретарь сразу ко мне:
– Выручай, Гена.
А чего просить. Я всегда начеку. Я человек крепкой моральности: жена, дом, дети – все должно существовать в единственном виде. В рот я тогда не брал. Это я сейчас отклонился, но жена занимает в данном вопросе трезвую позицию. Иду, значит, на трибуну громыхать по моральному пункту, аплодисменты вкушаю. На перевыборах лучшие трудовые голоса собирал, а они ведь, как из демократии явствует, тайные, задушевные.
Вот какая линия горизонта раскрывалась перед моей персональностью. И на этом самом месте произошел со мною поворотный момент. Переводят наш энский завод в энском направлении. Желаешь – следуешь за ним, вторая реальность – расчет. Сел я, склонил над мыслями голову. Мать при почтенном возрасте. Жена докладывает, что в скором периоде я отцом семейства повторно произрасту. И взял я второй вариант – надо искать новое трудовое пристанище.
Живет в нашем дворе дядя Гриша, телефонный мастер. Забиваем как-то вечером козла. Раскрываю ситуацию. Дядя Гриша ус кверху превознес.
– Отказался, выходит, осваивать энские просторы. В столице решил фигурировать?
– Имею ближнюю перспективу.
– Правильное направление. Налицо как раз для тебя подходящий проект. Пока что вакантный.
– В точку, дядя Гриша.
Он свой ус превозносит:
– Так, так. В столице, выходит, пребывать хочешь? С премией?
Подтверждаю.
– Я тоже жить хочу. Надеюсь, ты понимаешь, дорогой Гена?
Я парень прямолинейный:
– Сколько?
Дядя Гриша посветил на меня глазом, еще выше ус крутит:
– Жалко мне тебя. Молодой ты парень, да прямой слишком. В комсомоле, предчувствую, состоишь?
– Имеются возражения?
– Голосую «за». На здоровье. А вот комсомол, предчувствую, будет иметь возражение, если магарыч придется демонстрировать.
Я свою индивидуальность проявляю:
– Сколько?
Дядя Гриша усом развлекается:
– Ты своей прямотой не зазнавайся. Я легкой дороги тоже не искал. Работа наша труднодоступная, психологическая. Еще неизвестно, какой ты работник в данной отрасли окажешься?
– Характеристику от народного контроля предъявить?
– Учти, я тебя предостерег. А решение сам принимай.
Пошел я в родной комитет прощаться – так, мол, и так: жена, дети, сосуды, пеленки. Ну, что ж, говорят, Геннадий Сизов, следуй, уговаривать не станем. И ушел я – дверь за собой прихлопнул. Если б ведал я в предстоящем времени, что мне от этого будет…
Таким маневром получил я на заводе расчет, характеристику громкую и принял трудоустройство на телефонной станции, автоматику местную в ремонт производить. На моем секторе никаких чепе, связь со всеми лицами действует безотлагательно. Работал неизменно с превышением, снова родные премии ко мне возвратились. Скучновато, правда, при современном уровне: кругом сплошные автоматы щелкают, стрелки двигаются в разнообразных направлениях. Людей буквально не чувствуется на фоне таких грандиозных достижений. Только и мыслишь, как бы в курилку сбалансироваться для общения живых личностей.
Но тут жена моя недовольство напоказ выставляет. Вообще-то она у меня во всем солидарная с моей персональной и общественной линией жизни, а тут на нее буквально беспокойство нагрянуло.
– В чем конкретная причина? – проявляю интерес.
– Шел бы ты, Геночка, на завод. Мужчина непременно при коллективе состоять должен. Без коллектива мужское начало не действует.
– Станция – не коллектив? Мои лучшие друзья автоматы, мои верные ученики – приборы. И стрелки опять же вращаются.
– Ох, предчувствует мое сердце, Гена, поникнешь ты без коллектива. Дядя Гриша к хорошему тебя не приобщит. Он уже маме намекал, что скоро тебя участковым мастером произведут – магарыч стряпайте…
– Подобные предчувствия меня отвлекают, а мне безгонорарную заметку в стенгазету «Красный автомат» поручено сочинить.
Перестала она меня отвлекать, не приводит больше доводов, но по глазам читаю – я ей своего не доказал. Эх, скоро обнаружил я ее глубокий взгляд в действии.
Проследовало, как пишется, некоторое число времени. Зовет меня в кабинет наш автоматный начальник и сообщает, что ввиду личных трудовых успехов с завтрашнего числа переключаюсь я на самостоятельную деятельность и принимаю на свои плечи всю материальную ответственность за вверенный участок. Материальную – повторяет. Чтобы я досконально понял.
Ладно. Утром завтрашнего числа перебросил я трудовую сумку через плечо и отправился со станции в мой новый производственный маршрут. У подъезда дядя Гриша стоит, усами развлекается.
– Поздравляю с самостоятельным начинанием.
– Спасибо, дядя Гриша. Вы в каком направлении действуете?
– Ох, парень, молодой ты, а такую работу труднодоступную получил. Рано зазнаешься.
– Вам налево? Мне в правое направление.
– Замри, Гена. Ты парень прямолинейный, да я не кривее тебя.
– Был прямолинейный, стал мастер релейный…
– Чего зубы выказываешь? Я тебе предупреждение ставлю. На первых шагах тебе трудно будет с непривычки – предсказываю данную ситуацию. Но ты не омрачайся – терпи в материю. А когда трудности невмоготу станут, прибывай ко мне. Я тебя приму и утешу.
– Мне омрачаться некогда. Нас с пеленок к трудностям приобщали. Такое наше государство. Мы преодолеваем данное состояние.
– Ох, парень. Еще прибудешь ты ко мне, сизый голубь – вороное крыло.
– Вам налево? У меня правое направление. Магарыч предстоит в середине. Справки по телефону ноль девять.
И разошлись.
На улице дождик проявляется. По этому поводу я в сапогах, в венгерском плаще «Дружба» за тридцать пять целковых. На боку сумка казенная трудовая. Направляюсь бульваром. Деревья склонились, листья упавшие к мокрым скамейкам прилипли – все имеет печальный вид осени. Я же со своей наличностью двигаюсь, посвистываю – новый путь существования прокладываю.
Кратковременно я посвистел. Закругляюсь во двор, шествую на второй этаж. Квартира номер семь. Дверь в приоткрытом состоянии. У стены стоит фифа мазливая, дублирует себя в зеркало и губы штукатурит. Здравствуйте вам, пришел аппарат устанавливать согласно назначению. Она указала место действия и возвышается около, наблюдение ведет, как бы я в трудовую сумку чего не спрятал из ее персонального имущества. Ладно, я претерпеваю, дядю Гришу в памяти воспроизвожу.
– Аппарат в действии. Распишитесь в соответственном месте.
Она к телефону. Диск крутит:
– Верочка – ты? Представь себе, я говорю из своего аппарата. Только что привели в действие, я даже номера не изучила.
Я вежливо так вливаюсь в ее монолог:
– Распишитесь в трудовом документе, гражданочка.
Она что-то прозвучала в трубку и рисует закорючку. И вдруг сует мне бумажку мятую. Гляжу – подала она мне три рубля в новом выпуске. У меня в артериях кровь закипела:
– Прошу принять обратно. Противоречит действительности. Мы к такому не приучены.
А она:
– Как вы не понимаете? Это вам на чай.
И в трубку обращается:
– Нет, Верочка, это я не тебе произношу. Я с мастером имею общение. Замечательный мастер. Моментально телефон привел в движение. Рижская марка, красного цвета. Я буквально слова растеряла… Понимаешь, Вера, я хотела тебя спросить. По секрету…
И мне своими бессовестными пальчиками воздушные поцелуи адресует, чтобы я убирался в предыдущем направлении и не мешал ее космическим секретам.
Выдвинулся я на площадку, на денежный знак устремляю бессильные взоры. Мятый он, сырой – ну просто искажен до неузнаваемости, видно, она его в кулаке истребляла, пока я работу выполнял, а потом и сунула в заданном размере.
Стою я перед дверью ну буквально в потном состоянии. За что она так? За что пролетарского человека принизила прямо в лужу? И вынужден я молча переносить подобное обстоятельство и мысленно воспроизводить дядю Гришу. А она за дверью щебечет, заливается синей пташечкой: осчастливил я ее до невозможности.
Сунулся я к почтовому ящику, хотел сделать туда денежное вложение – но наблюдаю такую картину: нижняя задвижка отломана, газетка там еще кое-как поддерживается, а деньги мои непременно окажутся без точки опоры и выпадут под ноги случайному проходимцу. Потом следую логически: деньги-то мои, зачем их в ящик влагать, лучше я дяде Грише магарыч отсюрпризю после такого перенесенного оскорбления.
Тем временем маятник тикает: на работе для общества личные переживания запрещены законом. Поднимаюсь на четвертый этаж. Наступает новый трудовой момент. В нем действует паренек с книжкой, по бородатой внешности студент. «Телефон, докладывает, испортился, почините, пожалуйста. Мы слышим, а нас не слышно. И продувания не ощущается».
Провел я в студенческих апартаментах две минуты, закопировал мембрану – аппарат на полный голос. И продувание ожило, порядок на телефонном транспорте. Студент книжку отложил и мнется вокруг моей персоны. Я уже предчувствую будущее. А он все кружится как пластинка.
– Понимаете, такое положение. Я должен обстоятельно извиниться перед вами. Мама оставила для вас два рубля, а я еще вчера имел неосторожность условиться относительно кино с известной особой другого пола, пришлось некоторое количество денег пожертвовать на билеты. Вот все, что осталось в наличии.
И протягивает мне один рубль и два пятачка медных. И в карман лезет, чтобы билеты продемонстрировать. Но я уже над ним верх держу.
– А вдруг особа другого пола внесет в повестку дня предложения относительно конфет или сока манго? Что в такой ситуации будет?
Смеется.
– Этого я не предусмотрел.
– От моего лица сделайте ей пролетарское подношение.
Он деньги в карман скрывает, благодарит от лица известной особы. А я торжествую над дядей Гришей: не такая уж труднодоступная моя работа, как он прорицал.
Вышел на дождик, снова посвистываю. Следующий пункт трудовой деятельности – конструкторское бюро. Можно трудиться без опасения: тут коллективный процесс, товарные отношения производятся по безналичному расчету. Привел в соответствие три аппарата, с чертежницами культурно побеседовал на тему свободной личности при коммунизме – все как полагается при исполнении.
Беру маршрут на частную квартиру. На двери медная табличка – профессор Сережкин, половые расстройства. Звоню без опаски, не станет же такой высокоразвитый представитель духовного общества обижать рядового представителя рабочей диктатуры?
Вступаю.
Квартира соответственная, везде фигуры фарфоровые возвышены, картины на стенах расположены – общественный музей в домашнем состоянии. Прикидываю, как среди таких фигур ориентироваться, чтобы не повредить во время трудового действия.
Потом он сам прибывает – профессор в персональном виде, хоть и мелковат для такого звания. Усох в натуральную величину. Он мне сразу пришелся: над массами не возвышается, все сам произносит:
– Мы приняли резолюцию переставить телефон. Дочь возросла, и я вынужден менять жилую территорию, создаю новый трудовой кабинет. Да, да, молодой человек, вы тоже будете действовать по моим стопам, когда вашим детям потребуются жизненные просторы. Но мой телефон пребывает со мною. Поэтому будьте любезны, скидавайте свой плащ «Дружба» и следуйте в эту комнату. Как вы думаете осуществлять проводку?
Работу я провел аккуратно – красным шнуром по бордюру. Профессор почмокал, руку жмет.
– Начало положено. Завтра будем перемещать мебель. А послезавтра и сам передвинусь. Жизнь течет по своим вечным закономерностям.
«Данный случай обойдется платонической нотацией», – так я про себя, конечно, размышляю, сам же в молчании слушаю.
Он голос подает:
– Ритуля! Можно тебя на минуточку.
Прибывает его старушенция в чепчике, руку преподносит и сообщает, что рада познакомиться с моими инициалами.
– Прошу тебя, Ритуля, принеси мой рабочий пиджак.
Ритуля доставила профессорский пиджак, отбыла на кухню. Я молча веду наблюдение за пиджаком. А он достает оттуда пять рублей и протягивает их в направлении моей личности. Да так, что мне еще предстоит два шага совершить, чтобы их принять. А у меня ноги к паркетному полу приросли. Я принял застывший вид, только головой мотаю. Профессор Сережкин тоже бородкой задвигал, между нами, по науке говоря, полный резонанс наблюдается. Но он ко мне не приближается.
– Неблаговидно, молодой человек – и весьма! Вы исполнили трудовой процесс. Я его оцениваю в денежном выражении. Между нами совершается взаимный обмен, и в этом не может быть ничего унизительного для человеческого сознания. Извольте получить.
Профессор стоит с протянутой рукой, бумажка свесилась с ладони и планомерно покачивается от дуновения. А я стою без движения – ну просто не в состоянии.
Он строго продолжает линию:
– Завтра у вас заболеет ребенок. Вы позвоните мне по телефону, который вы же смонтировали в моем кабинете. Я тотчас прибуду по вашему вызову, произведу заключение, назначу курс. Вы, естественно, предложите трудовой гонорар за мое исполнение. И я, представьте на минуту, не возьму. В таком случае вы вправе предпринять обиду. Так зачем же вы обращаете обиду на меня, ошибочно полагая, что я обижаю вашу личность. Спору нет, вы еще в молодом состоянии. Я тоже в первые моменты краснел и опускал взоры, когда мне осуществляли гонорар за визиты. Но с годами явилась ко мне простая жизнеутверждающая мудрость: всякий труд суть товар, и он нуждается в материальном выражении. Так зачем вы хотите нарушить связь времен?







