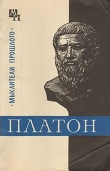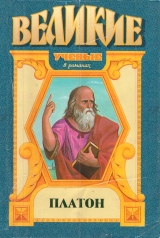
Текст книги "Платон, сын Аполлона"
Автор книги: Анатолий Домбровский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
– Если между нами тремя такая связь, что мы и умираем в названном порядке, то следующим буду я, – сказал Сократ, скорбя по умершим.
Третьим важным известием было то, что афинский флот нанёс сокрушительный удар спартанцам при Аргинусских островах близ Лесбоса. Этому можно было бы только радоваться, когда б не одно печальное обстоятельство. Приключившаяся в день сражения буря разметала афинские триеры, двенадцать из которых тут же утонули. Трупы матросов и гребцов выбросило на берег, но к нему из-за бури невозможно было пристать. Погибшие остались не похороненными вопреки древним отеческим законам. Всю вину за случившееся афиняне, однако, возложили не на стихию, а на стратегов, руководивших роковым сражением. Им было приказано срочно возвратиться в Афины, чтобы предстать перед судом Народного собрания. Ожидалось, что наказание будет суровым. Из восьми стратегов в Афины возвратились шесть – двое бежали, боясь возмездия. Среди готовых понести кару был сын покойного Перикла – Перикл-младший. Все знали, что на смертном одре отец просил Сократа заботиться о своём сыне и наставлять его на путь разума. Сократ видел, как любимого подопечного вели в тюрьму, и плакал, не имея возможности вмешаться.
Эврипида похоронили на Саламине, Софокла – в Колоне близ Афин, а несчастных стратегов отравили в тюрьме и трупы раздали родственникам. Нашлись родные и у Перикла-младшего, хотя мать его Аспасия уже давно покоилась на кладбище за Священными воротами. Род Алкмеонидов ещё не оскудел. В тот день, когда Народное собрание огульно осудило стратегов на смерть, едва не оказался приговорённым к казни и Сократ. Жизнь его уже висела на волоске, и только чудо уберегло его от порции яда. Народное собрание забыло проголосовать за его приговор, а в список осуждённых стратегов он не был включён. Вина Сократа, возбудившая гнев Собрания, состояла в том, что накануне, будучи эпистатом Совета Пятисот, он воспротивился и не вынес на голосование Совета предложение Ферамена о предании стратегов суду Народного собрания. Совет принял предложение Ферамена уже на следующий день, когда эпистатом стал другой притан, Сократа же обвинили в пособничестве преступникам.
– Впервые за всю жизнь я занялся государственными делами и не смог добиться справедливости: виноваты не стратеги, виновата буря. Если бы я мог остаться эпистатом Совета ещё несколько дней, я бы умерил неправедный гнев афинян, – уверял друзей Сократ.
Но эпистатом Совета Пятисот представитель филы, которых в Афинах было десять, мог стать лишь один раз в году.
– Не зря мой демоний не велит мне заниматься государственными делами, – сокрушался Сократ. Не то его угнетало, что он едва не оказался среди казнённых стратегов, а то, что не смог помочь им. – Правду говорят: афиняне знают, как поступать правильно, но почти никогда этого не делают. Когда собрание орёт, оно не мыслит.
Узнав, какому риску подвергал себя Сократ, Платон заболел. Эту болезнь не вылечить травами, растираниями или заклинаниями. Платона поразило духовное онемение. Он чувствовал, как превращается в камень, нечто неподвижное и безжизненное. Его сковал страх потерять Сократа, страх мистический, тайный, внушаемый демонами смерти. Ему думалось, что души его и учителя так связаны, так срослись, что не разделятся после смерти одного из них, что, отлетая, душа казнённого Сократа вырвала бы из тела и его, Платонову, душу.
Он несколько дней не выходил из дому, лежал, глядя в потолок, напугал своих братьев, и они, узнав причину его болезни, позвали Сократа, упросив его поговорить с больным. Сократ сразу же пришёл и, присев на край постели Платона, сказал:
– Калликсена, который громче всех кричал, требуя моей казни, вчера на Агоре забросали камнями и сырыми яйцами. Я отомщён. Хотя. – Сократ тяжело вздохнул, – главного не исправить: стратеги погибли. Афины бездумно расправляются со своими лучшими сыновьями. Так мы потеряем всех.
– Что же делать? – спросил Платон.
– Я много раз задавал себе этот вопрос, Платон. И вот мой ответ: душа должна трудиться, бодрствовать, быть в поиске, постоянно вопрошать себя и богов о том, что благо и что зло. А мы, кажется, заняты только тем, что усыпляем её, убаюкиваем, избавляем от всяких хлопот. Много едим, много спим, утопаем в роскоши, безделье, гоним от себя прочь всякие заботы, развлекаемся, наслаждаемся. Вот что мы ищем, полагая, что это и есть благо. Так и умираем, не обогатив душу ни одной истиной, достойной вечности. Великий Эмпедокл, если помнишь, говорил: мы едим так много, словно завтра умрём, а дома строим так, словно будем жить вечно, ничего, впрочем, не зная ни о смерти, ни о вечности. А что знаем, так и то нам не на пользу. Одной дикарке подарили благовония, а она их выпила. Так и мы: употребляем знания не по назначению, а по привычке – пьём благовония.
– Что же нам делать, Сократ?
– Нам, философам, следует уподобиться осам: летать и жалить дремлющие души. Говорят, что твой дядюшка убежал в Фессалию, едва узнав, что раскрыты его тайные переговоры с Алкивиадом, – вдруг изменил тему разговора Сократ. – Знаешь ли ты, о чём они договаривались?
– Думаю, всё о том же, – ответил Платон, – как отнять власть у демагогов.
– У народа, – уточнил Сократ.
– У демагогов или у народа – ведь это одно и то же. Ты сам, кажется, говорил, что большинство не может управлять государством, потому что большинство – это посредственность. А меньшинство – это либо наилучшие, либо наихудшие. Их не всегда отличишь друг от друга, потому что зло рядится в одежды добра. Как избавиться от зла, если мы не можем избавиться даже от посредственности, Сократ? Тут осиные уколы, думаю, не помогут: ведь по-настоящему зло творит тот, кто знает, что делает. Прочие же поступают дурно по незнанию.
– Убеждённых злодеев, думаю, следует разоблачать и предавать суду.
– Таков мой дядя Критий. Но разве пристало мне, его племяннику, так поступать с ним?
– Нет. Достаточно не следовать его убеждениям, – сказал Сократ и встал.
– Ты уходишь, Сократ? Побудь со мной ещё, – попросил Платон.
– Да ведь я с некоторых пор всегда с тобой, – ответил с улыбкой учитель. – Разве ты не заметил?
– Это так, – согласился Платон и почувствовал, как оцепенение отступает, отпускает его. Да, их души сроднились, сплелись, как сплетаются корнями деревья, но кроны порознь качаются под солнцем, сохраняя разные имена: Сократ и Платон.
– В Афины приехал Горгий, – сказал Сократ, уходя. – Горгий Леонтийский из Сицилии. Знаешь, он был учеником Эмпедокла, а Перикл считал его своим учителем. Да и ты, кажется, вместе с Исократом бегал на его беседы о Пармениде. Нынче Горгий остановился у Калликла, а выступает в Ликейском гимнасии. Не пойти ли нам туда? Вот бы потолковать с ним.
– Да, я пойду, – сказал Платон, садясь в постели. – Моя болезнь, кажется, совсем прошла. Вот только оденусь.
Когда Платон обулся и надел белый гиматий, Сократ спросил:
– А нет ли у тебя пурпурного? Горгий, говорят, ходит в пурпурном гиматии, который стоит целого стада баранов.
– Есть, но я пойду в этом, – сказал Платон. – Не хочется тащить на себе стадо баранов. А то ведь скажут: «Смотрите, один баран тащит на себе целое стадо!»
Сократ весело рассмеялся.
Горгий был одет так, как сказал Сократ. Длинный пурпурный плащ красовался поверх расшитой золотом туники, на ногах – высокие полусапожки из дорогой кожи с бронзовыми застёжками вместо ремешков, на голове – красивая шляпа с широкими полями, пальцы украшали массивные перстни с драгоценными камнями. Гостя окружали слуги и два скифа, приставленные Советом, так как он был не просто важным человеком, как, скажем, афинянин Калликл, в доме которого Горгий остановился. Горгий Леонтийский был иностранцем, прибывшим в Афины с важным государственным поручением.
Сократ, Херефонт и Платон опоздали на выступление Горгия в гимнасий и встретили его уже выходящим на площадь. Он опирался одной рукой на плечо своего ученика Пола, с другой стороны его поддерживал под локоть Калликл. Горгий был уже немолод – ему перевалило за семьдесят, к тому же длительная речь, видимо, утомила его.
Сократ первым поздоровался с сицилийцем и спросил, помнит ли тот его. Горгий ответил, что помнит их встречу несколько лет назад, кажется, они даже беседовали, но о чём, он уже забыл.
– Тогда давай побеседуем о чём-нибудь таком, чтобы запомнилось, – предложил Сократ. – Сразу же и начнём.
– Прямо здесь? – Горгий посмотрел по сторонам и увидел, что их уже окружают слушатели, вышедшие следом из гимнасия.
– Ты знаешь, Сократ, что Горгий гостит у меня, – вмешался в разговор Калликл, – а потому приглашаю тебя и твоих друзей в мой дом.
– Возможно, что беседа будет короткой, – ответил Калликлу Сократ, – так что ты только зря потратишься на угощение, а удовольствия от беседы не получишь. Дешевле тебе обойдётся, если мы постоим здесь и попотчуем нашей беседой многих наших сограждан.
– Я тоже думаю, что беседа будет короткой, – сказал Горгий. – Не было ещё ни одного человека, на вопрос которого я не смог бы ответить коротко.
– Вот и хорошо, – обрадовался Сократ. – Тогда позволь мне, Горгий, задать тебе короткий вопрос.
– Слушаю, – снисходительно улыбнулся Горгий.
– Кто ты, Горгий? – спросил Сократ.
– Разве ты не знаешь? – удивился Пол, ученик Горгия, который ничем в одежде не уступал своему учителю и, кажется, хотел показать, что не уступает ему и в мудрости. – Все знают Горгия! – добавил он с вызовом.
– Ты хочешь ответить на мой вопрос лучше Горгия, Пол?
– Какая тебе разница? Лишь бы оставил его в покое. Горгий очень утомился, он держал сейчас длинную речь.
– В таком случае поговори с моим другом. Херефонт, – попросил Сократ, – повтори Полу мой вопрос. А чтоб он сразу понял тебя, спроси его так: если бы Горгий, как и его брат Геродик, был силён в медицине, то, наверное, стали бы называть его врачом?
– Отвечай, Пол, – потребовал Херефонт.
– Да, мы стали бы называть его врачом.
– Продолжай, Херефонт, – попросил Сократ, – пока он не ответит нам, кто же такой наш дорогой гость Горгий.
Херефонт с Полом разговаривали недолго. Вмешался в разговор Горгий, видя, что Пол не только не отвечает на вопрос, но, как искусный оратор, запутывает его. Из всего, что сказал Пол, вразумительным было лишь то, что Горгий причастен к самому прекрасному из искусств.
– Горгий, скажи нам сам, в каком искусстве ты сведущ и как, стало быть, нам тебя называть, – не выдержал разглагольствований Пола Сократ.
– В ораторском искусстве, Сократ, – ответил Горгий. – Это и есть то, чем «я хвалюсь», как говорится у Гомера.
– А на что направлено это твоё искусство?
– На самое великое, Сократ, и самое прекрасное из всех человеческих дел, – высокопарно ответил Горгий.
– Ах, Горгий, – вздохнул, поморщившись, Сократ. – Говорить красиво – это не то же самое, что говорить ясно. Скажи яснее, прошу тебя.
– Хорошо, – согласился Горгий. – Вот полный и ясный, надеюсь, ответ: это искусство даёт людям величайшее благо – свободу и власть над другими. Это искусство убеждения словом.
Ещё не видя и не слыша Горгия, Платон начал беспокоиться, как бы гость не превзошёл в беседе Сократа и как бы учитель не оказался побеждённым и осмеянным. Конечно, блестящее мастерство Сократа не давало никакого повода для опасений такого рода. Если он и не одерживал громких побед, то приводил собеседников в такое замешательство, что те не могли далее продолжать беседу, не сознавшись открыто в незнании предмета спора и того, как наилучшим образом служить делу, что для себя избрали. Но сегодня был другой случай. Горгий – не какой-нибудь жалкий дилетант, а великий софист, оратор и государственный муж, более того – признанный учитель мудрости, красноречия и искусства управления государством. Таково было неизменное мнение о нём во всём эллинском мире. И вот его-то вознамерился испытать Сократ. Не один Платон, надо думать, с тревогой отнёсся к этой затее, опасаясь не только за доброе имя Сократа – неутомимого и непобедимого спорщика и поборника философии, но и за свою привязанность и любовь к Сократу, за веру в то, что он – подлинный учитель и апостол истины. Ведь тут малейшее разочарование – трагедия для души, которая доверилась своему наставнику целиком и полностью, как гению, ведущему её на суд Эака или Радаманта. Ошибка в таком деле равнозначна погибели.
Итак, искусство красноречия – это искусство убеждения. В чём же и кого убеждает оратор? Горгий, посвятивший риторике всю жизнь, несомненно, знал точный ответ: своим словом он оказывает влияние и на заседателей в суде, и на булевтов в Совете, и на граждан в Народном собрании – на любого человека и любую толпу. Оратор внушает людям веру в то, что справедливо и несправедливо, формирует к тому же общественное мнение на тот или иной вопрос, делает это искуснее и успешнее, чем тот, кто знает предмет, но не обладает красноречием. Можно, разумеется, внушить и ложную веру, а потому этим искусством надлежит пользоваться осторожно. Нет опаснее зла, чем ложное мнение. Поэтому ритор, претендуя на роль учителя, должен прежде всего учить справедливости. Но что он сам знает об этом, если является только оратором?
С этого момента беседы Сократа и Горгия сомнения Платона улеглись. Все старания оратора уверить слушателей, что его искусство есть средство достижения высшего блага, оказались напрасными. Сократ доказал, что, во-первых, убеждает не только риторика, но и всякая другая наука, во-вторых, оратор не столько убеждает, сколько внушает веру, в-третьих, красноречие, не опираясь на истинное знание, может внушить ложную веру. Чтобы внушить истину, следует обладать знанием и быть справедливым, что является задачей не риторики, а науки, философии. Стало быть, красноречие не есть искусство само по себе, как медицина, военное или строительное искусство, как живопись или гимнастика, а всего лишь некоторая сноровка, угодничество. О том, что есть истинное благо для человека, знает не риторика, а философия, ибо только ей ведомы справедливость, добро и зло, и она способна этому научить.
Горгий оказался в тупике. Но тут в разговор вступил возмущённый таким поворотом спора Калликл. Сильный, молодой, красивый, богатый аристократ, человек проницательный, властолюбивый и решительный, Калликл был похож, пожалуй, на Алкивиада. Но у них было одно существенное различие: Калликл не любил Сократа, даже презирал его и не пытался это скрыть.
– Вместо того чтобы заниматься поиском истины, – сдерживая гнев, сказал он Сократу, – ты утомляешь нам слух трескучими и давно избитыми словами о том, что мы соблюдаем глупые обычаи и законы, установленные слабыми, чтобы обезопасить себя от сильных. Но в природе всё иначе: сильный повелевает слабым, лучший выше худшего. Вот настоящий закон – и для животных, и для людей. Я уверен, Сократ, что сильные и здоровые вскоре втопчут в грязь все наши вздорные писания, все наши гадания, волшебство, чародейство, верования и другие противные природе законы и станут владыками. Вот тогда-то, Сократ, и просияет справедливость! Такова истина, Сократ! По природе всё, что хуже, то и постыднее, безобразнее: например, терпеть несправедливость. Если тебя, Сократ, сегодня схватят и бросят в тюрьму, обвиняя в преступлении, которое ты не совершал, ты окажешься совершенно беззащитен. Голова у тебя пойдёт кругом, и ты застынешь с открытым ртом, не в силах вымолвить ни слова, а потом предстанешь перед судом, лицом к лицу с обвинителем, отъявленным мерзавцем и негодяем, и умрёшь, если тот потребует для тебя смертной казни. Нет, видимо, тебе до самой смерти не развязаться с пустословием, которое ты называешь философией. Все противные природе условности – вздор, ничтожный и никчёмный! Кто хочет прожить жизнь правильно, должен давать полнейшую волю своим желаниям, а не подавлять их и, как бы ни были они необузданны, служить им. Вот для чего нужны мужество и знание, Сократ!
Сократ не обиделся на Калликла и даже не удивился его словам. А ведь тот в порыве гнева не только оскорбил науку наук, но и предрёк философу позорный арест и смерть. Как ни в чём не бывало Сократ принялся обсуждать с обидчиком, что есть благо, а что зло, что удовольствие, а что страдание, что справедливость, а что несправедливость. Разговор этот длился долго, солнце стало клониться к закату, и люди, которым наскучила дискуссия, начали потихоньку расходиться. Остались только те, кто, ловя каждое слово, ещё плотнее сгрудились вокруг спорщиков. Платон подумал, что Сократ пропустил мимо ушей злое пророчество Калликла и потому не говорит о нём. Но как только по длинной цепочке суждений Сократ добрался до выводов, с которыми Калликл не мог не согласиться, хотя они и опровергали все его прежние утверждения, Сократ вспомнил о мрачном предсказании и сказал:
– Я был бы безумцем, Калликл, если бы сомневался, что в нашем городе каждого может постигнуть какая угодно участь. Но одно я знаю твёрдо: если я когда-нибудь предстану перед судом, обвинителем моим и правда будет негодяй. Ведь ни один порядочный человек не привлечёт невинного к суду. Я не удивлюсь, услышав смертный приговор, и вот почему: я никогда не веду разговоров ради того, чтобы угодить собеседнику, но всегда – ради высшего блага, и, поскольку никогда при этом не прибегаю к хитрым уловкам, мне невозможно будет защититься в суде.
– И ты думаешь, что это хорошо? – высокомерно усмехнулся Калликл, призывая жестом и взглядом слушателей разделить с ним его иронию.
– Да, Калликл, – ответил Сократ. – Я не располагаю средством защиты, о котором ты говоришь как о наилучшем искусстве, – льстивым красноречием. Равнодушный к тому, что ценит большинство людей, я ищу только истину. С этим я живу и с этим умру, когда придёт смерть. Лишь в одном я с тобой согласен: чинить несправедливость опаснее, чем терпеть. Итак, поверь мне, Калликл, и следуй за мною к цели, достигнув которой ты будешь счастлив и при жизни, и после смерти. Пусть другие презирают тебя, считают глупцом, пусть оскорбляют, если вздумается, пусть даже бьют. Переноси спокойно и позор и побои, и, клянусь Зевсом, с тобой ничего не случится дурного, если ты поистине достойный человек и предан добродетели. Давай жить и умирать, утверждаясь в справедливости и иной добродетели. Это и есть философия, которую ты так опрометчиво осудил, Калликл. Любовь к мудрости ведёт нас по тропе справедливости, а любовь к льстивому красноречию – к позорной угодливости. За первое можно отдать жизнь, второе же ничего не стоит.
Платон, Херефонт и Федон провожали Сократа домой. Сутулясь от усталости, учитель шёл с опущенной головой, был неразговорчив и, кажется, ничего не видел. Он то и дело наступал на острые камешки и морщился от боли – сандалии его настолько прохудились, что не спасали от уколов.
– Проклятый болтун! – с сердцем проговорил Херефонт, ни к кому не обращаясь. – Чтоб у него язык отсох!
– Ты о ком это? – спросил Сократ.
– Да всё о нём же, о Калликле. Нельзя болтать что попало: злой бог услышит и исполнит. Когда б не война, я не поленился бы отправиться в Дельфы, чтобы спросить Пифию о судьбе пустослова. Кажется мне, что тюрьма как раз ждёт его, а не тебя, Сократ.
– Успокойся, – сказал Херефонту Сократ, остановившись у каменной ограды, чтобы передохнуть: дом его стоял на вершине холма, и не каждому, даже молодому, удавалось одолеть довольно крутой подъем без передышки. – И что ты так хлопочешь? Всё равно ведь от чего-то умирать придётся – либо по приговору суда, либо по приговору времени. Вечных людей, Херефонт, нет. Вот уже и Софокл с Эврипидом, с которыми, если верить тебе, сравнила меня дельфийская Пифия, покинули этот мир. Не надо печься о том, как бы пожить подольше, и не надо цепляться за жизнь. Но, положившись в этом на божество и поверив женщинам, что от своей судьбы никому не уйти, надо искать способ прожить оставшиеся дни и годы самым достойным образом. И вообще, мой милый Херефонт, философствовать – значит умирать.
– Боги тебе не простят такие слова! – замахал на Сократа руками Федон.
– Не пугайся, – ответил Сократ и погладил юного ученика по голове, будто тот был ему сыном.
Впрочем, ни Платон, ни Херефонт не удивились этому: Федон уже давно жил в доме Сократа и, кажется, этому все были рады. Он ладил и с Ксантиппой, и с детьми, а уж об их отношениях с Сократом и говорить не приходилось: все видели, как ласков был старик с Федоном и как мальчик обожал учителя.
– Как не пугаться: если философствовать и умирать – это одно и то же, то все мы здесь самоубийцы, – сделал неожиданный вывод Федон.
– А вот и нет, – сказал Сократ. – Умирать по-философски – вовсе не означает, скажем, лезть в петлю, морить себя голодом, травить ядом, вонзать меч в сердце или бросаться со скалы в пропасть. Умирать по-философски, Федон, – это вот что: размышляя об истинном и вечном, избавляться от дурных страстей, от грязных желаний, от суетных дел и напрасных хлопот, от жалкого угодничества всему, что мы называем преходящим, от рабского подчинения телу ради освобождения и очищения души. Тот человек, Федон, кто проживёт свою жизнь в справедливости и благочестии, удаляется после смерти на Острова Блаженных. А кто жил неправедно и безбожно, уходит в место кары и возмездия, в темницу, в Тартар со знаком исцеления или безнадёжности, которым помечает душу Радамант. Отмеченные знаком исцеления получают возможность в новой жизни искупить свои грехи, а те, на ком знак безнадёжности, обрекаются на вечные муки. Но ты не пугайся, Федон, потому что философы улетают на Острова Блаженных, – улыбнулся ласково Сократ. – Нужно только правильно жить и правильно умереть.
– Как это? – спросил Федон.
– Как учит нас философия, – ответил Сократ. – Истинного философа, – обратился он теперь к Херефонту, – нельзя донять никакими угрозами. И никакая смерть не испугает его. Так что Калликл меня совсем не напугал, Херефонт. А о том, что город когда-нибудь убьёт меня, я и сам знаю. – Вздохнув, продолжил путь к дому.
Платон, Херефонт и Федон двинулись за ним, опечаленные его последними словами.
Уже около своих ворот Сократ обернулся и весело сказал:
– Но плохое случится с нами не сейчас. Поэтому оставим все невесёлые мысли здесь, на улице Чтоб не печалить мою Ксантиппу: от этого она становится жадной и злой. А нам нужна щедрая и добрая Ксантиппа – с сыром, с лепёшками и с вином, а не с пустыми горшками, летящими в наши головы. С весёлыми улыбками – вперёд! – скомандовал он и открыл калитку ногой.