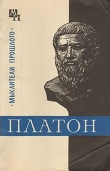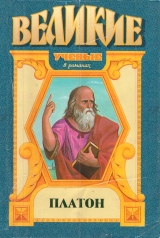
Текст книги "Платон, сын Аполлона"
Автор книги: Анатолий Домбровский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
– Я смеюсь над мёртвыми и печалюсь над живыми, – плаксивым голосом проговорил Тимон, – Я – веселье кладбищ и плач пиров.
– Конечно, конечно, Тимон, – Сократ поманил рукой одного из слуг, несущего корзину со снедью, и приказал ему: – Дай Тимону лепёшку и кусок сыра. Весёлый дух кладбищ и печальный дух пиров, как и все мы, нуждается в пище.
Тимон бережно принял из рук слуги тряпицу с едой и сказал, ни к кому не обращаясь:
– Ныне живущих больше, чем умерших за все времена. Так сказал мне во сне Зевс. У него не хватает душ на всех рождающихся, и поэтому являются на свет бездушные мерзкие твари, пустые оболочки. Их не отличить от тех, кто с душой, и потому Зевс уничтожит всех, как раньше. Все погибнут.
– Всегда можно отличить того, кто с душой, от бездушного, – ответил Тимону Сократ. – Последние рождаются мёртвыми, потому что душа – это жизнь. Все ныне живущие – с душой. И душ у Зевса хватит на всех, сколько бы людей ни рождалось. Как хватает на всех света солнца.
– Так сказал тебе Зевс? – Тимон поднял голову и остановил слезящиеся глаза на Сократе.
– Нет, Тимон.
– А кто?
– Так сказал мне сын Прометея Девкалион, который посеял новых людей после того, как Зевс уничтожил прежних.
– Ты встречаешься с Девкалионом?
– Да, как и ты с Зевсом, – во сне.
– Зевс выше Девкалиона.
– Но Девкалион знает о людях больше, чем Зевс. Он их посеял. Кто чем занимается, тот знает о своём ремесле больше любого другого. Если Зевс уничтожил людей, то он больше знает о смерти, а Девкалион – о жизни. Ты говоришь о смерти, а я – о жизни. Так что мы не договоримся, Тимон.
– Ты прав.
– Вот и будем говорить каждый о своём: ты – пугать людей, а я – успокаивать. А что лучше, легко заключить: ты отнимаешь силы у жизни, а я их прибавляю. Поскольку с жизнью душа, то и добро с ней. Значит, кто умножает силы жизни, тот умножает добро. А кто умножает силы смерти, тот умножает зло.
– Жизнь есть зло, – упрямо заявил Тимон.
– Оставайся со своими мыслями, – вмешался в разговор Критон, – но не пугай людей, Тимон. С той поры как началась война, у людей мало радости.
– Война – вот радость...
– Помолчи! – не дал договорить Тимону Критон. – Мы торопимся. А ты съешь, что добрые люди сделали, – хлеб и сыр. Живи, Тимон.
Тимон сошёл на обочину, сел и развернул тряпицу со съестным на коленях.
– Зря ты остановил его, – упрекнул Критона Сократ. – С Тимоном стоит поговорить: точильный камень полезен для серпа.
Роща Академа славилась своими высокими и раскидистыми белоствольными платанами и жертвенником Прометея, на котором в дни великих празднеств зажигался огонь для факелоносцев. Таких зелёных прелестных уголков, как в роще Академа, особенно по берегам чистоструйного Кефиса, не было нигде в окрестностях Афин. В роще располагался гимнасий для высокородных афинян, который, однако, с некоторых пор пустовал и разрушался: богатые и знатные афиняне построили себе другой в черте города, чтобы не ходить далеко и не подвергаться опасности нападения спартанцев и прочих разбойных банд. Впрочем, сюда они, кажется, никогда и не забредали – тут нечем было поживиться, разве что мелкой рыбёшкой в Кефисе, достававшейся иногда голодным и бездомным бродягам, находившим приют в пустующем гимнасии. Безлюдное, заброшенное, чарующее место – вот что представляла собой нынче роща Академа, древнего героя, указавшего Диоскурам, где Тесей спрятал их сестру Елену.
– Бывать здесь приятно и небесполезно, – заметил Сократ. – Академ знает, где спрятана Елена, герой знает, где спрятана сама красота.
Друзья устроились на зелёном берегу речки, расстелили плащи, разложили на них еду, легли. И шатёр был великолепен – платан распростёр над ними свои огромные опахала, и ложе – свежая и густая трава – было мягким и прохладным. Ополоснув чаши холодной речной водой, наполнили их вином, сделали возлияние Дионису и приступили к неторопливой трапезе, блаженствуя. Иные уже подрёмывали, насытившись, когда из-за ствола ближнего платана появился странник с посохом. За плечами у него висела котомка, а голову покрывал золотой венец. Высокий незнакомец выступал медленно и важно, будто иерофант на Элевсинских мистериях. Он поприветствовал лежащих изящным поднятием руки и остановился, милостиво позволив себя созерцать.
– Кто же мы такие? – спросил Сократ.
– Мы – Ион из Эфеса, победитель состязаний рапсодов в Эпидавре на Асклепиях, – торжественно произнёс странник. – А ты кто, любопытный старик? – спросил он в свою очередь Сократа.
– А я Сократ, афинянин. Отдыхаю после прогулки с друзьями. Не желаете ли разделить вместе с нами трапезу? – Сократ обращался к рапсоду во множественном числе, будто их было несколько. Тот же, видимо, считал, что с ним именно так и следует поступать, и тоже говорил о себе во множественном числе.
– Мы охотно принимаем твоё предложение, Сократ, и рады сообщить, что мы наслышаны о твоей мудрости и желаем с тобой побеседовать.
– Велика честь и велико удовольствие, – ответил Сократ и указал новому знакомому место рядом с собой. – Как же вы прошли через позиции спартанцев? – поинтересовался он, когда рапсод прилёг. – Ведь Истм, кажется, непроходим, а на море ещё опаснее.
– А вот. – Рапсод осторожно потрогал свой золотой венок. – Лучший пропуск – слава, добытая в Эпидавре. Они нас не тронули.
– И на венок не покусились?
– Не посмели. Золотой, конечно, можно отнять, но славу – никогда, – сказал рапсод. – Слава поэта – пропуск по всей земле.
– Поскольку это высшая слава?
– Именно. Ибо поэт знает всё, о чём поёт, а поёт он обо всём. Тем более – Гомер, чьи великие поэмы я знаю наизусть. Я – исполнитель, толкователь поэм Гомера и всего, о чём в них говорится.
– Стало быть, Ион, ты так же сведущ, как Гомер? – спросил Сократ, перейдя на «ты».
– Как сам поэт, – ответил, всё ещё важничая, рапсод.
– Можно ли поспрашивать тебя об этом?
– Конечно. Мне всегда приятно беседовать с мудрецами.
– Тогда будь внимателен и отвечай. Поэт говорил о многих людях, занятых в жизни разными делами: о царях, воинах, возничих, врачах; он слагал поэмы о женщинах, любви, богах. Так ли это, Ион?
– Так, – согласился рапсод.
– Тогда скажи: знал ли поэт о делах этих людей больше и лучше, чем сами эти люди: чем возничий – о ремесле извоза, чем врач – о медицине, чем гетера – об искусстве любви, чем военачальник – о тактике ведения войны. Да или нет?
– Думаю, что нет, – ответил Ион.
– Ты прав. Иначе тебе пришлось бы утверждать, что поэт знает о делах богов столько же, сколько они сами, и, значит, сам есть бог, – засмеялся Сократ.
– Пришлось бы, – согласился рапсод. – Но я сказал, что поэт знает меньше.
– И это, очевидно, касается всех, о ком он говорил.
– Видимо, да, Сократ.
– О чём же поэт знает больше, чем люди, о которых он говорит?
– Может быть, о характерах людей, – предположил рапсод.
– Но, согласись, имеющий что-то знает о том, что имеет, больше, чем тот, кто этого не имеет.
– Пожалуй, ты прав.
– Что же тогда поэт знает в совершенстве?
– Как слагать стихи, думаю.
– Но многие, знавшие, как слагать стихи, ныне совсем забыты или сохранились в памяти потомков несколькими строками или одним пеаном[44]44
...одним пеаном... — Пеан – песня ещё в долитературный период, исполняемая в сопровождении кифары чаще мужским, а иногда и женским хором. Она пелась в качестве искупления, в битве, при праздновании победы.
[Закрыть], например Тинних из Халкиды. Как же случилось, что, написав много произведений, он создал лишь одно, достойное нашей памяти? Не боги ли внушили ему знаменитый пеан? Ведь и над остальными он трудился с тем же прилежанием и знанием дела, а получился лишь один.
– Думаю, что ему внушили этот пеан боги, – ответил рапсод.
– Боги пропели устами слабого поэта прекраснейшую песнь. Не доказывает ли это, что всё дело – во вдохновении?
– Думаю, доказывает.
– А не свидетельствует ли всё сказанное выше, что поэты творят и говорят много прекрасного о различных вещах по божественному определению, а не с помощью искусства?
– Свидетельствует, Сократ.
– Стало быть, поэты подобны прорицателям и вещателям: говорят то, что велит им божество, сами ничего не зная.
– Смилуйся, Сократ: ведь что-то я знаю.
– Только то, что знаю и я, – засмеялся Сократ, наполняя кружку рапсода вином. – Теперь ты твёрдо знаешь, что ничего не знаешь. А это – начало всякого знания, начало мудрости.
Во время всей этой беседы Сократ то и дело поглядывал на Платона, будто хотел сказать ему: «Недавно мы говорили о поэзии. Теперь я продолжаю этот разговор с Ионом. Ради тебя».
«Итак, поэт-прорицатель, вещающий лишь по воле бога, или философ, читающий в своей бессмертной душе? Одержимый пророк или мудрый толкователь истины? Пророчество – туманно. Истина – чиста и светла для всех. Я правильно поступил, бросив стихи в огонь», – сказал себе Платон. Но тревога в сердце осталась: пророков, как и мудрецов, выбирают боги... А ещё он решил, что, возвратившись домой, запишет разговор Сократа с Ионом.
Несколько дней об Алкивиаде не было никаких известий, кроме слухов, что пришли из Декелей и распространялись по Афинам его врагами. Но вскоре новость привезли посланцы Алкивиада. Вместе со своими ста триерами стратег благополучно достиг пролива между Эвбеей и островом Андрос, с ходу вступил в бой с андросцами и спартанцами, пытавшимися преградить ему путь, сжёг и потопил их корабли, а успевшие высадиться на берег вражеские отряды настиг и уничтожил. Сначала афиняне обрадовались радостной вести, многие ликовали по поводу победы. Но веселье быстро поутихло и сменилось недоумением. Алкивиад хоть и разбил андросцев и спартанцев в проливе, столицу острова, однако же, не взял и даже не осадил её. Стратег отправился дальше, держа курс на Самос, хотя у него, по мнению афинян, доставало сил, чтобы покончить с отпавшими от афинского союза андросцами раз и навсегда. Понятно, почему Алкивиад торопился на Самос – там его поджидали верный Афинам флот и армия. Но стоило ли оставлять в тылу, близ Эвбеи и Аттики, переметнувшийся на сторону врагов остров? Хвалёный воинский талант и уж конечно удача, похоже, изменили Алкивиаду. Получалось даже, что слухи о новом предательстве Алкивиада вроде и не лишены основания. Имея возможность разгромить на Андросе крупные силы врага, он лишь слегка пощипал их, да и то лишь потому, что те по глупости, а скорее из-за отсутствия договорённости преградили ему внезапно путь в проливе. Но Алкивиад всё же шёл на Самос, всё ещё верный Афинам, и это в значительной мере извиняло нерешительность или неудачу Алкивиада на Андросе. Впрочем, и там могло случиться всякое: самосцы, кажется, были верны скорее Алкивиаду, чем Афинам. Когда власть в Афинах захватили Четыреста во главе с Фринихом, именно самосцы призвали к себе опального афинянина и избрали его стратегом, а он не остался в долгу и добыл Самосу несколько блестящих побед. Тогда-то слава о его храбрости и воинской непогрешимости достигла Афин. Теперь же, после Андроса, она стала заметно убывать и меркнуть.
Едва прибыв на Самос, Алкивиад, вместо того чтобы ринуться с подкреплением на захват остальной Ионии, оставил флот, а сам, как рассказывали об этом позже, отправился с небольшим отрядом в Карию добывать деньги. Его казна была пуста: афиняне снабдили стратега кораблями и войском, но не дали средств на их содержание. Между тем матросам было хорошо известно, что командующий флотом Спарты Лисандр платит своим солдатам по четыре обола в день – больше, чем Афины тратили на своих даже в лучшие времена. А когда матросам плохо платят, они плохо воюют.
На время своего отсутствия Алкивиад поручил командование флотом Антиоху. Это был неплохой кормчий, но во всём остальном вряд ли годился на должность командующего. Впрочем, от него много и не требовалось. Надо было лишь следить за тем, чтобы матросы строго соблюдали дисциплину – не пьянствовали, не занимались грабежами и не устраивали потасовки друг с другом от безделья. Нужно было держать их в постоянной боевой готовности, ведь спартанцы во главе с Лисандром стояли рядом, в Эфесе. Алкивиаду показалось, наверное, что для Антиоха роль строгого начальника подходит больше остальных: он был человеком грубым, резким и не терпел никаких возражений. Увы, оказалось также, что Антиох крайне честолюбив и безрассуден. Едва Алкивиад отплыл в Карию, он, в нарушение всех приказов, решил блеснуть своим воинским талантом. Антиох экипировал триеру, на которой был кормчим, взял ещё одну с отрядом отчаянных бойцов и направился к Эфесу, намереваясь напасть и уничтожить какое-нибудь спартанское судно, чтобы прослыть героем. Спартанских судов в море не оказалось: все они стояли в эфесской бухте. Но возвращаться без победы уже не хотелось, и Антиох вошёл со своими триерами в бухту и стал маячить вблизи спартанских кораблей, выкрикивая грубые оскорбления в адрес Лисандра. Командующий спартанцев вышел из себя и погнался за наглецами. Антиох надеялся, что успеет уйти, но несколько спартанских триер быстро настигли и окружили его. Афинянам пришлось отчаянно отбиваться, вторая их триера помчалась к Самосу за подмогой. И когда несколько десятков афинских кораблей пришли к Эфесу на помощь Антиоху, Лисандр вывел им навстречу весь свой флот и уничтожил незваных гостей, как раньше – триеру Антиоха вместе с её кормчим и солдатами.
Посланные в Карию гонцы уже на следующий день сообщили обо всём случившемся Алкивиаду. Тот вернулся на Самос, поднял весь оставшийся флот и поплыл к Эфесу, надеясь поквитаться со спартанцами. Но Лисандр бой не принял. Он укрылся в хорошо защищённой бухте, Алкивиаду же отправил письмо со словами: «Я доволен прежней победой, а новая мне пока не нужна. Я терпелив».
Будь Антиох жив, не миновать бы ему лютой казни. Заливая бессильную злобу вином, Алкивиад твердил, что лично изрубил бы безумца на куски. Но ему следовало бы так поступить с другим человеком из своего войска. Как только Алкивиад вернулся на Самос после неудачной попытки вызвать на бой Лисандра, Трасибул, сын Трасона, на лёгком торговом судне отплыл в Афины и благополучно достиг желаемого берега. На первом же Народном собрании, созванном по его просьбе, Трасибул рассказал о бесславных делах Алкивиада. Стратег, дескать, развратничает и пьянствует, флот отдал под командование своим любимцам, таким же, как и сам, хвастунам и гулякам. Они и довели дело до того, что большая часть кораблей погибла в позорном бою у Эфеса. Трасибул также заявил во всеуслышание, что Алкивиад не только не готовится к будущим сражениям, но вместо того занят строительством надёжного убежища на тот случай, если спартанцы полностью уничтожат его флот и армию, а сам он будет проклят афинянами.
– Это убежище во Фракии! – кричал Трасибул. – Близ Бисанты! Пошлите туда людей и проверьте. Крепость обнесена такими высокими стенами, будто это царский дворец. Он собрал там все свои сокровища и всех своих гетер!
Народное собрание, слушая Трасибула, неистовствовало от гнева. И как только доброхот закончил свою длинную речь, постановило немедленно отстранить Алкивиада от должности стратега и послать на Самос новых военачальников: Тидея, Менандра и Адиманта. Трасибул даже предложил собранию схватить Алкивиада и предать его суду, но это было слишком. «Посмотрим, как сложится дальше» – таковым оказалось мнение большинства.
Узнав о решении Народного собрания, Алкивиад в первую же ночь покинул Самос и отправился во Фракию, полагая, что рано или поздно афиняне всё же решат арестовать его. Он не запёрся в своей крепости близ Бисанты, а собрал отряд наёмников, хорошо вооружил его за счёт денег, добытых в боях с фракийцами, и стал помогать эллинам, оберегая их от нападений варваров, – словом, продолжал служить Афинам. А когда к Эгоспотамам подошёл афинский флот, ища сражения с Лисандром, Алкивиад принялся навещать новых афинских стратегов и давать им добрые советы. Он указал Тидею, Менандру и Адиманту на то, что они выбрали для флота неудачное место. Поблизости нет ни хорошей гавани, ни города, откуда можно было бы доставлять продовольствие, в то время как у Лисандра в Лампсаке флот прекрасно оснащён. Алкивиад советовал перевести афинские корабли в Сеет. Но стратеги не только не приняли его советы, но, раздражённые его высокомерием, потребовали больше не докучать им и даже пригрозили арестом. Оскорблённый Алкивиад вернулся к своему отряду. А Лисандр уже через несколько дней, как и предостерегал опальный полководец, напал на афинский флот и с ходу захватил двести триер. Бегством спаслись только восемь. Все пленные – три тысячи человек – были казнены. Так бесславно погиб весь эллинский флот и надежда афинян на победу в войне со Спартой.
Не поздоровилось и Алкивиаду. Осмелевшие после гибели афинского флота, фракийцы напали на его базу и уничтожили всё, что можно. Стратег спасся бегством, потеряв во Фракии всё своё имущество. Сначала он отправился в Вифинию, оттуда, вновь настигнутый фракийцами, – во Фригию, к Фарнабазу – фригийскому сатрапу персидского царя Артаксеркса. Фарнабаз, знавший Алкивиада раньше, принял его с уважением, как бывшего союзника, и дал ему дом, в котором Алкивиад поселился вместе с Тимандрой.
– Спартанцы его боятся, афиняне – стыдятся, персы – тяготятся им, – сказал об Алкивиаде Сократ. – Первые боятся не только потому, что он нанёс им несколько тяжёлых поражений и оскорбил царя Агида, соблазнив его жену Тимею, которая, говорят, родила от Алкивиада сына. Они опасаются, как бы Алкивиад не уговорил персов отказаться от союза со Спартой и лишить их средств для ведения войны с Афинами. Вторые стыдятся Алкивиада, потому что уже два раза предали его, отстранив от дел без всякой вины, и тем самым, как глупцы, потеряли самого мужественного и мудрого стратега. А вместе с ним, возможно, и независимость. Третьи же тяготятся его присутствием, поскольку, будучи до крайности честолюбивыми, вынуждены признать, что многими своими победами обязаны чужаку, эллину, афинянину, представителю враждебного им народа. Отныне судьба Алкивиада печальна, – вздыхал Сократ, вспоминая о своём любимце. – И может закончиться трагично. В сущности, она уже закончилась.
Сократ и его ученики стояли перед домом поэта Агафона, сообщение о смерти которого пришло накануне из Пеллы, столицы Македонии. Рассказывали, что он скончался на пиру, устроенном царём Архелаем по случаю своего дня рождения, и что глаза ему закрыл Эврипид[45]45
Эврипид (Еврипид) – древнегреческий поэт-драматург (ок. 480—406 до н. э.), младший из трёх великих афинских трагиков – Эсхила и Софокла. Эврипиду свойственно необычное для античной трагедии усиление бытового элемента, интерес к частным судьбам людей («Медея», «Ипполит»); произведения Эврипида оказали огромное влияние на европейскую драматургию.
[Закрыть]. В ворота стучать не стали – дом был давно пуст: уезжая в Пеллу, Агафон взял с собой всех родственников. Привязали к калитке тёмную ветку кипариса, постояли молча. Из всех, кто был с Сократом, только он сам да его ровесник Критон знали Агафона. Сократ даже присутствовал на пиру в доме Агафона, – по его утверждению, это было десять лет назад, – который тот устроил в честь своей первой победы на состязании драматических поэтов в театре Диониса у подножия Акрополя. На том пиру был и Алкивиад, которому в ту пору исполнилось тридцать пять лет.
– Он только недавно был избран стратегом, – вспоминал Сократ, – и уже успел сделать для Афин ценное приобретение – захватил и подчинил остров Мелос.
Сократ заговорил об Алкивиаде, хотя все ждали рассказа об Агафоне – ведь именно его пришли они помянуть к опустевшему дому.
– Агафон очень радовался своей первой победе? – напомнил Сократу о поэте Перикл-младший.
– Да, но вино пить уже не мог, так как пир был устроен на третий день после победы и, стало быть, уже два дня вино лилось рекой в его доме. Все друзья Агафона признались, что смертельно устали от возлияний, поэтому решено было пить как можно меньше. В качестве развлечения избрали беседу о любви, поскольку такие разговоры веселят больше, чем сама любовь. Или я ошибаюсь? Готов поспорить, если найдётся охотник, – предложил Сократ.
Все промолчали, и лишь здравомыслящий Критон заметил, что как от болтовни о еде не станешь сытым, так и от слов о любви не рождаются дети.
– Так ты признаешь лишь любовь, от которой рождаются дети?! – воскликнул Сократ и, взяв Критона за руку, повёл его к святилищу Афродиты Урании – Афродиты Небесной.
Все пришедшие с Сократом к дому Агафона последовали за ними.
Соседствовавший с храмом Афродиты Урании портик был безлюден, только в дальнем конце его возле меняльной лавки стояло несколько человек.
Солнце уже жарило во всю мощь. Поэтому, оказавшись в тени галереи на прохладных каменных скамьях, все вздрогнули с облегчением. К тому же невесть откуда появились мальчишки-водоносы, и желающие смогли утолить жажду, уплатив за огромный кувшин воды один обол.
– ...А рабы Алкивиада, помнится, – продолжал прерванный рассказ Сократ, – принесли в дом Агафона две корабельные амфоры вина. Его хватило бы всей компании на две, а то и на три ночи. Алкивиад был шумен и весел, как человек, явившийся с одного пира на другой. И сразу же, видя общее уныние, предложил всем наполнить чаши, а для себя потребовал холодильный псиктер[46]46
Псиктер – сосуд для охлаждения жидкостей на высокой цилиндрической ножке, при помощи которой псиктер можно было вставить в другой сосуд, содержащий холодную воду.
[Закрыть], в который, как ты знаешь, вмещается восемь обычных кружек. Выпив эту чудовищную порцию, он тут же приказал наполнить псиктер вновь и предложил его мне.
– И ты выпил, Сократ? – от удивления вытаращил глаза юный Федон. – Ведь ты мало пьёшь!
– До дна! – не без хвастовства признался Сократ. – Но вот в чём моё достоинство: я никогда не пьянею, сколько бы ни выпил, а иные хмелеют от одного глотка.
– А что же Алкивиад? Он, наверное, свалился с ног? – спросил всё тот же Федон.
– Ничуть не бывало. Он принялся украшать голову Агафона цветами и лентами, снимая их с себя, и всех довёл до весёлых слёз, поскольку делал это неловко – то обвивал ленту вокруг шеи, то пытался привязать её к уху Агафона, то завязывал ему глаза. Тогда присутствовавший на пиру врач Эриксимах, сын асклепиада[47]47
...сын асклепиада... — Асклепиад – врач (от имени Асклепия – греческого бога врачевания).
[Закрыть] Акумена, предложил Алкивиаду включиться в общую беседу о любви. – Сократ подмигнул Федону. – Так он решил отвлечь весельчака от пьяных забав.
– До речей ли пьяному человеку? У него и язык заплетается.
– Ты прав, Федон. Но Алкивиад тут же согласился и произнёс речь о любви ко мне.
– К тебе? – засмеялся Федон. – Разве ты красавец?
– Разумеется, нет, – тоже весело ответил Сократ. – Вот и Алкивиад тогда сравнил меня с силеном[48]48
...сравнил меня с силеном... — Силен – в греческой мифологии человек с лошадиными ушами, хвостом, копытами, животным выражением лица. Иногда Силен изображался милым, дружелюбным существом, исполненным мудрости, иногда похотливым. Им приписывали близкое родство с сатирами и часто путали.
[Закрыть] Марсием, козлоногим спутником Диониса.
– И ты не обиделся? – спросил красавец Аполлодор.
– Глупо обижаться на правду.
– Так за что же в тебя влюбился Алкивиад? Это ты скорее мог бы полюбить его: он и теперь ещё завораживает многих своей красотой.
– Может быть, – не стал возражать Сократ. – Но речь о любви ко мне произнёс Алкивиад.
– Объясни тогда, – попросил Аполлодор. – Как красавец может влюбиться в сатира?
– Все тотчас объясняется, как только мы определяем предмет любви, – ответил Сократ. – Одни влюбляются в стоящих у власти, потому что любят власть. Другие – в богатых, потому что любят богатство, третьи – в красавчиков, четвёртые – в женщин. Не так ли?
– Так, – согласился Аполлодор. – А во что же влюбился Алкивиад?
– О том при случае спросишь у него самого. Если такой случай представится, – вздохнул Сократ. – Да и не о том я хотел сказать. На том пиру у Агафона мы пришли к очень важным суждениям, касающимся любви.
– Будто эти суждения могут быть важными, – с усмешкой заметил Критон. – О любви давно всё известно. Вон Лисий недавно сочинил длинную речь, которая теперь ходит по рукам: в ней он собрал все сведения о прелестях любви.
– Так ведь я не о них. Лисий написал речь о пошлой любви, – сказал Сократ, укоряя старого друга взглядом. – Я же хотел сказать о любви небесной. Всякая настоящая любовь, Критон, есть стремление родить в красоте: ребёнка – от красивой женщины, мудрое суждение – от возлюбленного, истинное знание – от человека учёного. Но тот, кто от любви к красивому поднимется до любви к наикрасивейшему, а потом – до любви к прекрасному – неизменному, беспримесному, не обременённому человеческой плотью, красками, запахами и другим бренным вздором, кто поставит перед собою цель родить от прекрасного, тот даст жизнь истинной добродетели. Тот получит в удел любовь богов и сам возгордится в прекрасном для жизни вечной, для того всё бренное и сама смерть, друзья мои, останутся позади. Мы говорим о любви как о стремлении несовершенного – к совершенному, временного – к вечному, красивого – к прекрасному, бренного – к бессмертию.
– Как же прийти к такой любви? – спросил Федон.
– Будь ты стар, я, пожалуй, не стал бы тебе отвечать, Федон. Но поскольку ты молод и чувства твои свежи, скажу тебе вот что: надо начинать с любви к прекрасным телам, затем научиться ценить красоту души выше красоты тела, а потом, освободившись от любви к одной душе, повернуться лицом к открытому морю красоты и увидеть цель – Прекрасное-Само-По-Себе.
– И что же, Сократ? Увижу прекрасное и стану бессмертным? – не унимался Федон. – Как же это случится?
– Тогда и узнаешь, – ответил Сократ, посмеиваясь. – Или выпей псиктер вина, и это откроется само собой: как растворяешься в пьяном блаженстве, так растворишься в прекрасном.
– А похмелье будет? – спросил Аполлодор.
– Нет, похмелья не будет, – ответил Сократ и по-отечески обнял Федона, то ли жалея, то ли завидуя ему.
Платон трепетал от ожидания, что Сократ вот-вот откроет нечто тайное, сокровенное – путь к рождению в красоте, путь к бессмертию. Так близок, казалось, был Сократ к этому откровению. Больше того, собственные мысли Платона обгоняли слова Сократа и уже приоткрывали ворота страстно желаемой тайны, великого знания, в сравнении с которым все прочие – пустая забава ума. Теперь он как никогда понимал, за что Алкивиад любил Сократа, этого пучеглазого лысого сатира. Предметом любви для молодого знатного красавца была таящаяся в душе Сократа наиважнейшая для смертных правда – истина о бессмертии.
– Кто воспламенит в себе любовь к прекрасному, тот уже при жизни станет недосягаем для лжи, алчности, насилия и всех прочих пороков. Это надо знать, Федон, – отпуская мальчика, сказал в заключение своих наставлений Сократ. – А вот афиняне, не зная этого, изгнали Анаксагора, отвергли Перикла, убили Фидия, как будто мудрец – враг богам, добродетельный и мужественный воин – враг соотечественникам, а любящий прекрасное – вор. Посредственность – вот проклятие человеческого рода: в ней, как в болоте, тонет всё, что возвышается над ней. Посредственность чтит богов, но ненавидит богоподобных людей.
Платон слышал, будто в молодости Алкивиад домогался любви Сократа, даже проник однажды к нему в палатку – дело было в походе – и забрался к нему под одеяло. Но Сократ сказал тогда: «Ты хочешь обменять свою медь на моё золото? Своё смазливое личико – на мою душу? Влюблённые должны обмениваться только равными драгоценностями – истинной красотой».
Сократ отдавал свою красоту без обмена, дарил и рассыпал её, как драгоценные камни. А Платон подбирал этот бесценный дар и плакал в душе от восторга.
– Что ты так насупился, Платон? – вдруг обратился к нему Сократ. – Или всё ещё скорбишь по умершему Агафону? Не надо горевать. Радуйся тому, что когда придёт время умереть тебе, то в тех краях, куда отлетит твоя душа, её уже будут поджидать души великих и прекрасных.
Площадь, отделявшая портик от святилища Афродиты, не была выложена камнями, как, скажем, площадь перед храмом Зевса, а пестрела полевыми цветами по бокам песчаных тропинок да зеленела кустами дрока и можжевельника. Повсюду звенели цикады, словно в душном горном ущелье, где камни раскалены и сгустившийся от жары воздух неподвижен и глух.
– Опять эти цикады, – сказал Сократ. – Они то слышны, то нет. Когда мы говорим, их не слышно, а когда молчим и дремлем в тени, словно овцы в полдень, слышим их. Эти маленькие создания будто смеются над нами, потому что более преданы своему призванию – петь, чем мы своему – мыслить и познавать. Леность ума – великий порок, мать всех пороков, потому что, будучи причиной невежества, толкает людей на зло. Кто заставляет свой ум трудиться так же самозабвенно, как поют цикады, навсегда сохранит человеческий облик – и под землёй, и на небесах.
А священные невидимые музыканты, опьянённые солнечными лучами, стрекотали, превратив площадь перед святилищем Афродиты в театр, не ожидая за своё искусство никакого вознаграждения – ни венков, ни амфор с маслом и благовониями. Да ведь им, кроме пения, и не надо ничего: они питаются одной росой на восходе солнца, у них нет крови, а есть одно только сухое звучное тельце, превратившееся давно в музыкальный инструмент дивного звучания. Сладострастных пророков жары любят музы, и это всё, чего они жаждут, подобно трудолюбивым хоревтам[49]49
Хоревты — участники хора, группы танцующих и поющих исполнителей, выступавших в культовых обрядах, трагедии и комедии.
[Закрыть], мечтающим о похвале хорегов[50]50
...похвале хорегов, — Хорег – состоятельный афинский гражданин, бравший на себя расходы по постановке драмы, содержанию актёров и хора.
[Закрыть]. Кифареды любят рассказывать историю, как однажды на пифийских состязаниях в Дельфах у одного музыканта, когда он был уже близок к победе, лопнула на кифаре струна. И тогда одна цикада слетела с дерева и заменила своим пением звон утраченной струны. В Локрах, говорят, есть статуя кифареда с сидящей на кифаре цикадой.
А некоторые утверждают, что в год, когда неистовствуют цикады, умирают поэты.
Вот уже умер Агафон – поэт прекрасный и мудрый. Забылся в предсмертных снах божественный Софокл. И Эврипид, упомянутый дельфийской Пифией в оракуле о Сократе, говорят, неизлечимо болен. Благодарение небу, Сократ не поэт...
Проходивший мимо портика юный богач и аристократ Калликл, увидев Сократа в кругу друзей, крикнул издалека:
– Слышал ли ты, Сократ, что тебя избрали булевтом в Совет Пятисот, – и громко засмеялся. Должно быть, ему казалось смешным, что Сократ, этот бедняк, говорун и бездельник – так он представлялся многим аристократам, – будет заседать в Булевтерии рядом со знатными и почтенными афинянами.
Сократ кивнул в ответ головой, но ничего не ответил.
– Надо ли тебя поздравлять с избранием в Совет? – обеспокоенно спросил Критон.
– Мой внутренний голос, мой демоний, всегда возбранял мне заниматься государственными делами, – ответил Сократ. – Если бы я не слушал его, то уже давно погиб, ибо нет такого человека, кто смог бы уцелеть, откровенно противясь большинству и тем беззакониям, которые совершаются в нашем несчастном государстве. Кто ратует за справедливость и хочет уцелеть, должен оставаться частным человеком. Впрочем, посмотрим. А поздравить меня можешь, Критон: ведь не сам я стал членом Совета Пятисот, а фила[51]51
Фила — основное подразделение гражданского коллектива в греческом полисе (городе), по своему происхождению восходит к родовому обществу. Она состояла из нескольких фратрий – союза нескольких родов. Каждая фила посылала в совет 50 членов, пританов, занимавшихся ведением дел в совете на протяжении 1/10 части года.
[Закрыть] Антиохида избрала меня. Воля народа, говорят, есть воля богов. Получается, будто боги меня заприметили и выдвинули в Совет. А это не так уж мало. Правда, Критон? – Сократ невесело засмеялся.
Три известия взбудоражили Афины и передавались из уст в уста. Возвращаясь из Македонии домой, на Саламин, умер творец великих трагедий Эврипид. На несколько дней пережил его великий Софокл. Это о них, как известно, дельфийская Пифия сказала: «Эврипид – мудр, Софокл – мудрее, но самый мудрый из афинян – Сократ».