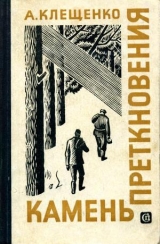
Текст книги "Камень преткновения"
Автор книги: Анатолий Клещенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
8
Прибыли новые лесорубы. Заселили пустовавшую половину барака. Работы прибавилось – топить лишнюю печь, полов мыть куда больше. «Вот и все, что изменилось!» – сказала бы Настя.
Фома Ионыч добавил бы: «Заготовка древесины по участку увеличилась на столько-то кубометров». И непременно бы оговорился: «Пока…»
Это «пока» означало уверенность, что новички не развернулись еще как следует. Применяются к новым условиям, к новой технике. Да и вообще, стоит ли говорить об этом до снега, до нормальной вывозки по ледянкам?
А в бараке, на двух его половинах, по-разному жили люди. Разные люди, не похожие друг на друга и еще более не похожие одни на других, новые жильцы на старых. Жили, стараясь не мешать соседям за стенкой, чтобы от греха подальше.
– Не получается дело с твоим активом, – доложил Фома Ионыч приехавшему «утрясти организационные вопросы» инженеру Латышеву.
Тот мотнул головой в сторону левой половины барака:
– Пьют?
– А чего им еще делать?
– Да… – собираясь с мыслями, вспомнил Латышев. – Начальник милиции на партактиве опять шум поднимал. Говорит: беремся людей выправлять, речи произносим, а потом что? Прав Субботин. Потом – как у нас: живите себе по-своему!
Фома Ионыч, помусолив во рту карандаш, которым подсчитывал что-то для отчета, спросил с ехидцей:
– А чего он хочет, Субботин? Чтобы их, значит, за ручку водили? Их, Антон Александрович, не шибко поводишь…
– Какие-то пути надо искать, Фома Ионыч… Воспитывать… Чтобы коллектив болел за этих людей…
– Верно, что на речи-то вы мастера! – недовольно забрюзжал Фома Ионыч. – Как ты его воспитывать будешь? Говорить: не пей да не воруй? Об этом, брат, сорок лет Советская власть твердит, и раньше по божественным книгам попы учили. Там же еще сказано было: имеющий уши да слышит! А ежели человек не хочет услышать, тогда как? Чтобы коллектив болел! Ну, сказал! У меня внучка вон как за ихнюю пьянку переживает, а что толку?
– Вот и подумаем все вместе. Сегодня партсобрание созвать надо. Теперь у тебя на участке четыре коммуниста. Да комсомольцев двое.
– Ну и что? Ну и четыре! – начал раздражаться Фома Ионыч. – Я тебе наперед все расскажу за них. За Тылзина, и за Сухоручкова, и за Фирсанова нашего чарынского. Скажут, что воспитывать надо, и болеть, и – что ты еще говорил?.. А как таких воспитаешь? Агитацию проводить? Да твоя агитация в одно ухо влетит, а в другое – тю! тю! – вылетит. Пошлют они тебя с ней подальше. Душу у человека задеть надо, Антон Александрович! Душу! Тылзин или Васька Фирсанов, или я – можем такое? Скажи, можем?
Латышев промолчал.
– То-то, милок! – вздохнул Фома Ионыч и, тоже помолчав, добавил: – И еще нужно, чтобы душа имелась. Вот и подумай…
Инженер думал.
– Понимаешь, Фома Ионыч, – заговорил он погодя. – Надо, чтобы тянулись они к чему-то. Увлечь чем-то. Чтобы вросли в коллектив…
– Голые, опять же, слова, – возразил мастер. – Каким лешим их увлечешь? А насчет «врасти» – как они в Конькова врастут, ежели он и во сне боится, что упрут часы? Да и я, грешным делом, побаиваюсь. Народ такой, что лучше от него в сторонке… милиция отсюда далече…
Инженер развел руками: верно, слова голые. Но вовсе ничего не говорить, ничего не пытаться – еще хуже! И он сказал с укоризной:
– Да что ты, Фома Ионыч! Стыдись!
Фома Ионыч хотел было ответить, но только вздохнул – который раз уже! – и демонстративно занялся своей трубкой.
Вечером, вместо собрания, Латышев решил провести беседу. Поговорить по душам.
– Гостей к вам позвать можно, товарищи? – предварительно спросил он у новичков и пояснил: – Соседей. Ну и чарынских, конечно. Поговорить о житье-бытье…
– Полов, поди, не прошоркают, – пожав плечами, поскреб требующий бритвы подбородок Чижиков, доживающий в общежитии последние дни.
Но и неотделяемые стеной, пятеро лесорубов с левой половины барака не пожелали смешиваться с остальными. Трое – Воронкин, Ганько и Ангуразов – уселись на корточки у дверей, привалясь спинами к стене. Стуколкин придвинул к ней две табуретки – себе и Шугину.
Все остальные сгруппировались почему-то возле противоположной стены, у окон. Снаружи к окнам вплотную приникла ранняя осенняя темень, дыхание ее оседало на стеклах капельками холодной мороси. Вблизи было видно, как стекались капельки в капли и окатывались вниз, оставляя недолговечные глянцевые черные дорожки.
Последней пришла Настя, робко прислонилась к косяку. Она – единственная – невольно оказалась на стороне пятерых из левой половины.
– Что с ногой? – поинтересовался Латышев у Шугина, одновременно приветствуя его кивком головы, как знакомого.
– Бюллетень до пятнадцатого. Надоело…
– Надо потерпеть… Так вот, товарищи… – инженер сделал паузу и продолжил неожиданно: – Давайте бросим курить! Собралось нас много, а люди здесь ночевать будут… Поговорить я хотел вот о чем!.. Небольшой сравнительно объем работ и отдаленность не только от районного центра, но и от ближайшего населенного пункта ставят в очень тяжелое положение организацию вашего отдыха. В смысле бытовых условий. Я имею в виду клуб, кино, скажем… В общем, понятно? Ну, с электрическим освещением наладится – поставим движок. Так что почитать книгу…
– А где их брать? – спросил, блеснув сталью зубов, Скрыгин.
– Я скажу… Значит, свет будет. Будет радиоприемник или радиола… Но этого, конечно, мало, товарищи. Электрическое освещение и радио погоды не делают. И книги. Насчет книг – я думаю, что культотдел обяжет библиотеку в Сашкове выделить нам передвижку. Заведовать этим делом будет… вот вы же, товарищ Скрыгин, или товарищ Усачев. Как членов ВЛКСМ попросим. Да… Что еще? Доставим настольные игры: шашки, шахматы, домино. Но веселее не будет, если книги да игры будут пылиться на полках. Можно организовать коллективные читки, шахматные турниры…
Фома Ионыч вздохнул и, забыв о запрещении, стал набивать трубку. Пятеро у дверей перемигивались. У окна закашляли, заскрипели стульями.
– Извините, – сказал Усачев, по привычке одергивая гимнастерку. – Как с кинопередвижкой?
Латышев развел руками:
– Вряд ли получится. Демонстрация фильмов разрешается только при наличии каменных кинобудок. Были случаи пожаров…
– Позвольте… – Усачев даже шагнул вперед. – Ведь есть негорючие материалы… Я имею в виду киноленты.
– Ничего не могу сказать, хотя и слыхал. Возможно, опытные экземпляры? В прокате таких нету пока. Ну, а строить будку, везти кирпич – сами понимаете. Через пять месяцев мы должны вырубить дачу…
– А пять месяцев вполне можно жить без кино, бриться топором и жениться на Жучке, с которой мастер зайцев гоняет? Точно, начальник! – выкрикнул Ганько.
– Ну, знаете, невест вам я искать не могу. Сваха из меня плохая! – попробовал отшутиться Латышев.
Кругом заулыбались, зашелестел приглушенный ладонями шепоток. Иван Яковлевич Тылзин сказал громко и добродушно:
– За этим, паренек, ты не только в Сашково – в город босиком сбегаешь. Такое дело!
– А женишься, – подхватил Фома Ионыч, – так я тебе свою пристройку отдам, если в Чарыни жить не захочешь. Ей-богу!..
На этом и кончилась беседа. Люди заговорили друг с другом, задвигали скамейки. И Латышев должен был признаться себе, что иначе кончиться и не могло. Ничего определенного, действенного не выдумаешь. И не заставишь укладывать досуг в рамки «рекомендуемых мероприятий» по рецептам культотдела. Не для таких мест писаны. Инженер собрался уже сказать: «До свиданья, товарищи», еще что-нибудь приличествующее и уходить, но дорогу загородил Усачев:
– Разрешите обратиться. Хочу сказать, что библиотеку возьму на себя охотно. Но, знаете, книгами мало интересуются. Скрыгин если, да Иван Яковлевич… Не знаю, как среди этих товарищей, – он показал глазами на пятерых у двери. – Вот если бы сюда музыку. Баян. Спели бы что-нибудь хором…
– На баяне играть надо, – усмехнулся инженер.
– Так я же баянист, товарищ инженер!
Широкие плечи и солдатская подтянутость собеседника не вязались с обликом музыканта, который почему-то представил себе Латышев.
– Баянист?.. То есть ноты читаете и вообще?..
– Так точно. Играл в полковом ансамбле.
– Интересно… Знаете, я поговорю с директором. Действительно, баян… – Он сделал жест, будто ловил плывущую в воздухе паутинку. – С уверенностью сказать не могу, но думаю – фонды у нас есть…
Тут он услышал, как кто-то из пятерых, гурьбой двинувшихся к двери, воскликнул: «Баян – это вещь, братцы!» Реплика пришлась кстати, инженер решительно хлопнул по плечу Усачева:
– Будет баян. Устроим!
Словно ненароком отстав от своих, Шугин задержался около Насти. Глядя в сторону, неловко ворочая языком, сказал:
– Слушай, ты не сердись. Психанул я тогда…
И, уже не пряча глаз, посмотрел виновато, просяще:
– А?..
Девушка успела только растерянно улыбнуться в ответ – Шугина подхватило волной уходящих чарынских лесорубов, вынесло в сени. Но и улыбка эта говорил яснее ясного, что Настя не думала сердиться, что сердиться ей было всегда трудно, а прощать или мириться – легко.
Зато нелегким, кружным путем шел к этому необходимому для него примирению Шугин. Шел, спотыкаясь на обидных для мужской гордости думах, приостанавливаясь, колеблясь…
Но та самая попранная мужская гордость, которая норовила загородить дорогу, его же и подхлестывала. Тишком, исподволь, хоронясь за другими чувствами.
Сначала он только искал в девушке такое, что оправдало бы его презрение и злобу. Искал слабостей, изъянов. «Девчонка, дура, черт знает что воображающая», – уверял он себя. И вдруг напал на удивительно емкое слово: «Кокетка!» Напал и уцепился за него, не сознавая, что ищет спасительную соломку.
И сразу все стало простым, понятным. Таким, с чем можно мириться.
Конечно, кокетка, как и все девчонки на свете. Да разве хоть одна скажет сразу, что ты ей нравишься? Никогда в жизни! Станет крутить носом, будто смотреть на тебя не хочет. Чтобы распалить, а себе набить цену.
Черт, может, Настя и не хотела набивать себе цену? Даже наверняка не хотела. Но ведь она девчонка, а все девчонки обязательно выламываются сначала: мол, нужен ты мне очень, как же!
Просто они не могут иначе, девчонки… А он, псих несуразный, невесть что подумал!
Улыбка Насти вернула беспокойство, к которому Шугин начал уже привыкать, как к обычному состоянию, к покою.
Утром он, опираясь на палку, загородил ей двери на половину новичков. Спросил:
– Не сердишься?
– Чего мне на тебя сердиться? – вопросом же ответила девушка. – Матерков я наслышалась, они не липнут. Напился опять зачем?
Испытывая странное удовольствие от ее попечения, желая продлить его, так как наперед знал, что скажет девушка дальше, прикинулся кающимся:
– Ребята втравили. Как откажешься?
– Ребята! Свою голову надо иметь, не маленький. Смотреть противно! – гневно заглядывая ему в лицо, Настя подняла поставленное на пол ведро с водой. – Не мешай, мне убирать надо.
Шугин отступил с дороги, позволяя ей пройти в комнату. Провожая взглядом, остановил его на солдатском бушлате, висящем в простенке между двух окон. В груди шевельнулось чувство опасения чего-то. Он сказал, пристально наблюдая за девушкой:
– Баянист объявился. Слыхала вчера? – И испытывая и боясь этого испытания: – Кажется, парень правильный. Ничего парень.
– Все вы ничего, пока спите, – не поворачиваясь, ответила Настя, хотя он и не спрашивал, а делился своим мнением. – Уйди, я мыть буду.
Подождав, когда Шугин притворит дверь, девушка подоткнула юбку, принимаясь за уборку барака.
– Нашел правильного! – подумала она вслух. – Колю Курочкина из «Свадьбы с приданым»…
9
На редкость обильный первый снег выпал, когда Виктор Шугин вышел на работу. Подготовленный наивными восторгами Насти к чему-то новому в нем, скрытому, прятавшемуся доселе, парень с удивлением смотрел вокруг. Смотрел, как будто впервые видел непорочной белизны землю, расцветшие огромными и пышными серебряными цветами березы и ольхи, еще вчера костлявые, дрогнущие на ветру.
Снег выпал ночью. Первому зимнему дню сопутствовала праздничная торжественность, складывающаяся из необычной нарядности, сбывшегося ожидания и щедрости света.
На вырубленных делянках зайцы застрочили снег узорными вышивками хитро запутанных следов. Пни спрятались под белыми папахами. Не стало ни черных, неопрятных кострищ, ни ржавчины листьев и трав. Вместо прели в лесу пахло свежестью и чистотой, как летом после дождя.
К полудню снегу еще добавило.
Шугин, Стуколкин и Ганько работали втроем.
С корня лес валил Шугин «Дружбой». Ганько стоял рядом – «на подхвате», как говорил Стуколкин, не спеша обрубавший сучья у нераскряжеванных хлыстов. В обязанности Ганько входило подрубить лесину топором, вовремя поднести жердь с вилкой и, маневрируя ею, помочь дереву упасть в нужную сторону. Расторопный, сметливый, он легко управлялся с этим.
Прикинув на глаз, что дневная норма на троих с корня спущена, Шугин передавал «Дружбу» Стуколкину. Тот брался за раскряжевку, начинал распускать хлысты и бревна. Шугин с Ганько в два топора рубили сучья и окучивали раскряжеванный лес, готовя к вывозке.
Дело у них спорилось – за плечами значился многолетний опыт работы в лесу. Они бравировали этим. В конце рабочего дня Ганько колотил обухом в заржавленный лемех, подвешенный на лесине, – он не ленился перетаскивать его с пасеки на пасеку. Рупором складывая ладони, орал:
– Съё-ё-м!.. На проверку стройся!.. Снимай оцепление!
А Воронкин, вкладывая в рот засмолившиеся пальцы, свистел залихватски.
Норму на участке не вырабатывали двое – Усачев и Скрыгин. Не хватало сноровки, старались брать силой. Силы у обоих было хоть отбавляй, оба верили в нее, но «на одной силе недалече ускачешь», как поучал Фома Ионыч.
В течение рабочего дня мастер по нескольку раз наведывался на четвертую пасеку, которую рубили демобилизованные солдаты.
Усачев нервничал. Вытирая пот рукавом, нетерпелив выслушивал советы и наставления – считал, что теряет драгоценное время. Почти пудовая «Дружба» казалась игрушкой в его руках, парень не чувствовал ее веса. На деревья к концу дня он смотрел, как на своих личных врагов.
Спокойный, добродушный Василий Скрыгин, внимательнее прислушивавшийся к советам мастера, пробовал иногда уговаривать напарника не торопиться, не пороть горячку:
– Давай поспокойнее, Борис! Тише едешь – дальше будешь.
– Время же идет, Васька. Люди уже норму заканчивают, а у нас еще пяти кубиков нету…
Работая через пасеку от тройки Шугина, оба видели не однажды, как у соседей от толчка последней, умело направленной елки или осины заваливалось сразу добрых полтора десятка деревьев.
– Полпасеки! – завистливо говорил Усачев. – Видал, как работать надо?
– Ловко! – вздыхал Скрыгин и, подумав, добавлял: – Научимся, ни черта!
Усачев, помня запрет мастера – не оставлять на корню надпиленные деревья, кривил губы:
– Научишься, если тебя не лес валить, а в рюхи играть учат! Люди без перестраховки действуют, вот у них и получается.
Не слушая предостережений Василия, однажды он запилил десяток лесин, рассчитывая, что все они лягут в направлении подрубов. И конечно, не подумал о ветре. Ветер опередил направляющий удар оставленной для этого осины. Одна из подпиленных елок неожиданно взмахнула ветками, валясь поперек пасеки. И не упала, ткнувшись вершиной в еще более матерую ель. На них навалились сбитые толчком деревья. Перепутались сучья, завязли друг в друге.
Образовалась грозящая каждое мгновение рухнуть и не рушащаяся груда висящих друг на друге лесин. Залом.
Ухватив топор, Усачев ринулся было под этот не желающий падать зеленый шатер, чтобы помочь ему завалиться. Скрыгин ухватил его за плечо:
– Ты что? Смерти ищешь?
Борис нерешительно затоптался на месте. Действительно, может быть, одного удара топором достаточно, чтобы залом рухнул и накрыл сделавшего этот удар.
– Намудрили! – сказал Скрыгин, принимая часть вины на себя.
Но напарник не согласился:
– Я виноват. – Он покрутил в руках топор, словно впервые взялся за него. – Все равно так оставлять нельзя.
Это было утверждение и вместе вопрос, просьба о совете: как быть?
Борис Усачев впервые обращался за советом к напарнику.
Скрыгин сдвинул на лоб ушанку, почесывая затылок. Невесело, для ободрения улыбаясь, решил:
– Пойду за мастером. Пусть он сам…
Усачев не возражал, и Василий зашагал по делянке, отыскивая Фому Ионыча. Нашел его в бригаде Тылзина – мастер и коновозчик Коньков возились около трелевочных саней СЛЗ-3, нагруженных лесом-подтоварником.
– Пособи сзади стяжком, на пень угадал слепой черт, – первым окликнул Скрыгина Фома Ионыч, сердито поглядывая на Конькова. – Возит по земле, а смотрит в небо.
Он дождался, пока Василий подберется стяжком под полоз, и скомандовал:
– Ну… раз, два… взяли!..
Сани накренились, переваливаясь через пень. Коньков задергал вожжами, заорал:
– Но!.. Но, милые!.. Но еще!..
Воз выровнялся. Крупная гнедая кобыла приостановилась, перебрала задними ногами и пошла без понукания, ровно, ненатужливо.
Скрыгин, бережно прислонив к пню стяжок, словно это была хрупкая и ценная вещь, сказал:
– Фома Ионыч, мы там… лес завесили… Не подступиться…
Мастер издал скорбно поджатыми губами чавкающий звук, всплеснул руками.
– Горе мне с вами, – вздохнул он и, не глядя на Скрыгина, буркнул: – Пойдем. Посмотрим.
Разборку залома Скрыгину и Усачеву Фома Ионыч не доверил. Поручил двум чарынским лесорубам, работавшим в смежной пасеке. Но прежде чем допустить и тех, долго, со всех сторон обхаживал залом. Потом велел подпилить старую ель с краю, в которой увязло поваленное ветром дерево, и «стронуть» ее ударом еще одной лесины:
– Этой, что скособочена малость… – ткнул он пальцем.
Борис Усачев стоял в стороне, стараясь не смотреть на «дело своих рук».
– Вот он, – кивком головы показал на него мастер. – Пасеку зараз хотел повалить, герой! Солдат, а порядка не понимает!
Большинство лесорубов узнало о происшествии только вечером. «Что ж, – думал каждый, – с кем не случалось?» Даже язвительный Ганько изрек нечто сочувствующее:
– Хорошо еще, что не пришибло. Остались бы без баяниста.
Но Виктор Шугин подчеркнуто громко – чтобы все слышали – рассказывал Воронкину:
– Мне бабка когда-то сказку читала про чудака, который хотел веревкой весь лес обвязать и на спине уволочь. У нас тут внатуре такой делец есть!
Шугину не нравился Борис Усачев. Не нравился потому, что Виктор Шугин, вожак и главарь, угадывал в нем человека, не умеющего ходить в рядовых, в незаметных. Боялся, что Усачев захочет поднять голову выше его, Шугина.
Но если бы Шугина спросили, почему не нравится ему Борис, – не солгал бы, ответив: «А черт его знает? Просто не нравится – и все!»
Он не умел, не собирался докапываться до причин своей неприязни. Считал, будто чувства рождаются сами по себе – из ничего, как и предчувствия.
Зато Усачев с этого дня знал, из-за чего ненавидит Шугина. Мог бы назвать многое, не нравящееся в нем, вызывающее неприязнь. Но не назвал бы главной и единственной причины – уверенности в неприязни Шугина к нему, Усачеву.
Вечно мотающийся по участкам Антон Александрович Латышев обманул Лужню, пообещав ей электрический свет. На складе нашелся подходящий движок, но не нашлось генератора. Зато в счет обещанного привез на легких, без подрезов, розвальнях два клетчатых ящичка с шахматами, в которые никто не умел играть, шашки, пять партий домино и баян Новосибирского завода в коричневом, тисненном под крокодилову кожу футляре.
Приехал он к концу дня, в лесосеку не пошел. Настя накормила гостя щами с капустой-хряпой, а к чаю подала янтарного морошкового варенья. Кончив чаепитие, Антон Александрович переписал на разграфленной синим карандашом бумажке все привезенное им, бумажку протянул Насте.
– Распишись. Тебе на подотчет, как инвентарь общежития.
Настя расписалась. Латышев бережно достал из футляра баян и, прижав пальцем беленькую пуговку, потянул мехи. От высокого, режущего слух звука обычно медлительный кот Пушок пулей ринулся под кровать. Тогда Латышев нажал пуговку слева, на басовой клавиатуре, и на этот раз удивился приятному, бархатистому голосу инструмента.
– Получается, а? – спросил он Настю, но, проводив взглядом напуганного кота, смилостивился: – Ладно, пойду в общежитие. Так и быть…
За опробованием баяна застали его вернувшиеся лесорубы. Степенный Сухоручков, войдя первым, сказал только:
– Ого, музыка появилась!
Высокий, всегда пасмурный, Коньков хлопнул в ладоши и, выбросив вперед ногу, пристукнул пяткой. Обут он был в растоптанные валенки, потому Сухоручков спросил как бы шутя:
– Подошвы показываешь? – И по-деловому – Латышеву, благо нашелся повод: – Валенки новые пора выписывать, Антон Александрович. Срок вышел. Да и брюки ватные надо бы поменять.
Борис Усачев приостановился на пороге, обрадованно загорелись глаза. Улыбаясь, забыв поздороваться, принял у инженера инструмент. На вытянутых руках, словно боялся запачкать о спецовку, поднес ближе к лампе. И только там, присев на краешек скамейки, любуясь на утонувший в черной глубине полировки блик отражения, яркий, как сама лампа, выдохнул:
– Новосибирский… Полный…
И, полузакрыв глаза, растянул мехи, сверху вниз пробежав правой рукой по всем клавишам.
Баян выкрикнул что-то, сыпанул щедрую россыпь разноголосых звуков, сник на высокой стеклянной ноте…
– Может! – кивком головы показал на музыканта Сухоручков и хотел продолжить разговор о спецодежде, но Усачев вдруг откинулся, разворачивая грудь, уронил голову на плечо и заиграл, словно откуда-то издалека принося мелодию за душу хватающей «Лучинушки», приближая ее, но все еще жалея отдать полностью.
Забыв, что собирался сказать, Сухоручков смотрел на Латышева. Вернее – сквозь него, через оклеенную цветастыми обоями стену за ним, через метель и тьму за стеной. Смотрел в зыбкую, как море, как море бездонную, и светлую, и непроглядную глубину певучей грусти.
Вечно недовольный, суетливый Коньков, привалясь к распахнутой двери, зажмурив глаза, беззвучно шевелил губами. Иван Тылзин в темных сенях не решался перенести ногу через порог.
А мелодия крепла, ширилась. Баян пел во всю мощь. И когда он неожиданно умолк, люди продолжали прислушиваться к чему-то…
И только один человек – Борис Усачев – собранно, победно тряхнул головой, испытующе оглядев слушателей. Его взгляд встретился с блестящим от слез взором Насти. Он отвел глаза и снова проиграл гамму.
– Не ожидал. Честно говорю, не ожидал! – покаялся Латышев. – Только повеселее бы надо что-нибудь… Посовременнее…
Борис послушно наклонил голову, тронул клавиши. Баян запел с придыханиями, приглашая подпевать:
Мы парни бравые, бравые, бравые.
Но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые…
Колдующее обаяние глубины, в которой каждый видит свое, сокровенное, пропало. Люди заулыбались. Коньков, пританцовывая, прошел к своей койке и стал разуваться. Тылзин движением руки сверху вниз надвинул ушанку на глаза Скрыгину, подмигнул. Сухоручков бочком обошел баяниста и, скорбно покачав головой – оборвалась вешалка, – снял брезентовку.
…Но только так, чтоб не кружилась голова… —
тихонечко напевала за стеной Настя, не в такт позванивая посудой.
Только Фома Ионыч, не прислушиваясь, подводил итог дню – считал кубометры.
Лесорубы умывались, садились ужинать. А Борис Усачев все играл и играл, переходя от одной песни к другой. Но вот он, отставив баян, вопросительно посмотрел на Латышева. Видимо, его не удовлетворило инженерское «не ожидал!»
Антон Александрович подошел к баяну, рукавом протер затуманившуюся от дыхания музыканта полировку. Он был доволен, довольство открыто просвечивало сквозь торжественное выражение лица, как спелая мякоть – через кожуру яблока.
– Очень хорошо! Просто удача, что вы оказались на этом участке, товарищ Усачев. Очень кстати! Будет теперь на кого опереться… – оживленно заговорил инженер.
Он представлял себе Усачева-баяниста самонадеянным любителем, с грехом пополам играющим несколько избитых песенок. Не верил в его умение. Обрадованный ошибкой, подсознательно стараясь искупить былое недоверие, Антон Александрович поверил теперь в Усачева-культурника, в Усачева-организатора. Здесь позарез нужен был такой человек, и он нашелся. Он превзойдет все ожидания так же, как с баяном. «Следует только предупредить его, что это не легко», – подумал инженер и сказал, грустнея:
– Конечно, трудностей много. Лес, глушь… До сих пор светом обеспечить не можем… Привез я тут кое-какие игры, книги в культотделе пообещали… Что и говорить, на этом далеко не уедешь. Но большего нет! В общем, полагаюсь на вас, на товарища Скрыгина. Сбивайте вокруг себя актив, тяните к себе остальных…
И тут из сеней, где все еще толпились люди, привлеченные музыкой, насмешливо выкрикнули:
– Другим баяном, начальник, тянуть надо. Двуручным, который пилой называется. Работать надо, положенные кубики давать.
Это сказал Шугин, который никогда не ратовал прежде за кубометры, за план, за производственные показатели участка.
У Бориса Усачева помутнел взгляд.








