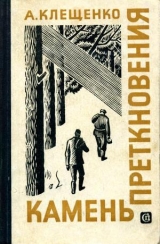
Текст книги "Камень преткновения"
Автор книги: Анатолий Клещенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
4
Настя не разделяла соседей на законных и незаконных. Пожалуй, даже не считала их ворами – они ведь ничего не воровали, да и нечего было воровать здесь. Просто одни будили в ней больше жалости, другие – меньше. Жалость уходила корнями в прошлое, когда слова «арестант» и «несчастный» звучали одинаково. На старых корнях выросли новые побеги. Девушка думала, будто заключение отучило ребят от обычных человеческих радостей и печалей, исковеркало, озлобило.
Возможно, жалела не их, а человеческие жизни, в них загубленные. В этом она не умела разобраться.
Больше других Настя жалела Шугина.
Женское сердце всегда подкупает превосходство одного над многими. О подоплеке шугинского превосходства Настя ничего не знала. В «разбойничьем», по словам деда, взгляде читала то ли грусть, то ли горечь. Так ей казалось, по крайней мере.
По ее мнению, пьянствовал Шугин меньше остальных. И реже ругался нехорошими словами.
Только это она и смогла бы сказать, покамест ранение не приковало Шугина к бараку. Поневоле станешь приглядываться к человеку, если он все время перед тобой.
В первые же дни девушке стало ясно, что у него два лица. Одно – чем-то смущенное, нравящееся. С затененными длинными ресницами глазами, печальными морщинками в углах тонких губ. Лицо обиженного человека.
С возвращением в общежитие рабочих оно пропадало куда-то, подменялось другим. Холодным, настороженным, с вечным насмешливым прищуром глаз и усмешкой одной половинкой рта. Лицо человека, намеренного оскорбить, обидеть.
Сначала Настя думала: Шугин не любит своих товарищей, они раздражают его. Но потом стало казаться, что он с нетерпением ждет их возвращения, тяготясь ее обществом. Видимо, скучно с ней? Тогда, считая себя сиделкой у постели больного, девушка решила больше уделять внимания ему, развлекать, подбадривать.
Делала это как умела.
По-своему.
Не зная, чем лучше заинтересовать, рассказывала обо всем, когда-либо остановившем внимание. Настя считала себя необычайно мудрой утешительницей. Старалась так строить разговоры с больным, чтобы Шугин черпал в них бодрость и терпение. Примером должны служить люди, в подобных случаях терявшие больше его.
Хитрости были удивительно бесхитростными.
Словно ненароком вспоминала, что Фома Ионыч однажды рассадил косой ногу накануне открытия охоты. Ждал этого дня, как праздника. Чуть не за два месяца готовиться начал. И пожалуйста! Пришлось перебинтовать ногу, чуть не выше головы задрать. Кровь никак не могли остановить иначе. А дед знает одно – ругается. Ведь в лесу-то – восторженно полузакрыв глаза, девушка представляла себе августовский лес, еще щедрый на запахи и цветы, – в лесу-то!.. Торопясь, рассказывала о взлетающих из-под самых ног тетеревах и глупых еще глухарятах, уверенных, будто неподвижность делает их невидимыми. Как деду не ругаться? Хоть всего два охотника в деревне, а пойдут – не перебьют выводки, так разгонят!
В паузе, якобы невольной – надо-де сходить по воду или растопить плиту, – Шугину полагалось прочувствовать бездонную глубину горя Фомы Ионыча. Гремя ведрами, девушка исподтишка взглядывала на него: понял ли?
И только после этого, как ей думалось, утешала: к деду пришли охотники, Иван Васильевич Напенкин и бригадир Горшков, без ружей. Пришли, чтобы сказать: «Дедко Фома, решили тебя подождать. Пусть подрастут тетерева. Чтобы не обидно тебе дома сидеть одному».
Взгляд ее светился торжеством: каково? Стоит ли мучиться и переживать, если, в конце концов, все складывается благополучно?
Или случай с Наташкой Игнатовой в Сашкове. Жалко, что Виктор не знает Наташку. Первая красавица, а плясунья – на областной смотр два раза ездила! Вот той не повезло так не повезло: перед самым маем упала с крыши. Антенну полезла ставить, приемник купили Игнатовы. Ну и сломала ребро. В клубе выступать надо, шефы должны приехать, а ей с постели не встать. Так что он думает? – сашковские девчонки вместо клуба пришли к Наташке праздник встречать. Натащили кто чего мог. И не танцевали, только что песни пели весь вечер…
Настины рассказы целительным бальзамом не проливались. Шугин томился, кусал губы. Не сознавая того, девушка открывала ему новый, совершенно неведомый доселе мир. Не дерзость и не сила управляли взаимоотношениями живущих в нем.
Люди, населявшие его, совсем не походили на известных ему прежде.
Этот мир был как ярко освещенная витрина игрушечного магазина в детстве. Отгороженный от действительности стеклом. Недоступный и непонятный.
Дороги туда Шугин не знал, не собирался искать.
– Брось! – болезненно кривясь, приказывал он.
А помолчав, опалив губы жадно докуренной до самого конца папиросой, просил:
– Настя! Ты чего молчишь? Тисни чего-нибудь про своих тетеревов, что ли…
Девушка терялась – сбивали противоречия в его настроениях. Но ведь больным следует потворствовать, даже когда они капризничают. И опять Настя, думая успокоить, бередила ему душу. Опять заставляла заглядывать туда, где просто, без надрыва и наигрыша, жили люди, занимаясь вроде бы неинтересными, но почему-то будящими зависть делами. Трудные будни здоровой веселой молодости выглядели праздниками. Вечера перешептывались и пересмеивались в синем сумраке голосами гуляющих по деревне парочек, ничего не боящихся, ни от кого не прячущихся. По утрам у колодцев девчата обливали водой парней, не вовремя пристающих с любезностями. Языкатые бабы отпускали беззлобные шуточки вслед пострадавшим. Точно, без промаха били в цель озорные частушки…
И опять, кусая губы, Шугин отмахивался:
– Брось!
Очень хотелось уверить себя, что все это не интересует. Подумаешь, жизнь! Да что она видела хорошего, девчонка?
А что видел он?
Ну что?
Его мутило от раздражения, причины которого он не знал. Но возвращались с работы лесорубы – и все становилось на свое место. Подхватываемый течением, он с радостью отдавался ему. Только временами беспокоило чувство, что это – именно течение. Зыбкое, неверное.
Можно держаться на поверхности, делая какие-то усилия. Можно плыть.
Но опоры, дна под ногами не было.
Прорва, пучина.
Наедине с Настей, испытывая болезненное раздражение от ее рассказов, Шугин не находил себе места. Метался, не зная, куда девать себя. Но плыть по течению, удерживаясь на поверхности, – это уже требовало какой-то целеустремленности, даже если впереди не существовало цели. Это позволяло пристроить себя куда-то, пусть ненадолго.
Ребята приходили злые, ругая бога, в которого не верили, переругиваясь друг с другом. Сбросив ватники, начинали варить картошку, выручающую в дни безденежья после пьянок. Картошку воровали на полях в Чарыни. Только Стуколкин, во избежание соблазна всегда покупавший в запас крупу, макароны и сахар прежде, чем первую бутылку водки, стряпал особо. Заботу о пропитании больного Шугина он решил взять на себя. Без просьб или принуждений, по доброй воле.
Стуколкин – иначе Никола Цыган – был самым пожилым и, наверное поэтому, самым спокойным. Единственный из всех, он не стеснялся говорить иногда, что пора «завязывать».
– Разве вы босяки? – издевался он, по очереди сверля каждого острыми, в самом деле цыганистыми глазами. – Украсть любая шпана может, это еще не вор – украсть… А вам только картошку и воровать, иначе с голодухи сдохнете…
Шугин догадывался: Стуколкин хочет дотянуть до весны, получить расчет и сразу же уехать куда-то далеко. Чтобы оторваться от воров, затеряться в людской сутолоке, притихнуть.
Шугин тоже не воровал картошку. Зачем, если это другие сделают? Но Стуколкин не потому выделял его из числа остальных.
– Заблудился ты, малый! – сказал он как-то. – В трех соснах. В цвет тебе гадаю, я ведь цыган.
Играя в карты, Стуколкин всегда выигрывал. Потом, когда остальные проигрывались, пропивались вконец и в похмельной тоске облизывали шелушащиеся губы, он опохмелял их, посмеиваясь:
– За ваши же гроши, без убытка!..
Сам или пил меньше других, или водка его не брала.
Наиболее приверженным к пьянству был Костя Воронкин. Ростовчанин, отбывавший меру наказания на Севере, он с еще бо́льшим, чем другие, нетерпением ожидал весны. Теплого попутного ветра.
Шебутной – была его воровская кличка. Он заслужил ее за крикливость, скандальность. Может быть, поэтому не любил уравновешенного, сдержанного Стуколкина.
– Сука, кого он учит? За меня люди скажут, босяк я или нет. Витёк, я что? Сявка? Да я ему, падлюке, пасть порву!
Шугин знал цену таким истеричным выкрикам – не много они стоили.
Знал и Стуколкин.
Дружок Воронкина – «зверек» Закир Ангуразов – был его немногословным, но верным подголоском. Предпочитал держаться в тени, за него все решал Костя.
Пятый, самый молодой из всех, – харьковчанин Ганько, по кличке Хохол, с чистыми девичьими щеками, – не выпускал из рук карт. Водку он пил, чтобы не казаться белой вороной в стае, похмелье переносил особенно трудно.
Вместе этих разных людей свел случай, а умирающая темная традиция заставила играть в дружбу, в товарищество. Кто они в самом деле? Волки, вынужденные спрятать клыки, или только представляющиеся волками шавки, как считает Стуколкин?
По собственному опыту Виктор Шугин понимал, до чего трудно судить об этом.
Да он и не пытался судить. Главное – остальные считали его волком: Может быть, один Стуколкин сомневался, но молчал. И все поджимали перед ним хвосты. Большего ему не требовалось.
Досрочное освобождение он принял как случайный выигрыш. Они также, наверное. Но что делается в их душах теперь – Виктор не знал, не пытался узнать. Никто не открывает козырей до конца игры, не позволяется заглядывать в чужие карты. Значит, все идет своим чередом…
Оживление, вызванное возвращением в тепло и хоть скудным, но все-таки ужином, гасло очень скоро. Впереди ждал долгий осенний вечер, который следовало занять чем-то.
Чем?
Не хочется отворять двери в промозглую тьму, чтобы выбросить окурок. Хлюпать в этакой тьме по грязи в деревню не хотелось тем более, Да и что за радость идти туда? Киносеансы запретили, немногочисленные чарынские девчата убегают по вечерам в клуб, в сельпо без денег водку не отпускают.
До клуба, до Сашкова – тринадцать верст, чертова дюжина. Конечно, в клубе весело: почти каждый день кино, танцы под радиолу. Можно познакомиться с хорошенькой девчонкой, есть такие в Сашкове. А что, если махнуть все же туда?
Начав традиционной руганью, Костя Воронкин изрекает фразу, тоже ставшую традиционной:
– С этой зарплаты надо будет ле́пень купить.
Лепень, лепенец, лепеха – так на воровском жаргоне именуют костюм.
Помолчав, он замечает насмешливые ухмылки товарищей и начинает горячиться:
– Свободы не иметь, куплю! Не в чем в деревню показаться, надоело…
– Значит, после получки обмывать будем? – с фальшивым добродушием спрашивает Ганько.
Стуколкин подмигивает ему:
– А как же иначе? Только ты, Костя, не торопись его надевать. Поношенный не возьмут обратно, когда тебя похмелье начнет ломать.
– Я на похмелье у тебя поищу грошей. Ты, наверное, еще с прошлой зарплаты зажал?
– Поищи! Поищи! – Стуколкин ласково кивает. – Лапы у тебя длинные, вполне по локоть секануть можно.
– Ты, что ли, секанешь?
– Я, милый. Попробую…
– А ну, пробуй! Пробуй, или я тебя…
Протягивая руки, Воронкин подступал к Цыгану. За ним, сверкая голубоватыми белками, молча поднимался Ангуразов.
Успокаивал их Шугин:
– Кончайте шумок, вы! С чего заводитесь, идиоты?
Стуколкин – как ни в чем не бывало – только пожимал плечами. Воронкин утихал неохотно, долго.
– Делать нечего больше, твари? – упрекал его Виктор.
Делать было нечего, разве играть в карты.
Первым об этом, как правило, вспоминал Ганько. Положив перед собой затасканную подушку, по-казахски усаживался на койке. Согнув колоду, чтобы пружинила, ловким нажимом пальцев заставлял карты с шелестом перемещаться из правой ладони в левую. Впрочем, жонглировать картами умели все пятеро.
Начиналась игра.
Играли под будущую зарплату – больше не на что было играть. Неуплата карточного долга наказуется изгнанием в «железный ряд», потерей всех прав «честного вора». Поэтому игра всегда протекала напряженно и страстно – за нею стояли верные деньги. Цену каждого рубля увеличивало сознание, что он не краденый, а заработан в поте лица.
Брань, фантастичная своей изощренностью, никого не оскорбляла, воспринимаясь как припев в песне. Угрозы не пугали. Истерики не беспокоили.
Таким был ритуал игры.
Ритуал соблюдался не только при игре в карты. Поступки, разговоры и жесты даже – все выдерживалось в единожды установленном каноне. Все должно свидетельствовать, что нечем дорожить в жизни, ничто не должно трогать сердца, сердца не существует.
Никто из пятерых не рассказывал о прошлом, если оно не касалось краж или странствий по тюрьмам. Как будто у людей никогда не было родных, отчего дома, а жизнь начиналась с первого привода в милицию. Правда, порой вспоминали женщин – как вспоминают выпитую бутылку водки, невесть куда брошенную или разбитую о камень.
Все человеческое считалось слабостью, унижало, заслуживало только насмешки и презрения.
Люди не хотели казаться людьми.
Они похвалялись друг перед другом звериными повадками, гордясь ими.
И некому было научить их иной гордости.
5
Именно об этом разговаривали Фома Ионыч и Латышев, инженер по лесоустройству, обходя лесосеку.
Мастер никогда не чувствовал себя способным учить там, где речь шла не о сортности древесины, технике валки леса или ледяных дорогах. Считал, что всему остальному должны учить люди более грамотные. За собой он оставлял право иногда наставлять внучку. Наставления сводились к одному – поступать, советуясь с совестью.
В то, что у присланных под его начало лесорубов имелась совесть, Фома Ионыч не верил. И все-таки, изменив обыкновению, попробовал однажды вмешаться:
– Поменьше бы вам заглядывать в бутылку, ребята…
Ему ответили коротко:
– Поменьше бы ты совался не в свое дело, мастер. Пьем на свои. Ну и… заткнись! Поня́л?
Фома Ионыч не нашелся, чтобы ответить достойно. Махнул рукой. Он никогда не отличался умением говорить. Наоборот, слов всегда не хватало его чувствам и мыслям.
В 1917-м помалкивал, слушая красивые фразы о войне до победного конца, – и воткнул штык в землю. Потом, тоже молчком, вновь взял винтовку, пошел отстаивать в гражданской войне мир. В партию большевиков записался, потому что там был Ленин. Но ни разу он не произносил речей, не провозглашал лозунгов, незаметный, рядовой солдат и чернорабочий революции. Красно говорить он так и не научился.
Инженер Латышев знал это:
– Трудно тебе с ними, Фома Ионыч. Понимаю. Но ведь на участке работают как-никак семнадцать человек. Коллектив!
– Коллектив? – мастер вздохнул, полез за кисетом. – Коллектив – он у нас, Антон Александрович, в лесосеке. Сам знаешь, кто валит, кто возит. Всяк своим занят. А после работы коллектив домой подается, в Чарынь.
– Да-а… – раздумчиво процедил Латышев сквозь поджатые губы.
Он хотел развести руками, но правая оказалась в кармане – искала спичек. На растопыренные пальцы левой инженер посмотрел так, словно это были пять лесорубов, с которыми надо что-то придумывать.
– Сопьются мужики. А от водки и до тюрьмы недалеко. Работают, говоришь, ничего?
– Работают как надо. Да что работа? В бараке-то сидеть вовсе тошно, а так хоть поразомнутся малость. Лошадь – и та из конюшни рысью бежит, ежели застоится. Опять же деньги – водку бесплатно не дают.
Миновав пасеку второй очереди, по правилам техники безопасности разделяющую те, на которых ведется рубка, они подошли к костру. Невидимый за густым дымом сучкожог только что завалил на огонь охапку еловых лап. Пламя накинулось на них с жадностью. Трескотня охваченных им хвоинок походила на треск разрываемой материи. В клубах черного дыма на оранжевом стебле взметнулся рассыпающим семена огненным цветком сноп искр.
Латышев попятился, отмахиваясь от их укусов.
– Как дела? – громко, стараясь перекричать треск костра, поинтересовался он. – Идут?
Сучкожог отвел от лица руку в рваной верхонке, Фома Ионыч узнал Стуколкина.
– А ты попробовал бы, начальник! Спецовку вот на два года даешь, а ее через полгода в утиль не примут. Зола останется.
– Я спецовки не даю, – сказал инженер.
– Значит, твоя хата с краю?
Латышев помолчал. Что ему скажешь? Действительно, тут никакая спецодежда двух лет не выдержит. Но ведь сроки носки не им установлены.
На помощь пришел Фома Ионыч:
– Два века только осиновая жердина да вересовый кол живут. В самое-то пекло не лезь, маленько и сбережешь одежину.
– Можно. Я постою в стороне, а ты побросай сучья, – ухмыльнулся Стуколкин. – Лады?
Фома Ионыч смешался, но все же ответил:
– У меня, брат, своя работа. С тобой делом говорят, а ты…
Дым посветлел. Огненный цветок завял, сник.
К костру подошел Ганько с бензомоторной пилой на плече. Видимо, он прислушивался к разговору.
– Вы все с нас требуете. А как с вас спросишь, так – в камыши. Молодчики!
– Это ты брось! – запротестовал Фома Ионыч. – Чарынские вон уже год в спецовках работают, а вы за три месяца попалили…
Стуколкин, оправлявший сучья в костре, снова повернулся к нему:
– У чарынских, мастер, жены чинят спецовки. Знаешь, бабье дело: ниточка да иголочка.
Фома Ионыч вспылил:
– А у тебя руки отвалятся – пришить заплату?
– Мы, мастер, народ балованный! – насмешливо щурясь, снова вмешался Ганько. – В заключении о нас начальник заботился. Вечером соберет дневальный барахло – и в мастерскую, в ремонт. Так что сами непривычные…
Латышев решил прекратить неприятный разговор:
– Вот что, товарищи. Я тоже считаю срок носки спецовок завышенным. Буду об этом говорить с кем следует. Обещать ничего не могу, но… До свиданья, товарищи!
– Вот спасибо! Утешил, начальник! – закричал ему вслед Ганько. Парень откровенно издевался.
На следующей пасеке работали звеном чарынские лесорубы. Не склонные тратить время на разговоры, они степенно поздоровались с инженером, не выключая моторов бензопил «Дружба».
– Как дела? – ответив на приветствие, по обыкновению, спросил инженер.
– Лес мелковат, да и подлеска гибель! – ответили ему. – На костер больше, чем на склад. Какая это, к чертям, вторая группа?
– Посмотрим, – пообещал Латышев и, балансируя на поваленных вперекрест бревнах, пошел дальше.
– Тонковат лес! – тоном упрека вполголоса сказал он мастеру и посмотрел испытующе: что ответит?
Фома Ионыч пожал плечами:
– Бог сажал, с него спрашивай. Таксацию делали честь честью, а тут плешина попала.
– Большая?
– Гектара полтора будет…
Латышев замолчал, обдумывая положение. Но Фома Ионыч пообещал:
– Сами разберемся, не впервой. Это они для порядка шумят.
Впереди, явно встречая начальство, на волоке стояли два лесоруба.
– Из новых, – мотнул головой в их сторону мастер. – Воронкин с Ангуразовым, дружки.
Латышев поздоровался. Спросил, опережая обязательные вопросы и жалобы:
– Чего это вы, ребята, – живете вместе, а работаете врозь? Расстояние вывозки позволяет, организовались бы в малую комплексную бригаду?
– Так проживем, – сказал Воронкин.
– Как заработки? – инженер спросил это для продолжения разговора. Заработки лесорубов он знал.
– Выгоняем рублей по сорок, когда и больше. Все равно – за такую работу и ста, мало.
– В бригаде товарищи и по семьдесят выгоняют, если лес подходящий.
– А мы с корешком не жадные…
Инженер присел на бревно, застелив его полой брезентового плаща, полез за папиросами.
– Не понимаю я вас, ребята! То ста рублей мало, то больше сорока не надо?
– Комплексом покупать нечего: семьдесят рублей я и один заработаю. Что в бригаде, что в одиночку – сто семьдесят процентов надо для этого. Здоровье дороже… Нам, начальник, лишь бы до весны перебиться.
– То-то у тебя здоровье плохое, – Латышев с завистью посмотрел на красную шею Воронкина, на расхристанную не по времени года грудь. – А весной куда?
– Советский Союз велик.
– Зря денег нигде не платят.
– Не в деньгах счастье, начальник…
– А в чем?
На это Воронкин не мог ответить. За его словами стояла бездумная пустота, желание позубоскалить – и только. Он махнул рукой: не стоит, мол, рассказывать…
– Секрет, что ли? – настаивал инженер.
– Личная жизнь. Ты лучше прикажи, начальник, чтобы продукты под зарплату отпускали. По безналичному расчету, – зажмурив один глаз, парень смотрел нагло и вызывающе.
– Я не начальник, – сказал Латышев. – Я инженер-лесоустроитель. Вот пни, которые у тебя выше стандарта, по моей части. Придется их обрезать.
– Понятно! – Воронкин продолжал гримасничать. – Ваше дело на нас жать, а если людям жрать нечего – вам до лампочки…
– Сколько ему начислили за прошлый месяц? – спросил Латышев мастера.
– Тысячу с чем-то на руки, вроде…
– А у меня, – инженер попытался встретить ускользающий взгляд парня, – оклад тысяча сто. И у меня в семье четверо. И все сыты.
– О чем разговор, начальник? У нас разные взгляды на жизнь. – Он повернулся к напарнику: – Давай начинать, Закир! Зря нас от работы оторвал начальничек…
Взгляда его Латышев так и не встретил.
– Что скажешь, Антон Александрович?
Латышеву показалось, будто Фома Ионыч торжествует, радуется: говорил, мол, каковы субчики? Разве не прав?
– Что тут скажешь? Трудный народ…
– Бросовый народ! – подхватил Фома Ионыч. – Никудышный, прямо-таки никудышный! Не́люди!
Латышев молча теребил рукавицу. Он был значительно моложе мастера, только-только на пятый десяток перевалило. Теперешняя его работа, по сути административная, заставляла много и упорно думать о людях, людских характерах. Они были совершенно разными – и в то же время одинаковыми. Не́людей он не встречал, пожалуй! Просто к каждому надо найти ключ, а не ломиться в стену. Но чтобы подбирать ключи, требуется время. Времени у него всегда не хватает, да и ни у кого нет его лишнего. Что сделаешь: век скоростей, дорога́ каждая минута. Вот и обобщаешь поневоле людей, делишь, как лес, по группам, по сортности. Для каждой группы своя спецификация. А, черт, разве в нее уложишься? Инженер мучился сознанием, что делает частенько не то, не так – и некогда было делать иначе. Как, например, быть с этими вот ребятами? На ремонт машины можно запланировать определенное время, средства, материалы. Но как учтешь, как рассчитаешь необходимое для ремонта такого несовершенного, темного механизма – человека? Как потребуешь, чтобы Фома Ионыч разобрался, люди они или не́люди?
Оба стояли на вырубленной делянке, печальной своей ненужностью, – на не пригодной ни к чему замшелой болотине.
Даже брусничник вытоптан, выхлестан, вбит в мох падавшими деревьями.
Видимо, инженера отвлекла вырубка. Он сказал:
– С весны восстанавливать надо. Сажать.
– Надо бы, – согласился Фома Ионыч.
– Сложно будет с посадкой. Болото. Как думаешь?
– Думаю, Антон Александрович, что ежели потрудиться, так и лес нарастет. Пни, конечно, некоторые покорчевать надо.
– А может, не будем сажать? Черт с ним, с болотом?
– Жалко. Пропадает земля…
В глазах инженера притаилась невеселая усмешка.
– А люди?
Не отвечая, Фома Ионыч удивленно поморгал сначала, а потом занялся трубкой.
– Смотри ты, куда подвел! – сказал он наконец. – Я ведь не против. Только одно дело – новый лес ро́стить, а другое – засохший выхаживать.
– Верно. И все же иное дерево выходить удается. Так то лес, а тут люди! Стоит приложить руки?
– Ты меня не агитируй, Антон Александрович! Газеты читаю, радио слушаю. Знаю – борьба за человека. Только пойми: мне тут не за них, а с ними воевать впору. Один я. Вот как получается!
Латышев пожевал губу, что-то придумывая. Придумав, тряхнул головой, победно глядя на мастера:
– Условия для воспитания неважные, ты прав. Но так случилось. Я, Фома Ионыч, предлагаю что? Подбросим тебе еще человек шесть лесорубов. Холостяков, в общежитие тоже. Вот и будет у тебя опора, актив.
– По мне, делай как знаешь. Только, по-моему, с оглядкой такую шпану выпускать следовало. Живут – ни себе, ни людям. Пословица что говорит: как волка ни корми… Уголовники – они, брат, и есть…
– Может, не все убегут?
– Поди-кось, останутся тебе в леспромхозе, куда там. Спят и видят, как навострить лыжи.
– От нас пусть бегут, не имеем права держать. Дело не в этом… Ладно, нам еще к нижнему складу завернуть надо. Пойдем, что ли?
– Пойдем, пойдем помаленьку! – явно обрадовался Фома Ионыч окончанию разговора.
Нижний склад покамест существовал только по названию. Лес на верхних складах, а то и окученный прямо «у пня», ждал легких для коней зимних дорог. Дача на Лужне, отведенная для рубки, была сравнительно небольшой, механизировать участок не имело смысла. К весне заготовленный лес доставят к берегу. В апреле сплавщики скатят его в бурную, переполненную талой водой реку, а она без особых затрат доставит по назначению.
Оглядев уже расчищенное над рекой плотбище, инженер согласно кивнул:
– Место под склад выбрал удачно.
И, столкнув с высокого берега обрубок жерди, в такт всплеску снова мотнул головой. Медленное течение развернуло обрубок, вынесло на середину. Латышев следил за ним до поворота реки, заросшей по мысу рыжей, мертвой уже осокой.
– Так что готовь общежитие. Коек семь-восемь ставить придется, – неожиданно напомнил он.








