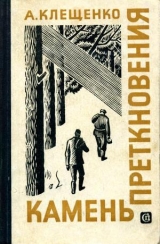
Текст книги "Камень преткновения"
Автор книги: Анатолий Клещенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
24
Теперь счастье можно было не прятать. Вернее, можно позволить ему стать счастьем, не таимой от людских глаз близостью, порою щемящей сердце. Цветок станет цветком, раскрыв свою дивную красоту. Надо только сказать ему: расцветай, не бойся!
Наверное, Настя не умела сказать этого, заставить счастье расцвесть. Заветные, неведомые ей слова скажет Борис. Скажет – и Настино сердце расцветет вместе с цветком счастья. Конечно, теперь он их скажет!
Вчера увезли Шугина. Правда, остались другие, но они не главные. Они – тень Шугина. Тень страшного человека, вора, которого она жалела когда-то. Даже продолжает жалеть его загубленную жизнь. Теперь, когда Шугин не мешает счастью стать счастьем…
Ведь он даже нравился ей, теперь она разбирается в таких вещах. Но зачем Стуколкин сказал, будто она, Настя, его погубила? Разве она заставляла обворовывать магазин? Пить? Ей так хотелось, чтобы Виктор именно бросил пить, а о худшем даже не думалось. Ведь он перестал было пьянствовать.. И вдруг…
Мысли текли сами собой, Настя испугалась их самостоятельности. Лучше она спрячется от них за широкими плечами Бориса. Как пряталась девчонкой на теплую печку от холодных, представлявшихся похожими на мышей, неясных страхов, одна оставаясь дома. Заветное слово Бориса прогонит все страхи, все сомнения!
Накинув платок, девушка вышла на улицу.
Лесорубы уже вернулись с работы. Но мало кому хотелось сидеть в бараке. Настойчиво напоминала о своем рождении весна, звала уловить первое свое дыхание, обрадоваться: ей-богу, живет! Дышит!
Николай Николаевич Сухоручков, сидя на перилах крыльца, с показным неудовольствием крутил головой, уклоняясь от капели. Прежде чем упасть, капли собирались на концах сосулек, свисающих с навеса над крыльцом, долго грозили падением. Сухоручков громко, беззлобно чертыхался, ежился, когда капля попадала за воротник, но не уходил. Сам себя убеждал, будто отсюда лучше видна газета, развернутая примостившимся на верхней ступеньке Тылзиным. Всегда можно сказать: «Стой, стой, Иван Яковлевич! Чего это там за «На берегах Вахша»? Ну-ка давай вслух». Или: «Что там слева-то, фельетон? Прочитай, кого кроют»…
Скрыгин с Усачевым курили на обтаявшем штабельке бревен, не убранных осенью строителями. Лениво перебрасывались словами, обсуждая вчерашнее:
– Народ такой – тележного скрипа боятся! – фыркал Усачев. – Человек взламывает замок, перерывает все в магазине. Не в темноте же он там орудует? И никто не видит, не слышит, как он открывает дверь, никого не беспокоит свет в закрытом магазине? Ведь ставни-то неплотные, во – щели… – он чуть не на метр развел руки. – По-моему, просто не хотели видеть. Не наше, мол, государственное. Безобразие все-таки!..
Обычно сговорчивый, Скрыгин не захотел согласиться:
– Что ты, Борис, кто ночью увидит? Тем более тамбур глухой. Затворился в нем и хоть полночи возись с замком. Мимо пройдешь, а ничего не увидишь… Да и стоит магазин с краю, вроде в стороне…
– Тамбур тоже на замке…
– А, какой там замок на тамбуре? Пальцем открыть можно.
– Говорят, он его ломиком сорвал. Вместе с накладкой…
Борис внезапно умолк, глядя на приближающуюся к штабельку Настю. Походка ее была неторопливой, степенной. Правая рука придерживала на груди платок, в левой девушка несла комок по-весеннему липкого снега. Подойдя, неумело, над головой, замахнулась. Снежок угадал в бревно, рассыпался, остался от него только белый бугорок, прилепившийся к мертвой, лишенной золотистой кожи сосне.
– Вася, ты бы погулять пошел! – безбоязненно предложила Скрыгину девушка. – Нам с Борисом поговорить надо…
– Пожалуйста! – готовно поднялся тот. – Пойду, газету у Тылзина отниму.
Она, улыбаясь, посмотрела ему вслед, а повернувшись, встретилась с удивленным, выжидающим взглядом Бориса.
– Ты чего? – спросил он.
И тогда Настя вдруг растерялась. Как – чего? Разве он не понимает, не угадывает ее мыслей, разве мысли не одни и те же у них? Не об одном?
– Так… – она продолжала улыбаться, только улыбка стала неуверенной, робкой. Но хотелось, чтобы Борис сам, без подсказки, понял, зачем она тут.
Но Борис не понял, совсем-совсем не понял.
– Выйду, когда стемнеет. В стекло стукну.
Настя отрицательно покачала головой:
– Нет… Я хотела сказать тебе… – она смутилась. Не было нужных слов. Были только тяжелые, угловатые, как кирпичи, о том – но и не о том. Приходилось обходиться ими. – Когда мы распишемся? Ведь нельзя же так… Правда?
Он улыбнулся, Настя не поверила его улыбке.
– Почему же нельзя? Чудачка ты у меня. Еще скажешь, что к попу надо…
Теперь она не понимала его. Стояла, тиская пальцами мягкую шерсть платка, ждала. Чувствовала: тяжестью наливается сердце, к глазам подступают слезы. Как он может шутить так? Как смеет?
– Я уже деду сказала, что выхожу замуж… Он все спрашивает: когда свадьба?..
Улыбка сбежала с лица Бориса.
– У нас, кажется, разговору о свадьбе не было…
Что он? С ума сошел, или… или?.. Да разве возможно такое?
– А как же… тогда? – не понимая что́ и зачем говорит, спросила Настя. – Как же я?
Он опять улыбнулся! Он мог улыбаться!
– Нашла о чем беспокоиться! Вот тоже! Ты в каком веке живешь? Это раньше надо было простыни после свадьбы показывать… Замуж выйти успеешь, у нас с тобой жизнь впереди… Чего торопиться?
Настя глядела полными слез и ужаса глазами. Если бы не слезы – глаза были бы тусклыми, без живого блеска. В них умерла жизнь.
Напуганный этим взглядом, Борис вздумал утешить ее:
– Теперь же никто не смотрит: девушка, не девушка. Это же пережиток! Дикость! Никто не обязан любить один раз только…
Настя молча повернулась и пошла к дому. Платок, соскользнув с плеча, волочился по талому снегу – так волочит перебитое крыло птица.
– Что с ней? – спросил вернувшийся Скрыгин.
Борис досадливо поморщился:
– Понимаешь – решила, что я должен на ней жениться. У меня и в мыслях ничего не было. Рановато.
– То есть как – жениться?.. – поднял рыжие брови Скрыгин. – У вас… было что разве?
– Чего было? Ничего особенного. Так… Взгляды у нее какие-то ветхозаветные. Двадцатый век, а она считает, что если перестала быть девкой – значит, все. Как будто после она не такая же… Смешно, да?
Скрыгин ничего не сказал. Он вдруг размахнулся и ударил Бориса кулаком в лицо. Так, что у того лязгнули челюсти.
* * *
Фома Ионыч «подводил баланс».
Чертова эта работа отнимала у него уйму времени, если не помогала Настя. Сегодня, как нарочно, Насти не было. Знала ведь, что деду надо помочь, а ушла. Даже не сказалась куда. Явилась со двора, постояла посередь комнаты, ухватила пальтишко и туда же. Совсем стала девка от рук отбиваться, как замуж выскакивать надумала. Сиди дед, путайся в цифрах, а она гулять будет!.. Приспичило!..
Застелив весь стол бланками ведомостей и нарядов, Фома Ионыч то и дело вставал, чтобы, путешествуя вокруг стола, отыскать нужную бумагу. Такой способ казался ему наиболее удобным, разве что несколько медленным. Он уже покончил с документацией нижнего склада, когда в комнату вошла Настя.
Фома Ионыч сердито покосился в ее сторону и с еще большим усердием – показным! – начал ворошить наряды. Ждал: вот сейчас гулена заохает, каясь, что прогуляла. Тут-то он ее и пропесочит…
Но Настя молчала.
Не оборачиваясь, по шорохам за спиной Фома Ионыч догадывался: снимает пальто, на кровать бросила – лень ведь на место повесить! Спросил сердито:
– Нагулялась?
Внучка не ответила.
– Дед последние глаза проглядел, клеточки-то эвон какие мелкие. А ей горя мало!..
Словно воды в рот набрав, Настя подошла к столу, придвинула табуретку. Освободила на столе место, сложив раскиданные наряды в стопку. И, глядя на них, забыла, что́ собиралась делать.
Фома Ионыч, исподлобья посматривавший за ней, удивленно выпрямился, поднял на лоб очки:
– Ты это чего? Вроде как не в себе?..
– Голова болит, – опомнилась Настя. – Складскую ты свел уже, деда?
– Свел я складскую, свел! – обеспокоенно зачастил Фома Ионыч. – Ты, ежели голова болит, брось. Не горит. Чаю испей с малиной да ложись. Время теперь обманчивое – тепло вроде, а как раз и прохватит. Давеча-то в платьишке в одном побегла. А все неслух!..
Настя опустилась на табуретку, потащила к себе через стол бланк складской ведомости.
– Ничего, деда. Пройдет!.. – И повторила еще раз: – Пройдет!
Она долго, словно не узнавая, всматривалась в разграфленный лист. Но вот тряхнула опущенной головой, встретилась с удивленным взглядом деда и как будто проснулась. Потянувшись за счетами, вспомнила:
– А как же с той древесиной?
Мастер почесал карандашом переносицу, задумался.
– С той-то?.. Лес теперь пошел ловкий, надо будет сказать ребятам. Расквитаются! Дни нынче долгие, можно час-другой лишку прихватывать. Ден десять дам сроку. Как только вывозку потом проводить, шут ее знает? Отдельно бы как-то, комплекс теперь у них, вот ведь штука!.. – Он прищурился, к вискам побежали смешливые морщины. Это мысли, наткнувшись на что-то по пути, вильнув, побежали в сторону. – Вот кого тебе, Настюха, обротать надо было!.. Ладно, когда свадьбу-то справлять станем, невеста?.. Да ты чего, девонька? Насть, слышь, ты что?..
Расплываясь фиолетовыми пятнами по столбикам цифр, на ведомость падали крупные, гулкие слезы. Одна за другой, окатываясь по закаменевшим щекам. Медленно, очень медленно Настя покачала головой:
– Не будет… свадьбы…
Растерявшийся Фома Ионыч суетливо пережевывал губами и проглатывал несказанными какие-то слова. Наконец решился – обогнув стол, робко встал за плечом внучки. Заговорил, сбиваясь:
– Ну вот!.. Нашла по чем убиваться!.. Эка беда!.. Слышь меня, еще не такого сокола облюбуешь. Не сорок тебе годов, слышь?.. Будет с тебя женихов, не бойсь… Девка, не вдова какая с ребятишками!
Судорожно глотнув воздух, Настя закрылась ладонями. Вздрогнули, затрепетали, ходуном заходили под ситцевым платьем плечи. Рассыпаясь по столу, заволновались пряди русых волос, словно под ними рвалась большая, накрытая сетью птица. Боязливо глядя на вздрагивающий затылок девушки, Фома Ионыч беспомощно топтался на месте.
Вдруг Настя, все еще всхлипывая, оторвала голову от стола. Теперь волосы упали на лицо мокрыми, перепутанными космами. Девушка даже не пыталась убрать их.
– Деда… – тихо начала она, всхлипнула и почти закричала:
– Деда!.. Наверное, у меня… будет… ребенок…
– К-как?.. – наивно удивился Фома Ионыч.
Не ответив, Настя опять упала головой на столешницу, зарыдав еще громче.
Фома Ионыч с трудом уразумел сказанное. Похлопал себя по карманам, разыскивая трубку. Нашел и, позабыв, зачем искал, сунул обратно.
– Выходит, обманул?.. – неизвестно для чего спросил он. – Вот, значит, как… Так, значит, и получилось… Да…
За словами ничего не стояло, кроме растерянности. Он снова принялся искать трубку. Найдя, попытался раскурить ее – пустую. Рассыпал спички. Буркнул:
– Чего ж, коли так… Проживем… Будет тебе, не плачь! Всяко бывает в жизни… Всяко… – и, позволяя прорваться обиде и горечи, закричал, стуча кулаком по столу: – Паскуда он, вот кто! Паскуда! Не человек!
Потом вспомнил, что не знает, кому адресовать ненависть:
– Колька Буданцев?..
– Борис… – глухо ответила Настя и, поясняя ему или поправляя себя, отрекаясь, добавила: – Усачев…
25
Резиновым сапогам по инструкции не полагается сушиться на плите. Но иначе сапоги не успевают просыхать за ночь. Разные это вещи – писать инструкции и следовать им, даже когда дело касается только сапог.
Василий Ганько взял свои, стоявшие на краю плиты. Потянул с веревки портянки.
– Кинь и мои, Васек! – попросил Воронкин, нежившийся в постели.
Ганько, словно не слыша, пошел к своей койке обуваться. Воронкину пришлось выкрикивать ругательства ему в спину:
– Сука, гад! Трудно заодно протянуть руку? Где у тебя совесть, падлюка?..
– Совесть?..
Ганько гневно выпрямился, ненадетый сапог соскользнул с ноги. Забыв о нем, Василий закурил папиросу, несколько раз жадно затянулся.
– Я не пойду на работу, Никола! – неожиданно объявил он Стуколкину, с молчаливого согласия всех признанному после ареста Шугина бригадиром.
– Тепло зачуял, паскудник? – обрадовался Воронкин новому поводу придраться. – Кричал: бригаду ему, комплекс! А теперь под нары? Попривыкли на чужом хребте ехать…
Вытирая лицо рваным вафельным полотенцем, Стуколкин отошел от умывальника. Повесил полотенце на веревку рядом с портянками Воронкина. Пригладив пятерней мокрые волосы, сказал:
– Ладно.
– Да ты что? – снова вскипел Воронкин, набрасываясь теперь на Стуколкина. – Я за него ломать должен, по-твоему? Он – босяк, а я – черт? Если бы не в бригаде…
– Переживаешь за производство? – насмешливо спросил Стуколкин.
– И переживаю!
– Брось, кому заправляешь! – Стуколкин значительно посмотрел в его сторону. – Я же не оперативник. Понял?
Воронкин встретил его взгляд, мгновение длился поединок взглядов. Потом зрачки Воронкина вильнули в сторону. Он с ухмылкой повернулся к Ангуразову:
– Значит, будем ишачить за других, Закир? Нам положено…
Дождавшись, пока в последний раз хлопнет дверь на улицу и последний из спешащих в лесосеку рабочих мелькнет мимо окна, Ганько сбросил брезентовые брюки, ногами затолкал их под койку. После тяжелого, заскорузлого брезента мягкая шерстяная ткань костюма казалась невесомой, ласкала своим прикосновением. Распихав по карманам деньги, папиросы, спички, надел пальто – и вспомнил ухмыляющееся лицо Шебутного.
– Твое счастье, что я не пес! Не стукач! – громко сказал он неубранной постели Воронкина…
Обледенелая, норовящая выскользнуть из-под ног дорога сегодня не имела конца. Три километра до Чарыни вытянулись вдвое. До Сашкова Ганько, как ни торопился, добрался только к половине двенадцатого. Совхозные машины в город уже ушли – распутица была не за горами, для шоферов настало горячее время.
– Баянист ваш уехал! С вечера надо было и тебе прибежать, милок, да заночевать в Сашкове, – сказали ему в гараже, но потом обнадежили: – Может, по дороге поймаешь машину. По зимнику еще вовсю ездят.
Его подобрал первый же грузовик.
– В город? – спросил шофер, пользуясь остановкой, чтобы попинать ногой баллоны: держат ли воздух?
– В город, – кивнул Ганько, берясь за борт.
– Лезь в кабину, заколеешь в кузове. По такой дороге быстро не поедем, хотя и с цепями. Порожняк на такой дороге – гиблое дело… Тянуться будем…
Шофер скромничал. В кузове громыхали пустые железные бочки, норовя выпрыгнуть. И обмотанные цепями скаты умудрялись пробуксовывать. Машину швыряло из стороны в сторону, особенно сильно занося на поворотах. Но красная стрелка спидометра редко отбегала влево от цифры «30».
Километрах в двадцати за Сашковом дорога, словно маленькая речка в широкую полноводную реку, выплеснулась на шоссейку. Навстречу стали попадаться машины, чаще других лесовозы. Порожняк. С ними разъезжались, почти не сбавляя скорости. Зато маленький, крытый парусиной ГАЗ-69 заставил шофера врубить первую.
– Милиция, – объяснил он.
Ганько схватился за голову, проклиная свое счастье:
– Черт, мне же к начальнику милиции вот так надо, – провел он ладонью по горлу.
– А что? – во взгляде шофера появилась настороженность.
– Да насчет прописки…
– Автоинспектор поехал, уж я знаю, – успокоил шофер. – Начальник всегда впереди сидит. А этот – в угол забьется, вроде пустая машина. Сегодня полетят талоны, будь уверен!..
Когда машина подрулила к городской чайной, Василий вынул деньги, спросил:
– Сколько?
– Червонец-то дашь, наверное? – вопросом ответил шофер. – В кабине ехал, как барин…
Протянув две пятерки, Ганько взглянул на часы: без четверти три!
– Далеко милиция?
– Вон, за угол повернешь, дойдешь до площади. Там спросишь. Недалеко…
По городу Ганько шел с некоторой робостью: отвык от множества незнакомых людей, прямизны улиц, отовсюду следящих за тобой окон.
В старом каменном доме, где разместилась милиция, второй этаж умудрялся прятаться за первым, за сильно выступающим карнизом над окнами, отодвигаясь от него, словно боялся упасть вниз, на посыпанную песком обледенелую панель.
Кабинет начальника – наверху. Туда вела скрипучая деревянная лестница. У каждой ступени был свой, особенный скрип, свой голос. Они словно переговаривались, рассуждая, зачем это человек идет в милицию. Добровольно, без милиционера сзади.
Самому Василию это казалось странным, невероятным. Он старался так ставить ногу, чтобы ступеньки не могли переговариваться. Толкнув обшитую черной клеенкой дверь, остановился у высокого деревянного барьера.
– К начальнику можно? – спросил он у сидевшей возле пишущей машинки девушки совсем не милицейского вида.
– Пройдите, – показала та круглым подбородком на дверь слева.
Вздохнув, Ганько постучал.
– Да, да, – глухо донеслось из кабинета.
Майор Субботин смотрел равнодушно, выжидающе. Видимо, он не был занят, Ганько не оторвал начальника от работы. На письменном столе лежал раскрытый кулечек с розовыми конфетами – подушечками. Чернильный прибор и телефон, сколотые булавкой рукописные бумажки.
– Здравствуйте, гражданин начальник! – сказал Ганько.
У майора домиками выгнулись брови.
– Здоро́во, гражданин товарищ. В чем дело?
Ганько опустил голову, собираясь с мыслями. Было неудобно своего молчания, он злился на себя, что не продумал предстоящего разговора, а злость эта мешала думать сейчас.
– Я с Лужни, – сказал он и смутился: ну и что, если с Лужни? Лужня велика, километров на семьдесят тянется, да и вообще…
– Садись, – чуть заметно улыбнувшись глазами, пригласил майор. – Как там у вас дела? Больше в магазин не лазали?
Ганько сразу стало легче – узнал, помнит. Выигрывая время, достал папиросы. Хотел спросить разрешения закурить, но, увидев совершенно чистую пепельницу, решил спрятать пачку.
– Кури, кури! – понял его сомнения майор. – Можно. Это я вместо папирос, видишь? – он показал на кулек с конфетами.
Но Ганько решительно затискал в карман папиросы.
– Зря вы Шугина замели, – сказал он. – Ни за что. Не он работал.
– Гм! – глаза майора вдруг посерьезнели, в них светилось изумление. – Знаешь, дай-ка мне папиросу…
Не отрывая от Ганько недоверчивого, как казалось тому, взгляда, он закурил. Вернул спички и только тогда спросил:
– Ну?
– Ну, в общем, не он это… Точно вам говорю…
– Интересно, – без улыбки сказал майор. – Здо́рово. Значит, не он?
– Не он…
Пауза. Долгая-долгая. Внимательный взгляд серых, запавших в глазницы глаз.
– Чтобы назвать «не он», надо знать кто. Ты, что ли?
– Зачем я? Ровно бы я к вам пришел тогда!
– А я бы пришел, – сказал майор, – если бы вместо меня взяли не причастного к делу моего товарища. Хоть совесть у меня и не воровская, а милицейская… Ведь у вас, кажется, не полагается товарищей предавать? Ладно!.. Кто же воровал тогда?
– Предателем не был, начальник! Люди. Ваше дело искать – кто…
– Так!.. Не хочешь, значит, предателем быть? Легавым, кажется?.. Ну, ну… А гулять на свободе, зная, что товарищ за тебя расплачивается, – как, не считаешь предательством?
– Об этом пусть думает кто воровал…
– Твоя хата с краю?.. Знаешь, давай смотреть не с милицейской точки зрения, а с воровской. По воровскому закону посадить товарища в тюрьму – значит ссучиться, потерять права, так? Ну, скажем, если донесешь, да? Но ведь посадить за преступление, которого человек не совершил, еще хуже! Вот и выходит, что ты покрываешь уже не вора, а… ну, как это называется?.. Просто ссученный вор или еще как?.. Положено или не положено покрывать таких?
– Законы меня теперь не касаются, начальник. – Ганько начал волноваться, перешел на жаргон. – Я уже не босяк. Но сдавать никого не стану. Как к человеку к тебе пришел… Короче, Шугин во всю эту мазуту попал по психу. Каторгу на себя открыл. Мое дело было сказать, а дальше – как знаешь!..
– А что с ним такое, с Шугиным? Может, объяснишь?
– Это могу… – Ганько закурил, одну за другой проглотил несколько затяжек. – Девочка там у нас одна, Настя. Знаете? Осенью она еще ногу ему лечила. Ну, Шугин, одним словом, в нее влип. Кричал, чтобы никто к ней не пырялся. А она втихаря с Усачевым схлестнулась. Витёк узнал об этом и… – он махнул рукой, сыпанул пеплом погаснувшей папиросы.
– С Усачевым? – удивился майор. – Это с баянистом, что ли?
– Угу. Васька Скрыгин рыло ему начистил вчера… Как напарнику…
– За что же?
– Вроде за то, что Насте ребенка сделал, а сам когти рвать… ну… – Василий смутился, поймав себя на жаргоне, которого не замечал раньше. – Не хочет жениться, понимаете? Уезжает…
Майор долго молчал, глядя мимо Ганько, рассеянно барабаня пальцами по столу.
– Ясно, – оказал он наконец. – Понимаю…
Василий закуривал новую папиросу, ожидая продолжения, но майор опять смолк.
– Так что же, гражданин начальник, – погодя спросил Ганько, – придется Шугину ни за что срок тянуть, да?
– Нет, не придется. Ты же сказал, что наше дело искать? Мы и нашли.
Парень недоверчиво усмехнулся. Майор заметил усмешку.
– Воронкин и Ангуразов, – сказал он.
«Витёк заложил», – мрачнея, решил Ганько. Сразу пропало желание беспокоиться о судьбе Шугина – не так просто бывает переоценить то, что покупалось дорогой ценой потерянных лет жизни, запоминалось, как азбука. – Мне можно идти, начальник?..
– Что же, если торопишься… Наверное, думаешь, что Шугин выдал? В наши способности искать не веришь?
– Почему не верю? – попытался увильнуть Ганько. – Вполне возможно…
Он встал, но майор не позволил ему уйти.
– Сядь. Подожди минутку.
Пожав плечами, Василий сел. На самый краешек скользкого, обитого клеенкой дивана.
– Значит, не веришь? Не полагается, конечно… – начал было майор, но его прервал стук в дверь. – Подождите! Занят!.. Не полагается, говорю, рассказывать о профессиональных секретах, но я расскажу. Так и быть… – он усмехнулся. – Все равно следственные материалы на суде зачитывать будут… Так вот, парень… Что такое отпечатки пальцев – тебе известно, конечно. Воры не оставили их в самом магазине. Они оставили их на стекле, когда выставляли окно в тамбуре. Не то чтобы прохлопали, нет! Пока они работали внутри, на тамбуре висел нетронутый замок. Вылезли они тоже через окно. Стекло аккуратно вставили на место, так что никаких следов не осталось. Кроме отпечатков. Но они и о них подумали. Чтобы никому не пришло в голову искать на окне, сорвали замок с дверей тамбура. Вошли, мол, через дверь и ушли через нее, все просто и ясно. И конечно, мы не обратили бы внимания на окно. Только, вылезая, они развалили приготовленные на утро дрова в тамбуре. И одно полено упало так, что дверь нельзя стало открыть. Случай, конечно. А нам пришлось задуматься. Замок сорвали, а дверью не пользовались. Почему, зачем?.. Пришлось обратить внимание на окно. Отпечатки на стекле оказались тождественными некоторым отпечаткам на бутылках. Что одни отпечатки принадлежат Воронкину, мы знали с его же слов. Помнишь разговор? А с кем он работал в паре, не трудно и догадаться. Оставалось только проверить дактилоскопию… Знаешь, зачем я тебе это рассказываю?
Ганько снова пожал плечами.
– Чтобы понял, кто из нас больше заботился о Шугине. Ты – или мы, милиция. Слышал, как говорят: человек ты или милиционер? Так вот, милиционер докапывался, виноват парень или не виноват, хотя и объявил себя виноватым. А «человек», зная, что Шугин не виноват, умыл руки, лишь бы не называть настоящих виновников. Что молчишь?
– А вы ничего не спрашиваете…
– Я опрашивал. Ты не ответил… Иди!..
– До свиданья, – облегченно буркнул Ганько и, не оглядываясь, пошел из кабинета.
Проводив его взглядом, майор машинально похлопал себя по карманам, отыскивая папиросы. Вспомнив, что их нет, что папиросу, сладковатый вкус которой манил закурить следующую, он взял у этого парня, вздохнул.
Опять постучали, дверь приоткрылась.
– Минуточку, – кивнул майор женской голове, закутанной в платок. Когда голова скрылась, прошелся по кабинету и снял телефонную трубку.
– Леспромхоз мне, директора, – попросил он телефонистку. – Михаил Захарович? Субботин беспокоит. Слушай, я насчет заявления этого типа… Ну, что рассчитался с Лужнинского участка… Ну да… Вот именно, что не хулиган… Видимо, славный парень… Не буду привлекать… Да потому, что сам с удовольствием набил бы ему морду, твоему баянисту. А вот так… Нет, перезвони лучше, у меня посетители… Попозже…
Он повесил трубку. Крикнул:
– Кто там ко мне? Входите..








