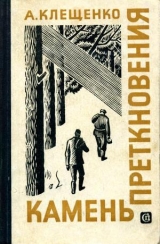
Текст книги "Камень преткновения"
Автор книги: Анатолий Клещенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
11
Посмотрев вслед Петру, уже поднявшемуся на косогор, он сплюнул зло и брезгливо. Мысли о поступке Шкурихина еще не стали четкими. Было чувство. Такое, словно босой ногой ступил на коровью лепешку. Но душу нельзя обтереть о траву, как перепачканную ногу.
Конечно, за Костей Худоноговым тоже числились грехи. Как и за Генкой, как за большинством бакенщиков, чьи посты не на глазах у поселков. Кажется, пару старых петель в Сохатиной разложине Худоногов действительно заменил своими, именно из того троса, который выпросил в леспромхозе. Но, добыв сохатого, опустил все петли. После их поднимал Петр. И не опустил одну, оставил настороженной, забыл о ней. Теперь за оплошность Петра будет отвечать Костя Худоногов, фактически непричастный. А Петр, зная об этом, помалкивает, хотя называл Худоногова другом и связчиком, как и Генку, пил с ним водку.
– Ну, гад! – сказал Генка, еще раз сплевывая в ту сторону, куда ушел Петр.
Костя Худоногов заплатит пять сотен, а Петька Шкурихин станет материть инспектора за несправедливость, говорить, что на земле нет правды, но никому и никогда не скажет, что виноват он. И Генка никому не скажет, не может сказать, потому что нельзя выдавать человека, подло выдавать. Хотя этот человек поступает еще подлее. Но это не дает права Генке Дьяконову тоже стать подлецом, доносчиком!
Вверху на косогоре показался Матвей Федорович. Подымив трубкой, позвал:
– Генка!
– Чего?
– Сюды иди, коли отец кличет!
Про себя чертыхнувшись, Генка пошел наверх. Остановился, увидев перед собой отцовы ноги – обутую в стоптанный катанок и деревянную, тоже стоптанную на один бок.
– Ну что?
– Не слыхал, уйдут сегодня ай нет? – Матвей Федорович трубкой показал на «Гидротехник», но Генка только представил этот его жест.
– Не слыхал, – сказал он, чтобы отвязаться, но почему-то пожалел отца, видя, как деревянная нога ткнулась несколько раз в землю, словно проверяя ее незыблемость. – В общем уйдут, наверное. Инспектор на Костю Худоногова акт составлять хочет. За сохатого, что Петька сгноил. – Он вскинул голову и увидел отца, как видел до этого деревья, снизу вверх.
– Костя на Петра доказал? – не понял отец.
– Нет. Петлю леспромхозовские признали, Костя у них трос брал.
– Ну так что?
– Ну и влепят теперь Косте.
– Влепят, поди, – подумав, равнодушно согласился Матвей Федорович. – Ни за́ что, а влепят! Петька – этот нипочем не сознается, кремень на такие дела!
Теперь в тоне отца Генка услыхал почти восхищение и, желая закончить разговор, спросил:
– Ну, все?
– Погодь!.. Мне вроде неловко бросать пост при начальстве, а они се́дни либо уплывут, либо нет. Сплавай до магазина, мать деньги даст…
У Генки не было никакого желания гонять в леспромхоз за спиртом, и он беззастенчиво соврал:
– Не выйдет. Виталий Александрович сказал, чтобы не отлучаться. Книжку какую-то хотел показать, про скалоуборочные работы на фарватере.
– А, будь ты неладна! – Валенок Матвея Федоровича повернулся к Генке обшитым кожей задником, потом, скрипнув, подалась вперед деревяшка – отец пошел к дому. Поднявшись выше по тропинке, Генка дождался, пока он скроется за углом. Судя по мужским голосам, услышанным краем уха во время разговора с отцом, теперь все паразитологи были в сборе. Поколебавшись, Генка решил заглянуть к ним еще раз.
В темных сенях, где находился умывальник, его приветствовал Сергей Сергеевич, мыча что-то и потрясая зубной щеткой. Свободной рукой он распахнул дверь и, вытолкнув Генку на середину комнаты, хлопая его по плечу, замычал с удвоенной силой. Давясь смехом, молитвенно складывая руки, дорогу ему заступила Вера Николаевна.
– Умывайтесь идите! Слышите? Михаил Венедиктович, скажите ему…
Михаил Венедиктович повернул к дверям свой профиль с густо намыленной щекой, но, увидев Генку, положил бритву и встал. Вторая его щека, розовая и гладкая, смешно улыбалась половинкой рта.
– Геннадий, мне сообщили замечательную новость! Я вас поздравляю!
– Будем с вами щук в Московском море ловить! На мыша! – крикнул выдворенный-таки в сени Сергей Сергеевич.
– Нет, это всерьез здорово! – Михаил Венедиктович ловко поймал в ладонь клок мыльной пены, сорвавшейся с небритой щеки. – Новое окружение, иные взгляды на вещи! Кстати, ведь вы не курите? Пока не устроитесь с общежитием, сможете остановиться у меня. Милости просим! Долг, как говорят, платежом красен!
Сказав спасибо, Генка ждал Элиных слов. И Эля, озорно поглядывая одним глазом из-за вечно мешающего смотреть локона, сказала:
– Только его и не хватало в Москве! Очень он там нужен кому-то!..
– Эля! – возмущенно, стеклянным голосом воскликнула Вера Николаевна. – Как вам не стыдно!
Но Эля смотрела только на Генку, она не слышала окрика Веры Николаевны. И Генка его не слышал. Вера Николаевна посмотрела сначала на одного, потом на другого, и выражение лица ее стало меняться.
Сначала в горящих гневом глазах погас недобрый огонь, отразилась растерянность, веселыми искорками засветилось лукавство. Еле заметные морщинки побежали от уголков глаз. Сурово поджатые губы обмякли, начали было улыбаться, но вдруг почему-то притворились – только притворились – строгими.
– Эля… – сказала Вера Николаевна. – Эля, наверное, Михаилу Венедиктовичу понадобится для умывания вода. И всем нам для чая. Может быть, вы сходите с Геной? С обоими ведрами?
– Конечно, сходим! – откровенно обрадовался Генка, а Эля бросила на Веру Николаевну быстрый испытующий взгляд и, что-то поняв, не скрывая, что поняла, чуть потупилась.
– Господи, оказывается, в сорок лет можно быть совершенной дурой! – с улыбкой сказала Вера Николаевна удивленному Михаилу Венедиктовичу, когда Генка с Элей, погромыхивая ведрами, вышли. – Почему вы на меня так смотрите?
– Не понимаю, что вы хотели сказать!
– Я хотела сказать, что, если Сергей Сергеевич вылил из умывальника всю воду, вы не скоро умоетесь.
Михаил Венедиктович недоумевающе поморгал, потом спросил очень серьезно:
– Вы думаете? – Опять поморгал – возможно, в глаза попало каким-то образом мыло. – И так же серьезно добавил: – А знаете, это вполне вероятно… Да, да!
А Генка с Элей, стоя на берегу, провожали взглядами отплывающий катер. Пятясь, он вылез за белый бакен и, в пену сбивая под кормой воду, развернулся носом против течения.
– На Ухоронгу все же пошли, – покачав головой, сказал Генка и, забывая обо всем, попытался взять девушку за руку. Конечно, этого ему не позволили. Эля, бросив через плечо испуганный взгляд наверх, на дома, спросила капризным тоном:
– Больше ты ничего не выдумал? Может быть, еще поцеловаться захочешь?
– Захочу, – сказал Генка.
– Тогда надо совсем под окна идти. Вдруг здесь все-таки не увидят?
– Наплевать, – махнул рукой Генка. – Ты… в Москве… Ну, может, мне не ехать туда?
– Дело твое! – Эля дернула плечиком и отвернулась, обиженно надув губы.
– Нет, верно… Ты со мной в Москве… будешь дружить?..
– Если ты хоть немножко поумнеешь…
– Эля!
– Какой ты у меня дурак, господи! Нашел время и место для таких разговоров! И так уж Вера Николаевна догадалась, по-моему, а ты…
– Что я?
– Не можешь подождать до вечера?
– Вечером ты опять не выйдешь.
– Так ведь неудобно же!.. Знаешь, ты пригласи нас с Верой Николаевной в кино, как тот раз. Или на лодке кататься. Вот увидишь, она откажется!
– Не откажется!
– Откажется, я тебе говорю! Она ведь нарочно сейчас… про воду! Ну, до чего же ты непонятливый, горе мое!
– Сама ты горе! – вздохнул Генка. – Ладно, я скажу, что кино.
– Смотри только сам, чтобы жена твоего любимого друга Шкурихина не вздумала ехать!
– Сегодня не вздумает! – сказал Генка. – Сегодня и кино-то не показывают…
– Показывают кинофильмы, а не кино. Ясно?
– Ясно. А Шкурихин вовсе не друг мне. Гад он.
– Дошло наконец?
– Еще какой гад! Сохатого – помнишь? – сгноил в петле, теперь на Костю Худоногова дело заводят. Судить будут, наверное.
– Так твоему Шкурихину и надо!
– Не Шкурихина, Худоногова судить будут!
– А того за что?
– Да я же тебе говорю: за сохатого, что Петро сгноил. Ну на Ухоронге. Он же в Петькину петлю попал и сгнил, тот сохатый.
– Здравствуйте пожалуйста! Значит, именно Шкурихина будут судить!
– Нет, в чем и дело! Петька напакостил, а отвечать Косте придется. Так получилось.
– Не понимаю! – сказала Эля. – Объясни толком!
– Понимаешь, трос на самом деле Костя отжигал. И петлю он делал. А про то, что насторожил ее Петро, никто не знает.
– Как это никто? – удивилась Эля.
– Ну, никто.
– Так ведь ты знаешь!
– Я же не стану доносить, сама понимаешь. На подлости неспособен!
– Подожди… Значит, за преступление Шкурихина будут судить невиновного человека? Да? И ты… ты спокойно говоришь об этом? Значит, это подлость, по-твоему, сказать правду? Генка, если только ты… – Не договорив, девушка неожиданно рванула его за рукав и потащила за собой на косогор, забыв о ведрах. – Ну-ка, идем! Идем к нашим!
Она не выпускала рукава его телогрейки, словно боясь, что Генка вырвется и убежит. А ему было неловко грубо выдернуть рукав из ее пальчиков и совестно идти за ней, как бычку на веревочке. И было смешно, что все-таки идет, упираясь полегоньку, – именно как бычок на веревочке.
– Идем, идем! – угрожающе приговаривала Эля, энергичнее дергая при этом рукав. – Ид-дем!
Так – упирающимся бычком – и привела его в лабораторию.
– Вот! – гневно взглядывая через плечо, объявила она. – Полюбуйтесь! Невинного человека будут судить за убийство лося, а он собирается скрыть настоящего виновника. Он, – Эля, тряхнув рассыпающимися волосами, бросила Генке совершенно испепеляющий взгляд, – он, видите ли, считает подлостью и доносом сказать, что человека обвиняют напрасно!
– Да нет, – осмелился потянуть свой рукав из Элиных пальцев Генка. – Не про то, что напрасно. Про то, кто петлю оставил. Вроде как бы предательство тогда получится…
– Так… – сказал Михаил Венедиктович. Он перевернулся на стуле, обнял скрещенными руками спинку, упираясь в нее подбородком. – Любопытно. Насколько я понимаю, Эля, наш молодой друг знает истинного виновника преступления, за которое должен отвечать невиновный, и почему-то не хочет восстановить истину?
– Ну да!
– Очень любопытно! Вы, наверное, рассчитываете, Гена, что виновный сознается сам, увидев, к какой несправедливости ведет его… э-э… – откинув руку, Михаил Венедиктович пошевелил растопыренными пальцами, словно откуда-то приманивал нужное ему слово, – запирательство?
– Черта с два он сознается!
– Следовательно, за его проступок накажут другого? Так или не так?
– Вообще так, конечно! – неохотно согласился Генка.
– Тогда, знаете, я вас отказываюсь понимать! – Ученый вскочил, отодвигая стул, ножки стула с грохотом запрыгали по выпирающим половицам. – Да вы, в конце концов, кто? Вы человек, я вас спрашиваю? Или… или черт знает что? Есть у вас стыд и совесть?
– Есть, не беспокойтесь! – начиная злиться, сказал Генка, с трудом подавляя желание ответить более резко: будут на него кричать, да еще при Эле, как на мальчишку! Кричать и он может, похлестче даже!
Михаил Венедиктович отошел к окну, забарабанил пальцами в начинающее темнеть стекло. Вера Николаевна делала вид, что не интересуется происходящим. Эля, прислонясь к столу и загораживая собой лампу, как будто нарочно прятала от света лицо, исподтишка посматривая на Генку.
– Пора становиться мужчиной, Геннадий! – заговорил из своего угла Сергей Сергеевич, закуривая сигаретку. – С такими вещами не играют в индейцев. Донос, предательство! Надо различать, когда эти вещи становятся своими противоположностями.
Михаил Венедиктович, неожиданно оборвав свою барабанную дробь громким аккордом, медленными шагами приблизился к Генке, положил ему на плечо руку. Для того чтобы смотреть прямо в Генкины глаза, ему пришлось откинуть назад голову.
– Не обижайтесь! Но есть вещи, о которых невозможно говорить спокойно. Одна из таких вещей – равнодушие к несправедливости. Именно подлое равнодушие к подлости. Подумайте об этом, Геннадий. Ладно?
– Ладно, – дернув углом рта, все еще продолжая ершиться, сказал Генка, вспоминая, что Михаил Венедиктович в который раз уже заканчивает разговоры одними и теми же словами: предлагает подумать. Точно Генка без этого не думает ни о чем.
Вера Николаевна, облегченно вздохнув, прошла через комнату к столу – прибавить огня в лампе. В комнате сразу стало светлее, но лицо Эли потемнело еще больше. Теперь заслоняющая лампу фигурка девушки походила на силуэт, обведенный по контуру светящейся золотой краской.
– Генка, – сказала Эля, – в наказание ты должен принести нам воду. Заодно проветришь свою умную голову…
– Эля! – многозначительно произнесла Вера Николаевна, но девушка рассмеялась весело и беспечно.
– Вера Николаевна, он же знает, что маленьких обижать нельзя. Даже если они царапаются, надо терпеть. Ты вытерпишь, Генка, правда?
Он улыбнулся, как ни Старался не делать этого.
– Вытерплю.
Генка принес воду, наплескав ее по дороге за голенища. Ставя в сенях ведра, не решаясь войти в комнату, выругал про себя Элю: выдумала же заводить этот дурацкий разговор! Теперь как-то неловко предлагать поездку в леспромхозовский клуб, в кино. И нет никакой возможности, никакого предлога, чтобы вызвать Элю. Совершенно нечего придумать. А просто так Эле нельзя выйти, совестно: сразу все догадаются, потому что некуда и незачем выходить вечером. Голову только ломать да глаза об ветки выкалывать – вечером выходить, в темень.
– Это ты, Генка? – спросила за дверью Эля.
– Я, воду принес…
Дверь отворилась. Девушка, придерживаясь за косяк, выглянула в сени.
– Геночка, будь хорошим! Мы поужинаем сейчас, а потом ты меня на лодочке покатаешь? Совсем недолго, чуть-чуть? Сколько сможешь?
Генка просто-напросто растерялся от такой беззастенчивости. Опешил. Почувствовал, как приливает к лицу кровь от стыда за Элю.
– Покатаешь?
Вот дура! Она откровенно ластилась, да еще бесстыдно подчеркивала это голосом.
– П-покатаю, – с трудом произнес он.
– Видишь, какое ты золото! Тогда я через часок приду к лодке, можно?
– М-можно, – сказал Генка и, страдая за Элю, о настойчивости которой невесть что могут подумать, спасая ее от продолжения позорного разговора, поскорее выскочил на улицу, фу, черт! Попробуй понять этих девчонок: то не подойти к ней близко, а то… Конечно, зазорного ничего нет, но непривычно как-то, неловко! И потом, если бы хоть он уговаривал, парню это простительно. Так нет же, она! Словно не знает, что без всяких уговоров… Ну, Эля!
12
Генка не увидел ее спускающейся по тропе, хотя с нетерпением вглядывался во тьму. Но тьма сказала Элиным голосом «ой!», с глухим шумом прокатился камень, звонко стукнулся о другой камень внизу. Потом раз или два скрипнула под легкими шагами галька.
– Ждешь?
Она зашелестела возле него брезентом плаща, а он, сердясь на нее, потому что мучился, все еще переживая ненужное, глупое давешнее унижение ее, ответил хмуро, колюче:
– Жду. Ты что, не могла мне сказать тихонько про лодку?
Тьма взмахнула крыльями Элиного плаща, крылья толкнули воздух, и Генка почувствовал Элины руки, сомкнувшиеся на его шее, и Элины губы – на своих губах. Тепло губ и прохладу зубов, на миг увиденных перед тем и показавшихся при слабом свете звезд голубыми.
– Ты дурень, – почти не отстраняясь, прошептала Эля. – Ну совсем, совсем дурень! И за что только я тебя люблю? Понимаешь, это же наши поручили мне поговорить с тобой, убедить. С глазу на глаз. Потому что товарищеские советы доходчивее наставлений старших. Ну вот… я и выполняла их поручение. Тсс!
Ее губы не позволили ему ничего сказать. Потом Эля неожиданно проскользнула под руками, оставив вместо себя плащ.
– Ты знаешь, что Вера Николаевна предложила заняться твоим воспитанием. По-моему, она догадывается. Ну и… решила помочь. Но мужчины ничегошеньки не заметили! Наверное, вы все одинаковые дурни?
– Ага! – охотно согласился Генка и попытался поймать Элю, но поймал тьму. Девушка тихонечко рассмеялась в этой же тьме, но чуть дальше.
– Не хами! Прямо не знаю, как буду тебя перевоспитывать.
– Я тебя сам перевоспитаю, – пытаясь поддержать мужское достоинство, сказал Генка.
– Горе ты мое! – нарочито вздохнула Эля. – Лучше отдай плащ. Холодно что-то…
Он отдал плащ, и Эля, запахиваясь в казавшийся совершенно черным брезент, опять вздохнула, на этот раз очень естественно.
– На Ухоронге ты был догадливее…
Генка не сразу сообразил, к чему это сказано, а когда сообразил и шагнул к девушке, она тенью скользнула в сторону, снова тихонечко рассмеялась:
– Есть такая заповедь: не зевай!
Теперь вздохнул он, беспомощно переступив с ноги на ногу. В этот момент из-за черных скал, сливающихся с чернотой неба, выдвинулся рог еще очень молодой луны. Сразу стало светлее.
– Ну вот, не хватает только соловья и беседки с розами, – сказала Эля и, подхватив рукой плащ, влезла в моторку, до половины вытащенную на берег.
– Зачем тебе беседка? – удивился Генка.
Эля ответила полюбившейся поговоркой:
– Горе ты мое! Иди уж сюда, что ли…
Опершись рукой о борт, он запрыгнул в лодку, а так как лодка основательно качнулась, ухватился за девушку. Оба, потеряв равновесие, опустились на среднюю банку, и Генка притянул Элю к себе.
– Горе мое, я не хочу беседки. Я хочу, чтобы ты переносил меня через Ухоронгу…
Она откинула голову. На этот раз Генка оказался догадливым. Он видел возле своего глаза полузакрытый глаз Эли с плавающим в нем голубым лунным светом и чувствовал, как согреваются ее губы, остывшие на вечернем холоде. Потом Эля, глубоко-глубоко вздохнув, оттолкнула Генку и, тряхнув головой, так что тяжелые, влажные от поднимающегося тумана волосы задели его щеку, сказала:
– Хватит. Мы с тобой сошли с ума. Может кто-нибудь выйти на берег и увидеть.
– Ну и пусть!
– Знаешь, я думала: чтобы полюбить человека, надо… ну… всякое такое… Разговоры, и взгляды на жизнь, и чтобы какое-то родство душ. А получилось вот так… Ты. И я. И еще знаешь кто?
Генка помотал головой.
– Еще Ухоронга. Помнишь?
– Помню, – сказал Генка, хотя ничего особенного вспомнить не мог. Ну Ухоронга, ну таймени, ну Эля дурачилась – падала с камня ему на руки, обманку еще оборвали из-за этого. Да, еще на пропащего зверя в Рассохе наткнулись. Ну и все вроде.
– Смотри, как красиво – три живых огонька. Белый, красный и зеленый. А выше – звездочка. Тоже как огонек, да?
– Катер идет сверху. Один, без состава, – сказал Генка. – Может, наш «Гидротехник». Они инспектора на устье Ухоронги повезли, акт на Худоногова писать… За того сохатого…
Он вспомнил сохатого, потому что только-только думал о нем, об Ухоронге и потерянной обманке. Эля вспомнила о другом:
– Генка, я понимаю, что у вас тут особые обычаи. Мораль пещерных людей. Но ведь нельзя допускать, в самом деле, чтобы из-за подлеца и труса Шкурихина страдал другой. Представь, я что-нибудь натворю, а тебя за это в тюрьму посадят.
– Черт с ним! Отсижу, – сказал Генка.
– Нет, ты не валяй дурака! Ведь если бы на месте Шкурихина был ты, ты же не поступил бы так? Ведь это просто позорно – прятаться за чужой спиной! Позорно и подло! Человека, способного на такое, я раздавила бы, как слизняка! Как мразь! И ты… ты понимаешь, что твое молчание будет именно предательством?
– Ты наговоришь… – неуверенно пробормотал Генка.
– Значит, серьезно не понимаешь? Ведь не можешь же ты бояться этого Шкурихина?
– Никого я не боюсь, – сказал Генка.
– Это я испугалась, что ты боишься, – помолчав, уронила Эля, в самом деле испуганно взглянув на Генку.
Он следил за огнями приближающегося катера и думал. О том, что дело не в страхе. Черт знает, в чем дело! Но как это вдруг пойти и сказать: «Сохатого сгноил не Худоногов, а Шкурихин»? Просто язык не повернется. Легче было бы сказать: «Не Худоногов, а я, Геннадий Дьяконов». Про себя – это не донос, а вот про другого… Даже про подлеца Петьку…
– Генка! – Эля тронула его за плечо. – Ты обязан объяснить инспектору. Я не хочу, чтобы ты поступал подло, понимаешь? Не хочу!..
Огни катера придвигались, но отражения их в черной воде не зыбились, не дрожали: катер был все еще далеко и, кажется, собирался пройти мимо.
– Может, что и не «Гидротехник». Да и «Гидротехнику» незачем приставать.
– Ты можешь перехватить его на моторке. Ведь инспектор там?
Генка пожал плечами, ничего не решая, увиливая от решения. Теперь уже по шуму двигателя можно было определить, что катер однотипен с «Гидротехником». Отражения ожили, заиграли. Но треугольник огней над отражением не начинал плющиться – судно держало курс к берегу.
– «Гидротехник». Вроде собираются пристать…
Генка покосился на примолкшую Элю, хотел спросить, ради чего она переживает из-за неизвестного ей Кости Худоногова, тоже довольно порядочного гада, но вовремя вспомнил слова Михаила Венедиктовича о равнодушии и несправедливости. Конечно, Эля не может равнодушно относиться к несправедливости. И все остальные «мошкодавы» тоже. И Генка Дьяконов не может, не имеет права! Но инспектору он не скажет, что виноват Петр Шкурихин. Он скажет в присутствии Петра: «Пусть виноватый не прячется за чужую спину и сознается сам. Иначе скажу я, Геннадий Дьяконов, потому что должна быть справедливость».
Катер, раздвигая штевнем воду, подвалил к берегу. Плюхнулся в воду якорь, затарахтела по клюзу цепь.
– Эй, на «Гидротехнике»! – крикнул Генка. – Вы чего?
– Получили радиограмму – встретиться здесь с речнадзором, – ответил, судя по хриплому голосу, механик.
– Завтра, – сказал Генка Эле, – завтра все сделаем.
Эля покачала головой.
– Нет. Сегодня. Чтобы мне не было за тебя стыдно целую ночь.
Пожалуй, больше всего не хотелось оставлять Элю. Девушка угадала это.
– Иди. Я подожду.
Тогда Генка сложил рупором ладони:
– Кондрат! Инспектор у вас на борту или высадили?
– У нас.
Генка поймал Элину руку и, уже делая первый шаг к катеру, не выпускал ее, глядя не на катер, а через плечо, назад. Потом тонкие пальчики девушки выскользнули из его пальцев.
– Подожду, – почему-то шепотом повторила девушка. Ее рука продолжала искать его руку. – Слышишь?








