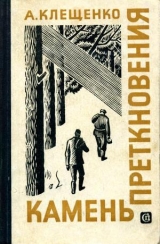
Текст книги "Камень преткновения"
Автор книги: Анатолий Клещенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
18
Январь.
Новый год, новое счастье.
Голизну льда, оставленную ростепелью в конце декабря, укрыл снег. Под новым тонким ледком не желала промерзать на старом льду ростепельная вода. Наступишь – сначала просядет снег, потом с хрустом проламывается молодой лед. Аккуратный след сапога наливался темной водой, чтобы застынуть погодя мутным стеклом. Стеклянные следы на белом снегу метали солнечных зайчиков.
Угольно-черные тетерева, прилетая по утрам на березы, осыпали с веток легкое, незвонкое серебро. Они усаживались зобами к востоку, чтобы видеть, как рождается в бело-золотой колыбели под голубым пологом солнце. Дни стояли безветренные, ясные, не очень морозные.
Новый год, новое счастье…
Новое, первое счастье Насти!
Она не успела еще разобраться толком, какое оно, в чем заключается. Спрашивала об этом солнечных зайчиков, спускаясь по воду к реке, и тетеревов на березах. Спрашивала свое сердце.
Никто не мог ей ответить, объяснить.
Но ведь именно счастье, не правда ли? Пусть пришло не так, как она ждала. Но раз это счастье – не все ли равно, как оно пришло к ней?
Все, кроме Конькова и деда, Новый год встречали в Сашкове. Коньков остался дома, в одиночестве. Дед застрял в Чарыни у старика Напенкина.
В Сашкове четверо – Шугин, Ангуразов, Воронкин и Стуколкин – слезли с саней у магазина. Пошли за водкой, а потом – к трактористу Гошке Козыреву, которого в позапрошлом году судили за хулиганство. Гошка еще в декабре в клубе звал Воронкина.
Шугина приглашала вместе со всеми Тося, но он почему-то пошел с Воронкиным. К Кирпичниковым попали Настя с Борисом, Ганько и Вася Скрыгин. А вообще у них чуть не полдеревни молодежи собралось. Дом большой, на Первое мая у Тоськи складчину всегда устраивали.
Парни уже выпивали. Приходу Бориса обрадовались, точно только его и ждали. Гармонист Санька Хрунов сразу ему стакан водки подал, а Борис не хотел пить. Сказал: «Первую в двенадцать часов полагается». Но его все-таки уговорили полстакана выпить. Потом танцевали под баян, потом парни опять выпили – без Бориса. И опять танцевали, Санька играл «Дунайские волны», а Тоська повесилась на Бориса, бесстыжая. Больше никому не дала с ним танцевать. После все пошли в клуб, парни некоторые уже пьянехонькими. Кажется, Бориса опять заставили выпить.
По дороге рядом с Борисом шел Санька Хрунов, его пошатывало, и Борис все время берег футляр с баяном. В клубе играл общие танцы, а Наташка Игнатова опять попросила «Цыганочку», они с Шугиным плясали. Наверное, был уже Новый год, когда пришел Николай Сухоручков и сказал, что пора ехать.
Бориса не хотели отпускать, но они все-таки ушли. Только они, остальные лужнинские потерялись где-то. Кони стояли в совхозной конюшне. Пока Сухоручков запрягал Серого, сидели у Ивана Антипыча. Там Борису поднесли бражки, еще говорили: «Нельзя не уважить хозяина!»
А потом?..
Дорогу на чистых местах перемело, ехали медленно. Настя замерзла. Закидала сеном ноги, спряталась от ветра за Бориса. Может быть, самую чуточку прижалась к нему, чтобы не так холодно… И вдруг Борис притиснул ей голову сгибом локтя и поцеловал в губы.
От него неприятно пахло вином.
Она растерялась, отстранила лицо. Но далеко отстраниться не могла, мешал его локоть. Тогда он поцеловал ее еще раз. И всю остальную дорогу, до самого кондвора, целовал…
А ей нельзя было вырваться, потому что мог обернуться Сухоручков, увидеть. Ей не хотелось вырываться. Она вся замерла как-то, было жарко и страшно. Она ни о чем не думала, мысли убегали куда-то.
На конном дворе Сухоручков остался распрягать Серого, а они с Борисом пошли к бараку. Он впереди, разметая катанками пушистый снег. У пристройки остановился. Единственное окошко ее не светилось – Фома Ионыч еще не вернулся из гостей. «До свидания», – сказала Настя и, открывая дверь, запомнила прочерченный ею на снегу полукруг. Подумала: сколько навалило снегу!
Войдя в сени, потянула дверь на себя. Не удивилась ее сопротивлению – мешал снег.
Снег не мешал.
Следом за нею в темные сени прируба вошел Борис. Войдя, плотно притворил за собой дверь. В сенях стало совсем темно, но не страх перед темнотой заставил сжаться Настино сердце. Это был совсем другой страх, не связанный с разумом. Словно при взлете на качелях, когда они перестают на мгновение быть опорой невесомого, замирающего, самому себе предоставленного тела…
В составлении отчетности Фоме Ионычу всегда помогала внучка – сам он не шибко дружил с бухгалтерией. Всегда очень внимательная, в этот раз она то и дело переспрашивала деда, путалась в цифрах.
Мастер недовольно ворчал:
– Тебя чему десять лет учили? Ворон считать?
Сдвигая на лоб очки и поглядывая удивленно, поджимал губы. Набивая трубку, сыпал махорку на разложенные по столу бумаги.
Настя, дважды уже пересчитав сводную ведомость, растерянно пожала плечами – опять ошиблась.
– Чего там? – спросил Фома Ионыч.
– Сорок шесть кубометров по второй делянке недостает. Не ругайся, сейчас еще раз проверю…
Фома Ионыч, забыв о трубке, успокаивающе махнул рукой. На ведомость просыпались горячие табачины. Он захотел смести их ребром ладони – и только добавил новых. Тогда изо всех сил принялся сдувать, краем глаза следя за внучкой: не смеется ли над неловкостью деда?
Настя не смеялась.
Справившись, сердито толкнул трубку на край стола, сказав:
– Покажи в третьей, у пня.
– Так ведь и из третьей все вывезли, деда? – удивилась девушка.
– Мало ли что вывезли.
– Так ведь по нарядам…
– Пиши знай! Третью рубить до самой весны хватит. К концу лес пойдет – шапка валится. И дни будут подоле…
– Пятьдесят кубометров почти! – Настя испуганно смотрела на форменный бланк ведомости. – Как же ты замерял, деда?..
– Как надо, так и мерял. Еще не вовсе ослеп, не бойся. Вроде бы в долг дадены эти кубометры, понимаешь?
Настя явно не понимала. Но дед посмеивался, не думая объяснять. Следовательно, пугаться не стоило. На всякий случай она спросила:
– А если ревизия?
– Раньше весны не будет. Успеют покрыть. Надо было приободрить мужиков по первости…
Покачивая головой, Настя вписала требуемую цифру. Потом взглянула на черные оспины пропалин от дедовой трубки – надо переписывать ведомости на чистый бланк. Ох уж эта ей трубка! До чего вредный старик!
Девушка сама усмехнулась противоречивости непроизнесенных слов, тому, что хотела сказать: милый, добрый дедушка! Как это странно и неожиданно, что в их жизнь входит еще один человек. Входит в жизнь, как вошел в эту комнату, – не спросясь… Вошел – и притворил за собой дверь… Как хозяин…
Забыв о документах, Настя встала и, обогнув стол, подошла к деду. Прижалась щекой к его небритой щеке, и седая колкая щетина показалась мягкой, ласкающей. С чувством человека, желающего спрятаться от чего-то в траве, потеряться в ней, девушка потерлась подбородком о щеку деда, словно раздвигала траву.
Не спряталась.
– Деда!.. – сказала она и замолчала, оробев. – Что, если я выйду замуж, деда?
У него ослабли, опустились плечи. Лица Настя не видела – их лица были в одной плоскости. Еще крепче прижалась к его щеке, чтобы не повернул голову, не взглянул бы на нее.
Фома Ионыч молчал.
Она опять – теперь уже ластясь, уверяя в нежности – пригладила подбородком щетинистую седину.
– Что же… – выдохнул дед. Рука его, придавленная в плече тяжестью Настиного тела, медленно потянулась к трубке. – Все выходят… Такое дело…
Трубка, которую он по-нескладному держал за мундштук, пахла горечью. Дед медлил набивать ее. Настя не отворачивалась от запаха, вдруг переставшего быть противным.
– Такое дело, На́стюшка!..
Девушка услышала, как он громко-громко пожевал губами, и представила выражение лица – растерянное, с ищущими неизвестно чего глазами.
– Вроде бы спешить нечего, – продолжал Фома Ионыч, – годы твои только к тому подходят. Ну, да разве я указчик какой? Девке, что птице, крыльев не свяжешь. Где уж!
– Может, я никуда и не полечу, деда!
– Это уж не тебе решать!.. Куда иголка, туда и нитка. Лишь бы парень хороший попал… Самостоятельный…
– Хороший, деда!
Он сделал движение головой в ее сторону, заставив отшатнуться.
– Ай уже приглядела?
Настя невольно улыбнулась: чудак дед, разве собираются выходить замуж неизвестно за кого? Смущенно отвела взгляд…
– Во-он как!.. – значительно протянул Фома Ионыч. – Где же ты это? В Сашкове? Не Кольку ли Буданцева, больно он ласково со мной надысь поздоровался?..
– Нет… Я после тебе скажу… Потом…
– Чего так? – удивился было Фома Ионыч, но сам же ответил на вопрос: – Приглядеть приглядела, да за сватаньем дело? Ладно, пущай возле походит! Покрути голову, без этого нельзя…
Фому Ионыча не удивила внучкина скрытность. Зато удивила Настю. Утопив тяжелую от мыслей голову в горячей подушке, девушка пыталась объяснить себе самой, почему захотелось промолчать.
Почему она, стесняясь своего счастья, вот уже несколько дней прячет его от людских глаз? И Борис – тоже?
И поняла: она прячет оттого, что так поступает Борис. Делает вид, будто между ними ничего не произошло. Значит, следует делать так.
А зачем?
Наплывая одно на другое, смешиваясь, сливаясь чертами, из ниоткуда начали возникать лица людей. Наглое, ухмыляющееся – Воронкина. Почти девичье с нависающей на глаза челкой – Ганько. Дерзкое, дергающееся от бешенства – шугинское.
«Смуглянка – тоже в общее пользование? Как и самовар?» – по-шугински изламывая губы, смеялись лица.
Вот зачем надо прятаться!
Борис не хочет, чтобы в нее швыряли мерзкими словами, перемигивались. Для них не существует ничего святого, ничего чистого. Нельзя, чтобы они знали, чтобы догадывались о ее счастье!
Вспомнилось, как Шугин спрашивал на крыльце: «Мешаю? Баяниста своего ждешь?»
И вдруг она поняла непонятое тогда. Словно кто-то убрал от глаз ладонь, мешавшую смотреть. Увидела боль и отчаяние, где раньше видела только злость да зависть. В чертах мертвенно бледного при звездном свете лица. В пальцах, не обжигающихся об огонь папиросы. В словах, принятых тогда за попытку обидой ответить на обиду.
Чтобы не вскрикнуть, Настя придавила зубами край одеяла: между ней и Борисом стоит Шугин! Уголовник, бандит, которому ничего не стоит ударить ножом, убить! Вот от кого надо прятать счастье!
Все, все словно осветилось вдруг и в этом, другом свете стало объяснимым, даже не требующим объяснений. Столько времени ходила по краю пропасти, не видя ее! Не боясь, не подозревая правды! Одна-одинешенька оставалась с Шугиным в бараке, в Сашково ездила по безлюдной дороге!.. Слепой, что ли, была раньше? Хорошо, что Борис умный, все видит и понимает. За нее боится, ее бережет!
Тревога растворилась в темных волнах набегающего сна. Вдруг стало удивительно радостно и спокойно, как будто широкая спина Бориса заслонила от всех тревог, от всех сомнений. Как на короткой белой дороге в черном лесу, когда Борис шел впереди, принимая на себя удары швыряющейся снегом метели.
19
Виктор Шугин плевать хотел на все комплексные бригады леспромхоза. В особенности на усачевскую. Но во-первых, этот фрайер с баяном обошел его, Шугина, тем, что теперь нельзя учесть личную выработку Усачева. Разве Виктор не понимает, что такое работа комплексным методом? Как говорится, не первый год замужем – понимает! Если в бригаде трелевщикам нечего возить, они встанут на валку. А потом, когда лес на складе, поди разберись – сколько напилил Усачев, сколько – еще кто-то. Общий котел. Комплекс. Во-вторых, Усачев теперь может давить понт: доверили бригаду, начальником поставили! Молодчик, умеет жить! Может!.. А в-третьих, Виктор слышал, как Тылзин говорил Сухоручкову: «С Латышева, брат, организацию производства спрашивают… А Борька что же?.. Опыт опытом, а единственный подходящий парень…» Значит, его, Шугина, подходящим не считают? Ладно!
Потушив о подоконник папиросу, он покосился на Стуколкина. Тот ковырял шилом валенок, лениво переругивался с Воронкиным из-за ничего, чтобы убить время.
– Слушай, Никола! – Виктор дождался, пока Стуколкин к нему повернется. – Ты заполнял наряд. Не посмотрел, как там культбригада рогами упирается? Сколько они вывезли сегодня?
– Усачев-то? Черт их знает…
– Должен ты им, что ли? – спросил Костя Воронкин, поднимаясь из-за стола. – Или своих кубиков мало?
Шугин закурил новую папиросу.
– Хотел украсть у них сотню осиновых баланов, а тебе толкнуть. По червонцу бревнышко. Возьмешь? – он деланно рассмеялся.
– Цыгану продай. Он всю дорогу пугает, что воровать завязывает. Будет лесом барышничать. Ты ему по червонцу, а он – по два.
– Тебе для гроба даром подкину, если подохнешь. Деловой сосны, первый сорт. На радостях! – пообещал Стуколкин.
Виктор потянулся, изображая полное душевное спокойствие. Неторопливо выпустив кольцо сизого дыма, сказал:
– А ведь нам, братцы, не светит вся эта заваруха с бригадами. Надо соглашаться на комплекс.
– На что он тебе сдался? – равнодушно поинтересовался неразговорчивый Ангуразов.
– Тошно тебе без него, да? – подхватил Воронкин.
Виктор решил ответить Воронкину:
– Как без него, так и с ним. Одинаково. Просто неохота, чтобы в нос тыкали фрайерами. Надоело. Всю дорогу тебе на кого-то показывают. Каждая псина думает, что ты способен только по тюрьмам сидеть.
– Из каждой такой псины я способен двух сделать. Или четырех! – поиграл бицепсами Воронкин.
– И заплыть по новой… – сказал Стуколкин.
– Точно, – беззлобно усмехнулся Ганько. – По семьдесят четвертой. Ты же натуральный хулиган.
Это была обычная трепотня, обижаться не стоило. Воронкин засунул в проймы застиранной майки большие пальцы и, перебирая остальными, как при игре на пианино, выпятив грудь, заявил с подчеркнутой шутовством гордостью:
– Извините. Майданник, а по-фрайерскому – специалист по освобождению пассажиров от лишнего багажа.
– Был! – Николай Стуколкин швырнул валенок под койку. – Был, Костя! Сейчас ты – натуральный работяга. Лапки в трудовых мозолях.
– Еще буду, Никола! – пообещал тот.
– Трудиться не нравится?
Зажмурясь, сморщившись, словно раскусил что-то очень горькое или кислое, Воронкин отрицательно закрутил головой.
Стуколкин даже не посмотрел в его сторону:
– Валяй. Два раза украдешь, на третьем сгоришь…
– Чего ты меня пугаешь? – закипая, срываясь на обычную в таких случаях показную истерику, шагнул к нему Воронкин. – Хочешь, чтобы я всю дорогу ишачил, как теперь? Да?
Пожав плечами, Стуколкин спросил не его, а Шугина:
– Разве пилить такие же баланы под конвоем в оцеплении не называется ишачить? Наверное, теперь это называется «воровать»?
Шугин не ответил: Воронкин не дал ответить. Заговорил, брызгая слюной, нервничая всерьез:
– Слушай, Витёк, что ему надо, падлюке? Если бы я боялся риска, я не был бы босяком. Был бы фрайером.
– Прижали, гады! – неожиданно изрек Ангуразов. – Не те стали времена. Не кормят даром начальнички…
– Можно еще прокантоваться, Закир!
– Можно, конечно! – бездумно, из солидарности только, согласился тот.
Упираясь пяткой в край табуретки, Стуколкин подтянул к подбородку колено, пухлое в ватной штанине. Как на подушку, положил на него лохматую голову.
– Мне наплевать, – сказал он, успев в паузе глазами пробежать по всем лицам, – что вы думаете делать. Как хотите. Я всю дорогу воровал. Всю дорогу жулик. Кто-нибудь скажет «нет»?
Все выжидающе молчали.
– Я всегда приду к во́рам, и мне не начистят рыло. Я всегда поделюсь с вором последним куском хлеба. Но сам я воровать кончил. Кончил внатуре…
– Твое дело, – поднял и опустил плечи Воронкин.
– Каждый имеет на это право, – как всегда, согласился с ним Ангуразов.
– Может быть, – после паузы продолжил Стуколкин, – кого-нибудь из вас босяки спросят за Цыгана. Почему Цыган завязал? Я могу объяснить… – он опять сделал паузу, а потом, рубя фразы: – Я не стал честным. Просто научился считать, что за каждый месяц на воле тянул два года. Ишачил меньше, чем ишачили там фрайера. Но ишачил…
Он закурил, пальцы его вздрагивали, дважды сломал спичку.
– На воле теперь не разгуляться, братцы! Не то время. Украл – и сиди в хате, втихаря пей водку. Вылез на улицу – берегись выкинуть лишний червонец. Иначе сразу попадешь. Прописал паспорт – участковый спросит: где работаешь? Не прописал – дворник стукнет участковому. Лучше без несчастья заработать грошей на ту же пьянку и не оглядываться… Конечно, украсть можно больше. И легче… – Он усмехнулся, сделал пару затяжек. – Идешь на дело, думаешь: пройдет! Знал бы, что наверняка сгоришь, – не пошел бы! Так, Костя?
– Допустим, что так…
– Хватит. Не хочу сам себе лепить горбатого. Раз пройдет, а на другой или на третий прихватят… Я – вор. Вор! Поняли? С огольцов воровал, чтобы не ишачить. Но за месяц жизни на воле два года пилить лес или котлованы рыть мне не по климату. Это и на свободе можно. Здесь я хоть сам хозяин себе. Захочу – соберу шмотки и айда! Кто меня остановит? Короче говоря, Цыган больше не ворует! Не желает быть фрайером!
– Ишачить никому не хочется… – сказал Воронкин. – Дураков нет.
– Есть, – усмехнулся Стуколкин, пытаясь поймать бегающий взгляд парня. – Ты. Хочешь не ишачить и всю дорогу ишачишь. Как последний рогач.
– Иди ты… – по привычке хотел было выругаться Воронкин, но умолк. Ничто не подмывало ругаться. Лениво, с показной беспечностью, прошел к койке. С маху плюхнулся на нее, задрав ноги на спинку. – Развел баланду, как гражданин воспитатель… – пробурчал он.
Остальные молчали.
Потом заговорил Шугин. О том, что его интересовало. Он обращался к Стуколкину и Ганько, вместе с которыми работал. Но темное чувство единой судьбы, порожденное рассуждениями Стуколкина, объединяло сейчас всех пятерых.
Шугин спросил, как бы примиряясь с необходимостью:
– Так что, братцы? Переходим на комплекс? Да?
Рядом с тревожной, давящей грудь чернотой тупика и бродящим в этой черноте призраком выхода из него вопрос Шугина был таким ерундовым, таким легко разрешаемым. А, не все ли равно? Стоит ли говорить об этом?
– Можно, – буркнул Ганько, торопясь к своим невеселым мыслям.
Но Николай Стуколкин уже перешагнул через сомнения и поиски. Он мог разрешить себе интересоваться мелочами:
– Мало людей – трое.
– Добавят, – сказал Шугин.
Стуколкин поморщился:
– Добавят каких-нибудь чертей – не обрадуешься. Будут придуриваться. За фрайеров спину ломать – тоже на черта мне такие роги́!
– А Костя с Закиром? – движением головы показал Ганько.
Воронкин ответил не сразу, но ответил. За себя и за Ангуразова:
– Ладно, давайте в куче. Без фрайеров.
Нельзя было оттолкнуться от людей, хоть в какой-то степени близких, остаться в одиночестве. А в его несогласии услышали бы именно это. Особенно сейчас, после исповеди Николая Стуколкина. Зачем портить отношения? Один черт, как работать…
Шугин предупредил:
– Вкалывать придется на совесть, Костя!
– Знаем, – все так же глядя в потолок, кивнул Воронкин. – Что же я, по-твоему, с босяками буду работать – и темнить? Что я за псина тогда?
– Да я так, к слову! – успокоил его Виктор.
– Три месяца до весны осталось, кореш! – добавил свое утешение Ангуразов. – Быстро пролетят. Там – все по шпалам с котелком…
– Цыган останется, – мигнул ему Воронкин, показывая на Стуколкина.
– Уеду! – опровергнул тот.
– К теплу поближе, где гроши растут на пальмах?
Николай не ответил. Глядя мимо него, заботливо напомнил Шугину:
– Коня надо подходящего просить. С таким, как вороной мерин, пропадешь…
Так организовалась еще одна бригада малого комплекса. Четвертая на участке.
Виктор отправился к мастеру – договариваться. Тот оказался на конном дворе. «Кстати», – подумал Шугин, вспомнив наказ Стуколкина, и подался промятым в свежем снегу следом.
Мастер и Иван Яковлевич осматривали тылзинскую кобылу Ягодку, напоровшуюся ногой на сук. Третий день лошадь была «на бюллетене».
– Решили работать комплексом, – с ходу доложил Виктор. – В общем, организуем бригаду…
Фома Ионыч особой радости по этому поводу не выразил. Смущало, что бригада будет состоять только из «блатяков». Опять одни, сами по себе. И главное, приходится им доверить коня. Конь – тварь бессловесная, не придет жаловаться. А доброго отношения к беззащитной скотине от головорезов ожидать нечего.
Но Шугин отказался от коновозчика, которого хотел сосватать в бригаду мастер. Сказал твердо: будем работать впятером.
– Штука! – задумался Фома Ионыч. – Боюсь я вам коня выделять. Замордуете вы его.
Шугин начинал злиться; но тут – вовремя – вмешался Иван Тылзин:
– Маленькие они, что ли, Фома Ионыч? Людям на коне работать, зачем же они его уродовать станут?
Тот недовольно метнул в его сторону двух солнечных зайчиков со стекол своих очков. Покрутив головой, словно выискивал место, куда увести Тылзина для объяснений с глазу на глаз, обескураженно махнул рукой:
– Ты пойми, Иван Яковлевич. Конь не машина, коню отношение надо. А они? Разве они по-человечески могут – такие?
Руки Виктора Шугина сами собой метнулись кверху, судорога свела пальцы. Усилием воли заставив, как ему показалось, окаменеть сердце, он сдержался. Процедил через стиснутые зубы:
– Был бы ты помоложе, подлюга… Рук марать неохота. Уйди, гад! Сгинь!..
Между ними встал Тылзин. Зачастил испуганно:
– Витька! Витька! Брось! Брось! – И видя, что Шугин опустил руки: – Вот так, вот и молодец!..
Иван Яковлевич совершенно растерялся: что говорить дальше, как говорить? Мастер оскорбил парня, ударил в больное место – Тылзин угадывал это. Но мастер есть мастер, да еще старик. А Шугин на него с кулаками, с матом. Как можно?
– Разве кулаками правду доказывают? – выигрывая время, подступил он к Шугину. – Ты что?
Тот скрежетнул зубами.
– Ну вот! Психуешь? – обрадовался предлогу Тылзин. – А другие, думаешь, не имеют нервов? В горячке, братец, и не такое скажешь. Он, – Иван Яковлевич через плечо показал на мастера, – еще похлеще мне сейчас выдавал. За Ягодку. И фашист, и шкуродер. По-всякому, а я постарше тебя! Ну и не остыл, а тут ты – тоже насчет коня. Должен же понимать, что старик ведь. Спроста брякнул…
– Прошлого мне забыть не можете, – сказал Шугин. – Я знаю! Тогда освобождали зачем?
Тылзин всплеснул руками.
– Да разве кто в уме такое держал? Спроси, он тебе сам скажет.
Иван Яковлевич рискнул отступить, оставив парня и мастера лицом к лицу.
Фома Ионыч понял нехитрую дипломатию Тылзина. Осознал он и всю непозволительность промаха: действительно, брякнуть такое!.. Мастер, коммунист! Человек, обязанный перевоспитывать!
Надо было во что бы то ни стало выкручиваться!
– Знать я твоего прошлого не хочу, – напористо, с нотками обиды в голосе, начал он. – Я к тому, что молодые вы все. Вам что конь, что трактор: тяни знай! Знаю я вас!.. Разве ты Ивану ро́вня, а и он – эвон!.. А с вас вовсе какой спрос?..
Шугин и верил и не верил. Сердцем чувствовал: не то подразумевал мастер! Но с другой стороны, ему везде мерещатся такие попреки прошлым. Как зайцу – собаки. Может, на самом деле Фома Ионыч не думал об этом. А они, мол, кто? Сопляки!.. Могло и так быть…
– Если неправильно понял – извиняюсь! Только… я к вам с делом, а вы… Что мы – звери, коня вашего мучить?..
У Фомы Ионыча упал с души камень.
– Видишь, тут как – одно к одному. Голова кругом. Понятно, что дам коня. Но опять же ты с кулаками ко мне полезешь. Кони – они за возчиками закреплены. Не могу я у человека коня отобрать. Вот из подменных выбирай любого…
– «Витязя» вполне можешь брать, – посоветовал Иван Яковлевич. – Тягучий. Не гляди, что девятый год. И зубы еще добрые…
Конечно, если выбирать из двух – надо брать «Витязя». Это Шугин и сам понимал. Лучше «Витязь», чем чужой человек в бригаде. Да и как его возьмешь, нового? Кем-то из своих надо тогда поступаться…
– Черт с ним, возьмем «Витязя», – решил он. – Возить Стуколкин будет.
Тылзин уже повеселел, мог шутить:
– Во-во! Вы его вроде Цыганом дразните, так это ему по специальности – коногонить. Какой же цыган без лошади?
Когда Шугин ушел, Иван Яковлевич сказал гневно и осуждающе:
– Эк тебя за язык-то дергает!
Фома Ионыч засопел, зашарил по карманам – как будто срочно понадобились спички. Нашел. Вычиркнув, подержал огонек над курящейся и без того трубкой. Пряча глаза, объяснил невразумительно:
– Понимаешь – затмение нашло…
Тылзин устало опустился на пышную охапку сена, по пояс в нем утонув. Достав папиросы, тоже закурил. Вздохнул:
– А говорим – воспитывать!
– Я, брат, не говорю. Не лезу. Это ты зря.
– Так ведь надо воспитывать-то. Воспитывать, а не так вот, словно по голове кувалдой. Шугин – он гляди как выправился…
– Сколь волка ни корми, все в лес смотреть будет!
– А кто их кормит? Сами едят, сами на хлеб зарабатывают. Нашими пирогами не больно прельстишь. Поди как твоя Лужня сладка! Леса да небеса!
– А я про что?
– Не-ет, ты про другое!.. Ты мне – что воспитывать ни к чему, что пропащий они народ? Так?
– И про то, что разговоры одни…
– Вот, вот! Я же тебе о другом. Насчет разговоров ты, может, и прав. Может, конечно, в другом месте и не только разговоры, а у нас – это точно. Нам тут самих себя не воспитать, чего уж дальше замахиваться. И все же ты посмотри: Витька-то Шугин извинения у тебя запросил? Шугин! Ты это как понимаешь?
Фома Ионыч поежился – вроде извиняться перед ним не за что было, по-тылзинскому-то так выходит. Промолчал.
Но Иван Яковлевич не хотел униматься:
– Это значит, – пообтерся человек. Тот – и не тот! Слыхал, есть такой воспитатель – жизнь? Вот кто воспитывает! Без разговоров!
– Кабы они, Иван Яковлевич, жить-то начинали только. Жизнь – она сызмала воспитывает. С этаких вот, – показал он полметра от пола.
– Нет, это ты погоди! Я вот как считаю: зачем досрочно ребят выпустили? Как бы поблажку сделали? Да затем, чтобы вот такой Витька Шугин между настоящих людей потерся. Вроде внеочередного отпуска по путевке: пойми, мол, что тебе за государственный счет возможность предоставляется. Ступай оглядись, как люди без легких денег трудной-то жизнью лучше тебя живут. А не хочешь оглядываться – на себя пеняй. И должны бы понять, на какие им уступки пошли!.. Какая ни есть голова у всех имеется…
– На которых, может, и подействует, – подумав, согласился Фома Ионыч. – Только многих зря выпустили, по-моему. К примеру, таких, как наши…
– А как ты незряшных выберешь?
Фома Ионыч развел руками:
– Да никак не выберешь, это верно. Атомный век, а такой машины не изобрели, чтобы души у людей просвечивать, что ли…








