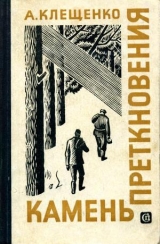
Текст книги "Камень преткновения"
Автор книги: Анатолий Клещенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
– Все-таки медлить не стоит, – забеспокоился Петр Сергеевич, – и, знаете, немного подальше ручей будет, так нам, может быть, по воде пройти?
Фиксатый сплюнул, ответил покровительственно:
– Ничтяк! Говорю, не подумают, что мы в тайгу кинулись. Айда прямиком!
Память не изменила геологу Бородину.
Визира, прорубленная много лет назад, заросла молодым сосняком, но Петр Сергеевич нашел ее без труда. Сосняк по́росли был тонконог и лохмат, деревца тесно жались друг к другу. Лоси, любящие ходить прямиком, намяли по визире торную, удобную тропку.
– Дорога! – преждевременно обрадовался Фиксатый.
– Звериная. Таких дорог попадется много. Нам следует держаться на юго-юго-запад, визира – только ориентир для нас. Километров через двенадцать выйдем на следующую…
В тот день они не дошли до следующей визиры. Бессонная ночь и перевалы через бесконечное количество сопок вымотали обоих. Ночевали они под громадным, густым кедром, по настоянию Петра Сергеевича не разжигая костра. Спали в большом ворохе свежего пихтового лапника, крепко прижимаясь друг к другу.
Второй день пути рассеял несколько страхи Петра Сергеевича. Он не вздрагивал, не оглядывался рывком назад, если под сапогом Фиксатого ломалась ветка. Не замирал, хватаясь рукой за сердце, приняв крик сойки за окрик преследователя. Не вглядывался, покамест не начинали слезиться глаза, в кусты позади, где померещилось ему какое-то движение.
Привычными стали крики птиц, трески и шорохи тайги. Примелькались движения теней и солнечных бликов среди листвы и хвои. Видимо, и к самому страху он начал привыкать, а привычное не пугает.
В мешке у Фиксатого, кроме хлеба, оказались котелок и запас соли: недаром этот побег – четвертый на его совести! День был хмурым, оба беглеца по пояс вымокли в холодной росе, и Петр Сергеевич согласился на разведение костра:
– Только из сухих дров, пожалуйста. Сухие меньше дымят…
У него тоже имелся некоторый опыт.
Робея снять и развесить одежду для просушки, оба поворачивали к огню то один, то другой бок. В котелке закипела вода. Кипяток горько припахивал дымом, но Петр Сергеевич глотал его, обжигаясь, радуясь живительному теплу. Густо посоленный хлеб и в лагере не казался таким вкусным!
– Ты на воду не нажимай, от воды слабнут, – поучал Фиксатый, поправляя хворост в костре.
Вечером, перед тем как обосноваться на ночлег, он вынул все из того же заплечного мешка моток тонких сыромятных ремней.
– Прошва. На конном дворе увели ребята. Будем с тобой мясо доставать…
Петр Сергеевич только кивнул равнодушно, занятый своими мыслями, и опять устремил взгляд на пламя костра. Фиксатый прихватил топор и легкой пружинящей походкой направился к сосновому бору, опаленному до половины стволов давним низовым пожаром.
Когда он вернулся, спутник его спал или притворялся спящим. Фиксатый ухмыльнулся, подбросил в костер топливо и подставил спину теплу, укладываясь на подстилку из пихтовых веток.
На рассвете Петра Сергеевича разбудил холод. Пытаясь унять дрожь, он принялся сгребать в кучу обгорелые сучья на кострище и, только отдернув ладони от начинающего обжигать пламени, спохватился, что он один. Фиксатого не было. Петр Сергеевич сразу забыл о костре, об утреннем холоде и вскочил на ноги, озираясь.
Один?
Совсем один?
Испугаться он не успел, он растерялся только. Фиксатый неожиданно вылез из кустов, небрежно швырнул наземь большую черно-синюю птицу.
– Второй оторвался и петлю с собой унес. Видать, я привязал плохо.
В первый раз за многие-многие дни почувствовал Петр Сергеевич невыразимую словами легкость и ясность радости. Хотелось рассмеяться, расцеловать этого уголовника, но геолог сдержался и сказал вовсе не то, что следовало бы сказать:
– Глухарь?.. Очень хорошо… Очень кстати…
– Это меня один сибиряк научил – петли ставить, – с лицемерной скромностью похвастался Фиксатый. – Изувечил он кого-то по пьянке, восемь лет ему дали. Мы с ним в сорок седьмом из Колымы уходили. Тоже фрайер, а мужик был что надо!..
Горячая похлебка с забытым в лагере густым ароматом мяса только настроение испортила Петру Сергеевичу – она положила начало невеселым думам.
За какую вину столько лет отвыкал он от всего, что вкусно, удобно, красиво? Какое преступление искупал рядом с ворами и растратчиками, спекулянтами и, может быть, даже с действительными врагами народа? Разве он виноват теперь, что приходится, словно волку, бежать в лес, заметать следы?
Он не виноват, нет.
Не виноват даже бригадир, который обманом заставил его бежать.
Виновата судьба – стечение непонятных обстоятельств. Стихия.
Виноваты те, чьи действия непостижимы для него. Какая-то противоестественная, но реальная сила, перед которой Петр Бородин беспомощен.
Они заставили его смотреть на мир через решетку. Якшаться с уголовниками, с подонками. Бежать. Бежать даже от встреч с людьми. Шарахаться от кустов и деревьев на родной земле – на своей земле, по которой никто не смеет запрещать ему передвигаться свободно!
Смеют запрещать…
«Они» все смеют!
Он не знает, кто именно. Наверное, никто не знает, кроме них самих, умеющих оставаться безнаказанными, притворяясь ревнителями правды. Но если он не в силах бороться с ними, как не в силах противостоять стихиям, может быть, следует поступать так, как делает этот уголовник? Если преступник пытается противостоять закону, почему он, Петр Сергеевич, не должен противиться беззаконию? В конце концов, это все равно что убегать от наводнения или от лавины – ведь он не может остановить их. Значит, следует убегать! Но куда убегать? Зачем?
Словно угадав мысли спутника, Фиксатый отставил опорожненный котелок, вытер ладонью рот и сказал:
– Шулюм вышел, что надо, а мясом только водку закусывать. Дичь! Вот доберемся с тобой до Красноярска да придем на хату – водки выпьем. Не тушуйся, батя!
– В Красноярске сразу же арестуют, потому что у нас с вами нет документов, – отозвался Петр Сергеевич.
Фиксатый рассмеялся с искренней веселостью.
– В первом побеге всегда кажется, что обязательно тебя поймают, что документы будут на каждом перекрестке спрашивать. Ничтяк! Привыкнешь! А паспорт сработать у нас такие чистоделы есть! Лучше натурального нарисуют.
Петр Сергеевич понурился. Дожил! Доктор наук Бородин, автор ученых трудов, честный человек, будет скрываться по подложному паспорту? Как вор или фальшивомонетчик, как… как…
Ему хотелось найти особенно подлое слово, больнее ударить себя сравнением: докатился, получил награду за беспорочную жизнь? Так тебе и надо!..
Тайга со своей торжественной, храмовой тишиной не располагает к разговорам. Она располагает к размышлениям. Петр Сергеевич шел, тяжело переставляя ноги, путаясь в кустах и колоднике. Невеселые мысли сплелись в нескончаемый хоровод. В сотый, а может быть, в тысячный раз геолог старался уяснить первопричину происходящего и опять терялся. Не мог, не умел найти название ей – единственно четкое слово, которое бы поставило все на свое место. Происходящее по-прежнему казалось бредом, кошмаром. Мысли путались.
Спутник Петра Сергеевича не склонен был к размышлениям – нечего было терять и нечего приобретать. Успокоенный отсутствием погони, он шел бездумно и беспечально. Так, наверное, летит на огонь бабочка, не раздумывая, обожжет или не обожжет крылья. Огнем, всегда вспыхивающим так ненадолго, для Фиксатого была свобода. И первый же луч этого огня ослеплял его, заставляя все забывать, всем ради него поступаться.
Фиксатый швырял шишками в рыжих, испуганно стрекочущих белок, улюлюкал вслед зайцам-белякам, некрасивым в летнем наряде. И в пути и на привалах он время от времени заговаривал с геологом, пускался в рассказы о своих былых кражах, о женщинах, которых именовал «марьянами» и «дешевками». Односложные ответы, а то и попросту молчание партнера его не обижали.
– Ничтяк! – по обыкновению усмехался он, блестя золотом «фикс», как почему-то называются на воровском жаргоне зубные коронки. Он считал, что Петр Сергеевич неразговорчив и невесел потому, что не верит в качество выделки обещанных документов, что пугают его трудности далекого пути.
Фиксатого они не пугали. Просто он не задумывался даже, как труден и далек путь к той недолгой «воле», о которой вполголоса пел по вечерам у костра:
Люби меня, детка, пока я на воле,
Пока я на воле, я твой.
Кичман нас разлучит, я буду жить в неволе,
Тобой завладеет кореш мой.
Петр Сергеевич знал, что кичман – тюрьма, что она очень и очень скоро разлучит Орехова-Журина-Никифорова-Ткаченко с «марьяной», может быть успеющей полюбить его, если он доберется все-таки до своей «воли». И Петру Сергеевичу было безразлично это.
Теперь его волновала собственная судьба. В лагере она складывалась без его участия, покорно выполняла требования конвоя, ходила в сером строю других таких же покорных судеб. И вдруг все изменилось.
Сегодня он должен сам заботиться о своей судьбе. Ему следует применяться к новой, нелепой жизни, словно и впрямь геолог Бородин попал на иную планету, где и двигаться, и спать, и даже дышать нужно по-другому. Другими глазами смотреть на все знакомые вещи.
Продолжать работу он не сможет – об этом даже мечтать смешно. Дико мечтать об этом. Думать дико. Значит, остается одно: раздобыть этот фальшивый паспорт и просто жить. Жить, затерянному среди людей, потеряв себя. Жить только для того, чтобы жить? Ну что ж! Ведь живут же птицы ради единой радости существования под солнцем, черт побери!
Приткнется куда-нибудь сторожем или истопником, ассенизатором, в конце концов. Да, ассенизатором! Чем хуже – тем лучше! И пусть у него будет фальшивый паспорт, он станет «своим» среди жуликов. Пусть! И вовсе не рвется он продолжать работу, хватит с него! Не хочет! Нет, нет и нет!
Гнев обладает способностью вспыхивать даже тогда, когда, кажется, все сгорело, а зола остыла.
Утром пятого дня Фиксатый разломил пополам черствую пайку хлеба с приколотым лучинкой «прицепом» и демонстративно вытряс мешок.
– Концы! Не кормит больше начальничек. Да и хлеборезка далеко. Долго нам еще топать, батя?
Петр Сергеевич испуганно посмотрел на подернутый белизной плесени хлеб. Рука, протянутая за ним, дрожала. Все эти дни и он тоже не вспоминал о трудности, о длине пути. Иные думы заслонили эту. А эта оказалась страшнее, главнее всех; она вдруг отстранила остальные, задавила собою, вырастая во что-то гигантское и бесформенное, спросила голосом Фиксатого:
– Долго нам еще топать, батя?
И, словно в перевернутом бинокле, где-то далеко-далеко за потухающим костром показала маленький заплесневелый кусок хлеба – последний!
Облизнув сразу высохшие губы, Петр Сергеевич не ответил на вопрос, он спросил сам:
– Как же теперь, а?
– Ничтяк! Будем глухарей ловить. Какой-нибудь поселок попадет – опять хлебушка раздобудем. Здешние замки спичкой открывать можно.
Но слова бывалого беглеца Петра Сергеевича не успокоили. Бережно, боясь уронить крошку, взял он свою долю хлеба и, завернув в тряпку, что когда-то была носовым платком, спрятал в карман бушлата. Еще раз облизнув сухие губы, сказал:
– Кажется, до ближнего поселка еще очень далеко. Очень. Думаю, что дня четыре пути. А прииски мы оставили в стороне, они расположены в тридцать восьмом квадрате. Может быть, мы вернемся туда? Нельзя же идти без хлеба…
– Говорю – птиц ловить будем. Соль есть еще. Погано, что махорка кончается, это верно.
Место для ночлега Фиксатый выбрал недалеко от светлого косогора в сосновом бору, где высмотрел среди брусничника плешины песка, изрытые неглубокими ямками. В ямках валялись оброненные перышки. Расставляя петли, он объяснил спутнику, что глухари прилетают сюда купаться в песке.
Но утром две петли оказались неспущенными, а в третью попала глухарка, от которой какой-то зверь оставил только растянутые по траве лиловые внутренности да пестрые коричневые перья.
Фиксатый матерился долго и отвратительно.
Петр Сергеевич отломил половину припрятанного вчера хлеба и съел, не соскребая плесени.
Днем они собирали кисло-сладкую бруснику, но есть от этого не хотелось меньше.
Вечер застал на захламленной валежником гари. Ставить здесь петли не имело смысла, а добираться до темнеющего вдали бора не было ни сил, ни времени. Фиксатый необычайно долго добывал огонь, закатывая вату, а когда костер разгорелся, молча повернулся к нему спиной. Он не пел про детку, с которой его разлучит тюрьма. Он опять грязно и отвратительно ругался.
Остатки своего хлеба Петр Сергеевич ел тайком от него. Съев, долго и безуспешно шарил в кармане, искал крошек. Крошек не оказалось, хлеб потерял уже способность крошиться.
И снова наступило утро, утро очередного пасмурного дня. Оно разбудило рябчиков, что спали в залитых росой травах, белок в гайнах, истеричных бурундуков в норах. Разбудило и чувство голода у всех. Рябчики отряхнулись и полетели в брусничник, белки занялись шишками, бурундуки стали набивать защечные мешки семенами шиповника. Только людям возле костра на гари нечем было утолить голод.
Фиксатый припалил недокуренную вечером самокрутку, жадно затянулся махорочным дымом. Потом вложил два пальца в рот и засвистел пронзительно.
– Падъ-ем!.. – крикнул он во все горло и приготовился наблюдать, как перепуганный спутник вскинется и оторопеет спросонья. Но Петр Сергеевич медленно повернул голову, в его глазах не было и тени сонливости.
– Надо двигать, батя! Запрягай!
Геолог покорно встал на ноги.
– Ты чего невеселый? Чай будем пить дальше, на каждой станции кипяток бесплатный!
– Перестаньте паясничать, – отмахнулся Петр Сергеевич.
Неожиданно Фиксатый насторожился, явно прислушиваясь к чему-то, и вдруг подмигнул ободряюще.
– Батя, а ведь то кедровки орут.
– Вы уже две ночи подряд глухарей ловите, – раздраженно проворчал Петр Сергеевич, словно Фиксатый обманул его в чем-то. – И кедровки, и рябчики, и глухари есть повсюду. Тайга. Есть, да не про нас с вами…
– Да я не ловить их хочу! Кедрач в той стороне быть должен, орехи кедровые… Додуваешь? А ну, торопись!..
Часа через два беглецы сызнова сидели у костра, а на углях потрескивали кедровые шишки, похожие насечкой своих чешуек на ручные гранаты. Шишки еще не созрели полностью, приходилось поджаривать их, вытапливая лишнюю смолу, заставляя оттопыривать плотно прижатые друг к другу чешуйки. Это все-таки была пища, не сравнимая с брусникой, которой оба набили уже оскомину. Но орехи были такими маленькими, так медленно поддавались они очистке, а есть так хотелось!..
Вечером Фиксатый опять расставил петли, а Петр Сергеевич, подкладывая сухие сучья в костер, жарил кедровые шишки и лущил, лущил, лущил… Губы и руки его почернели и заскорузли, отросшую за неделю тронутую сединой щетину на подбородке теплая смола склеила неопрятными пучками. Задолго до рассвета он разбудил напарника.
– Как вы думаете, не пора петли проверить?..
– Иди ты знаешь куда? – огрызнулся тот, поворачиваясь на другой бок. Петр Сергеевич обиженно вздохнул, поправил прогорающие дрова и бросил в огонь еще несколько шишек.
Но на этот раз им повезло.
Когда рассвело, Фиксатый ушел смотреть петли, и спустя какой-то десяток минут в сосняке зазвенела залихватская воровская песня:
Приходите к бану, урки,
Кто умеет стосс метать…
К месту ночлега он притащил сразу двух матерых глухарей, а в накомарнике – несколько крепышей боровиков, в широкополых коричневых шляпах.
– Живем, батя!..
Не завтрак – пиршество устроили они! Двухлитровый котелок закипал трижды, набухая розоватым кружевом пахучей пены, и трижды опоражнивался. В четвертый и пятый раз его вешали над огнем, чтобы наварить мяса впрок, в дорогу.
Вместе с блаженным состоянием сытости к Петру Сергеевичу пришло чувство благодарности спутнику, восхищение всегдашней его бодростью и уверенностью в себе. Теперь Фиксатый казался ему приятным, рассудительным и достойным уважения. Он же всегда был идеальным товарищем, золотой души человеком, героем! Как не понимал этого Петр Сергеевич раньше? Вор, жулик? Что же, у каждого свои слабости, свои взгляды на мораль. Разве Петр Сергеевич знает, что заставило парня стать Ореховым-Журиным-Никифоровым-Ткаченко? Петр Сергеевич не знает, кем и чем сам он, Петр Сергеевич Бородин, будет завтра…
– Знаете, – сказал он, впервые с симпатией разглядывая Фиксатого, – я даже не знаю толком, как вас зовут. Понимаете, я имею в виду не кличку…
Босяк усмехнулся было, но вдруг на скуластое лицо его набежала тень. Он отвернулся, сплюнул прямо в костер.
– А я, батя, и сам уже позабыл. Мать меня Санькой звала, пахана своего не помню. А паспорта у меня всегда липовые были.
– Значит, Александр? Саша, иначе говоря? Так…
Петру Сергеевичу стало почему-то грустно, он боялся поднять глаза на спутника. Да и Фиксатый по-прежнему смотрел в сторону, задумчиво растирая в грубых ладонях упругие листики брусничника.
– Да, Саша… – уронил наконец он и сразу же переменил тон, заорал почти: – Ладно, исповедовать меня в угрозыске будут. Давай шевели копытами!
– Я сейчас, одну минуточку. Только переобуюсь! – Петр Сергеевич стянул с ног ватные чуни, заправленные в шахтерские галоши-«лодочки», и, закусив губу, размотал сбитую в ком портянку. По грязной и тощей голени струйками побежала кровь из потревоженных струпьев.
Фиксатый удивленно засвистел.
– Н-да… На таких колесах далеко не уедешь, – покачал он головой и вдруг бешено накинулся на геолога: – Ты чем думал, гадючий потрох? Не знаешь, что нельзя расчесывать, если мошка жучит? На самолете дальше поедешь?
Петр Сергеевич подавленно молчал.
– Взял фрайера на свою голову, – успокаиваясь, зло искривил золотозубый рот Фиксатый. – Что будем делать теперь? А? Думаешь, я тебя на спине поволоку?
– Да вы не волнуйтесь, Саша…
Прищурясь, стиснув тяжелые кулаки, Фиксатый наклонился над Петром Сергеевичем. Угол искривленного рта его нервно подергивался.
– Ты меня Сашей не покупай, с-сука! Понял? Может, и я ноги скоро не потащу…
– Право же, сам я пойду! Шел же я до сих пор? Что вы?
Вытряхнув на ладонь последние крошки махорки, перемешанные с пылью и мусором, Фиксатый свертывал папироску. Пальцы его вздрагивали, но говорил он уже без истерики:
– Много ты понимаешь, олень! Это начало только. Видел я, что из расчесов получается. Нам с тобой не от лекпома до барака топать, учти!..
Но Петр Сергеевич мужественно обмотал ноги портянками, натянул, морщась от боли, чуни. Вставая, пообещал:
– Как-нибудь дойду…
И он шел, заставляя себя привыкать к боли обнаженных ран, трущихся о задубелые портянки. Он шел и не жаловался, потому что и в этой боли виноваты были «они». Он не мог жаловаться на «них», мог только ненавидеть. И ненависть заглушала боль.
– А ты, видать, мужичок с душком! – одобрительно буркнул вечером Фиксатый. – Духу хватает у тебя, говорю! Я дров приготовлю, а ты иди к речке, ноги обмой да портянки выстирай, у костра им сохнуть недолго. Подорожником бы тебе обложить расчесы, – говорил он после, наблюдая за ухищрениями Петра Сергеевича: геолог старался половчее навернуть вымытую портянку. – Не найти подорожника в тайге, он по торным дорогам растет. А характер у тебя крепкий! Ну, давай глухарятину жрать, да я петли ставить пойду…
Когда он вернулся, оба посидели еще у огня, время от времени перебрасываясь фразами, точно нащупывали дорогу друг к другу: Фиксатый – покровительственно, свысока, а Петр Сергеевич – забыв о гордыне.
Геолог не испытал чувства тревоги, не увидав утром Фиксатого на примятой хвойной подстилке. Боязливо переставляя ноги, спустился к речке. Обмыв гноящиеся расчесы, набрал в котелок воды и навесил его над огнем. Но босяк явился ни с чем, варить было нечего. Петр Сергеевич выплеснул воду в зашипевшее от обиды пламя.
Заглянув в кисет, хотя и знал заведомо о его пустоте, Фиксатый угадал плевком в ствол молодой лиственницы: демонстрировал пренебрежение к голоду, к трудностям предстоящей дороги через бурелом, ко всему на свете.
– Денек на орехах да грибах проживем, – решил он за обоих. – Вечером опять петли поставлю. Может, до хорошего места дойдем, в пихтовой тайге глухарь не ведется.
Петр Сергеевич медлил, страшась обуваться.
– Давай трогать, пахан!
Тяжело вздохнув, геолог потянулся за портянками. Даже легкое прикосновение грубой ткани к кровоточащим ранам вызывало боль. Фиксатый перехватил просящий, жалобный взгляд напарника.
– Ничего не сделаешь, надо идти.
– Кажется, я не могу идти, – еле слышно сказал Петр Сергеевич и уронил голову. – Не могу, Саша… Идите один, я объясню вам, как надо идти…
Он смотрел в умирающий костер, ни о чем не думая, ничего не жалея. Что же, ему нечего было жалеть. Даже пепла не осталось ему от сгоревшей зря жизни…
Фиксатый растерялся. Пожалуй, он даже испугался, Фиксатый. И он заговорил, впервые пытаясь подыскивать простые, общепонятные слова, но не всегда находя их:
– Да ты не чуди, брось! Нельзя тебе оставаться! Хана тебе здесь будет.
И ободрил по-своему:
– Дави понт, батя, вроде, мол, и не больно тебе! Все дело в характере. Вот увидишь, из тебя еще правильный босяк получится…
Петр Сергеевич вздрогнул, гневно повернулся к Фиксатому:
– И получится, можете не смеяться! Из меня теперь… все получится! Все! Че-орт! – Он застонал, но встал на ноги. Встал, упиваясь ненавистью и обидой, клокочущими в душе. Выбили из жизни, смешали с навозом? Тем лучше! Да, станет босяком, вором, убийцей! Он рассчитается этим за свое бессилие, за голод и ноги, изъеденные мошкой. За все!
Прихрамывая, Петр Сергеевич заковылял вперед.
Путь заступила глубокая разложина с говорливым ручьем внизу. Спуск к ручью был очень крут, обрубленный оползнем: косогор осел, подмытый вешней водой. Не задумываясь, словно не видел его, Петр Сергеевич шагнул в провал и покатился по крутизне, увлекая за собой красноватые каменья и комья глины: никакие препятствия не остановят его, нет!
Когда в разложину спустился Фиксатый, геолог стоял у подошвы оползшего косогора и, задрав голову, рассматривал обнажение.
– Постойте… Подождите…
В последнем слове прозвенела сталь приказания. Фиксатый усмехнулся и присел на камень. Перед глазами оказалось все то же обнажение, он без интереса скользнул по нему взглядом.
Глина как глина. Камни самые обыкновенные, только что цветом красноватые. Золота, говорят, в таких местах не найдешь: должен быть песок или камень белый, вроде сахара, с блеском. Как же он называется, такой камень? Да ну его к черту, и золото даже! С ним, рассказывают, возни много, рогами упираться нужно… Чего это задурил старик?
Поднимая время от времени осколок красноватого камня, чтобы выбросить через мгновение и поднять новый, бормоча что-то в не отмытую от кедровой смолы бороду, Петр Сергеевич уходил вверх по ручью. Уходил медленно, то и дело закидывая голову к верхнему обрезу оползня и поэтому спотыкаясь.
– Батя, идти надо! – позвал Фиксатый.
Но геолог не услышал.
– Могло быть, могло быть… – опять донеслось до Фиксатого его бормотание. – Несомненная кора выветривания… охры… совершенно ясно…
Босяку надоело ждать. Размашистыми шагами нагнав геолога, тряхнул за плечо:
– Кончай чудить! Выпуливаться будем отсюда. Поня́л?
– Что? – словно просыпаясь, Петр Сергеевич смотрел на Фиксатого, не видя его. И вдруг брезгливо стряхнул с плеча тяжелую руку вора, глаза загорелись бешенством. – Вот что, вы свой жаргон бросьте. И потом я занят. Вам понятно?..
Это был какой-то другой, новый Петр Сергеевич!
Он даже не поинтересовался, как приняты его слова, – видимо, просто забыл о спутнике. Не оборачиваясь, прошел еще с сотню метров вперед, покопался в земле у границы оползня и, круто повернув, устремился вниз по разложине. Проходя мимо Фиксатого, даже не покосился в его сторону.
– Так! – угрожающе прошипел босяк, играя желваками на скулах. – Ладно!..
Потом, подумав недолго, закричал вслед геологу:
– Слушай, ты, чокнутый! Ждать не буду, учти. А без меня ты загнешься с голоду..
Он пугал, потому что сам боялся. Боялся тайги, в которой был беспомощен без Петра Сергеевича: черт их знает, куда они текут, речки? Как протянуты хребты сопок? Этот малахольный фрайер объяснял, так ведь запомнишь разве?..
А Петр Сергеевич не испугался. Другое чувство заставило его остановиться и подождать Фиксатого. Наверное, он даже не слышал слов, не понял их. Но в словах вора он услышал боязнь черной пустоты одиночества, боязнь, которая стала теперь не властна над ним, над Петром Сергеевичем.
– Простите, Саша! – промолвил он мягко, и опять Фиксатый не узнал голоса спутника. – Конечно, я не оставлю вас одного. Но нам необходимо задержаться. Понимаете, я, кажется, нашел то, что искал здесь несколько лет назад. Правда, не совсем здесь – тогда я не добрался сюда. Понимаете? Не понимает!.. – развел он руками, перехватив насмешливый и злой взгляд Фиксатого.
Петр Сергеевич нагнулся, поднял с земли камень металлического с чернотой цвета.
– Вот видите? Это уже магнетит, руда с очень большим содержанием железа, по-моему. Но я должен увериться… В смысле запасов месторождения, хотя бы ориентировочно…
На языке Фиксатого имелось немало слов, чтобы выразить все, что накипело, покамест он слушал эту чертовщину. Но почему-то он не рискнул употребить эти слова. Он спросил только, не тая насмешки:
– И долго ты колупаться думаешь в этих камушках?
– Ну, этого я не могу сказать. Может быть, я все-таки ошибся, возможно, это отдельные мелкие тела, как говорят горняки.
– Ты не темни, ты говори ясно, – обозлился Фиксатый, – сколько мне тебя ждать? До завтра управишься?
Петр Сергеевич отрицательно покачал головой.
– Нет, конечно! К сожалению, придется потратить не один день.
Фиксатый хрипло, деланно рассмеялся.
– Через несколько дней от тебя только половина костей останется, остальные звери раздербанят. У тебя уже ноги не ходят. На грибах да на ягодах через два дня дубаря врежешь, а на кедру тебе не забраться. Ты что, внатуре чокнутый? Пошли! Ну?
– Сейчас не могу! – твердо сказал Петр Сергеевич, стараясь не думать о том, что стоит за этим бесповоротным словом.
– А я с тобой вместе подыхать не буду. Имей совесть, хоть покажи дорогу…
За разговором они прошли добрую сотню метров по берегу ручья. Петр Сергеевич оглянулся кругом, соображая, в какую сторону следует направить парня. Взгляд его уперся в заплавленный смолой старый затес на пихте. Тогда он опустил глаза вниз и увидал, что оба они стоят на довольно торной тропе.
– Вот вам и дорога, – сказал Петр Сергеевич.
– Опять звериная? – покосился на тропу Фиксатый. Но геолог указал на засмоленную тесину.
– Человеческая. Видимо, старая охотничья тропа. Постойте-ка, что там такое?
Фиксатый повернулся, следуя жесту Петра Сергеевича. Через дремучие пихтачи на берегу ключа, опутанные кустами смородинника, просвечивала крыша какой-то постройки.
– Тсс! – босяк, растопырив пальцы, предостерегающе вскинул руку. – Пригнись, с-сука!..
Только тогда Петр Сергеевич вспомнил, что он беглец.
Они прижались к холодной, сыростью пахнущей земле: вор-рецидивист со многими фамилиями и ученый, празднующий свое великое торжество. Один и тот же звериный страх придавил обоих к влажной глине тропы, заставив тесно-тесно прижаться друг к другу.
По листьям скатывались капли росы. Звук падения каждой капли был громок, как выстрел. Пропала куда-то или перестала кусаться мошка, от которой до этого не мог спасти накомарник. Только одинокий комар гудел где-то над головой так, как воет сирена, возвещая о тревоге.
Наконец Фиксатый осторожно поднял голову.
– Я думаю, там никого нет, – начал было геолог, тронув за руку товарища.
– Не слыхать… – шепотом согласился тот.
– По-моему, это избушка охотников. Я неоднократно встречал здесь такие. В них живут только зимою…
– Проверим! – босяк снова притиснулся к земле и, отталкиваясь локтями, пополз в кусты. А у Петра Сергеевича перехватывало дыхание, когда в стороне, где пропал Фиксатый, с треском ломалась ветка.
Сколько прошло времени?
– Эй, батя! Здесь даже мыши не ведутся! Не дрейфь!
Петр Сергеевич позволил себе вздохнуть полной грудью и медленно поднялся с земли. Как же он мучителен, первый шаг, ммм!..
В избушке и впрямь, пожалуй, не велись даже мыши. Белесая плесень затянула углы. На земляном полу, там, куда через открытую настежь дверь проникал солнечный свет, пыталась прижиться крапива. Видимо, она была очень упрямой, эта спутница запустения. Судя по несмятой, необломанной крапиве, избушку никто не навещал по крайней мере с весны.
На нарах топорщились голые пихтовые сучья – хвоя давно облетела с них, ржавчиной легла на пол. Но поверх охапки дров около железной печурки белела береста, словно тот, кто ушел отсюда последним, прежде всего собирался затопить при возвращении печку.
Фиксатый заглянул под нары, обшарил полочку над окном, загремел обнаруженным там коробком спичек, опрокинул берестяный чумашек с окаменелой солью.
– Не густо! – покачал он головой, метнулся к печке, в темный угол между нею и стенкой и заорал торжествующе: – В цвет угадал, батя! Пофартило!
То, что он бережно извлек из мусора в углу, оказалось недокуренной пожелтевшей от времени самокруткой.
Он потушил ее, послюнив палец, после двух коротких затяжек. Уселся на порожке, с блаженной улыбкой прислонясь к косяку.
– Плыву…
Петр Сергеевич задумчиво смотрел вдаль.
– Тропа отсюда может вести только к жилым местам. До Ангары не должно быть больше двадцати – тридцати километров, пожалуй…
Завернув окурок в трубочку из клочка бересты, Фиксатый встал и сказал жестко и повелительно:
– Хватит чудить, пошли!
Испытанный обоими страх перед другими людьми, не связанными мертвым узлом бегства от закона, давал ему право на это. Но Петр Сергеевич отрицательно качнул головой.
– Нет…
Тогда вор презрительно сплюнул ему под ноги и, отодвинув плечом, вышел. За дверью приостановился, ожидая, что остающийся окликнет, передумав. Не услыхав окрика, молча швырнул Петру Сергеевичу спичечный коробок, найденный в избушке, и нырнул в пихтачи.
Петр Сергеевич остался один.
Подняв оставленные спички, повертел в руках, рассеянно спрятал в карман. Потом, придерживаясь за низкую притолоку, пробрался к нарам. Сел на ломкие, покрытые гусиной кожей давности ветки.
Следовало собраться с силами.
Но сил не было, не с чем было собираться. Потому он ограничился тем, что доковылял до ручья и опустил ноги в ледяную воду. Он даже портянки оставил, снял только чуни с галошами. Когда ноги онемели в холоде, Петр Сергеевич перемотал портянки, не сумев отжать их как следует. Обулся. Встал, опираясь на хлипкую березку, что росла рядом. Наконец оторвался от нее, перебрался по камням через ручей, к обнажению.
Сколько километров прошел он после того по водоразделу? Разве станешь считать их, если на каждом шагу почти – в россыпях под корнями вывернутых ветром деревьев и прямо под ногами, даже не прикрытую мхом, – видел красную, насыщенную железом землю? В глубоких промоинах – руслах недолговечных потоков талой воды – он находил черную щебенку магнетита, покрытую ржавой корочкой.








