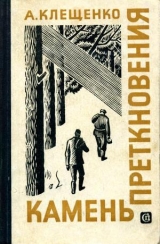
Текст книги "Камень преткновения"
Автор книги: Анатолий Клещенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
13
Волглый от тумана вымпел на кормовом флагштоке катера обвисал бессильными складками. Но Генка прекрасно знал: развернет его ветер, и на красном поле в верхнем углу белого треугольника окажутся четыре буквы – «СССР», а правее – два красных перекрещенных якоря. Вымпел судоходной инспекции. Речной надзор.
Катер пришел либо ночью, либо очень рано утром. Генка не видел когда. Проспал.
Теперь оба судна – «Гидротехник» и катер инспекции – стояли рядом. Кранец из половины автомобильной покрышки не позволял им обдирать друг о друга краску с бортов. «Гидротехник» был выше и длиннее, больше походил на военное судно, и Генка с чувством превосходства посмотрел на его соседа. Из рубки речнадзоровского катера вышел Мыльников и, ухватившись за ограждающий палубу «Гидротехника» леер, перелез с палубы на палубу.
– Дьяконов, ты? – окликнул он Генку, не сразу узнавая в тумане. – Скажешь отцу, чтобы зашел ко мне.
– Есть! – по-флотски ответил Генка и, отпихнув с дороги обиженно взвизгнувшую шкурихинскую Ветку, подвернувшуюся под ноги, отправился выполнять приказание.
Когда Матвей Федорович приковылял к катеру, Мыльников, с сомнением посмотрев на круто опущенный трап, спросил:
– Не влезешь?
– Навряд. – Бакенщик пошевелил протезом, словно собираясь просверлить песок.
– А к ним? – кивком Мыльников показал на второй катер, трап которого лежал довольно полого.
– К ним вздымусь.
– Ну, давай туда. Акт подписать надо.
– Помочь? – спросил Генка отца.
– Ништо. На низкий-то борт не так скатно.
По обшитой железом палубе деревяшка прогрохотала так оглушительно, что кто-то из команды даже выглянул через люк форпика – узнать, в чем дело. Мыльников снова перебрался через леер, и оба – он и Матвей Федорович – скрылись в рубке чужого катера. Генка от нечего делать подозвал Ветку, продолжавшую крутиться на берегу, и, повалив на бок, стал чесать изъеденное мошкой брюхо, искупая нечаянный давешний пинок. Мокрая шерсть на брюхе у Ветки свалялась, от нее густо несло псиной, а вороватый глаз смотрел благодарно и доверчиво.
– Будет, – сказал Генка, убрав руку, но собака, махнув всеми четырьмя лапами, перевалилась на другой бок и, разметая песок, завиляла хвостом.
В рубке катера о чем-то громко разговаривали, но слов разобрать не удавалось, да Генка и не прислушивался. Он думал, удобно или неудобно зайти к «мошкодавам», чтобы увидеть Элю. В том, что он придет к Эле, ничего неудобного теперь не было. Отныне он имел право на это. Только вот не слишком ли еще рано? Утро только начинается.
Поколебавшись, решил, что пойдет: «мошкодавы» уже поднялись, наверное. Удержало любопытство: какие новости принесет отец с катера? Следует дождаться его, а потом идти к «мошкодавам». Увидит Элю на десять минут позже, ну и что из того? Эля никуда не денется теперь. Никуда и никогда не денется Эля, нет такой силы, чтобы могла разъединить их! После вчерашнего!
– Ну, чего там? – спросил он, когда Матвей Федорович, благополучно преодолев трап, стал набивать трубку.
– Как следовает быть. Воткнут старшине за милую душу.
– И правильно сделают, – одобрил Генка. – Следующий раз смотреть станет как положено. В два глаза!
– Я же и говорю, – косясь на Мыльникова, снова полезшего на свой катер, громко забасил Матвей Федорович. – Мог бы на якоре отстояться, ежели в себе не уверенный. А на бакенщиков легче всего валить, будто снесло бакен. Ему снесло, а «Ласточке» не снесло? Несмотря что осадка куда поболе. Вишь, что надзор выдумал: мол, коли катер потерял ход против свального бакена, паузок ниже быдто бы унесло. А выше свального быдто нельзя ошибиться, потому красный бакен один только.
– Верхний красный мог и совсем не увидеть старшина, – сказал Генка. – Просто прошел тот, что в самом колене, и забрал левее.
– Наше счастье, что «Ласточка» акурат в самый момент подскочила…
– Дьяконов! – позвал с катера Мыльников.
Сын и отец повернули головы.
– Между входным и вторым верхними бакенами сегодня же установите еще один красный. И веху. Фотоавтомат лишний у вас есть, батареи возьмите на самоходке.
– А ежели она не придет седни?
– Когда придет, тогда и возьмете. Пока установите бакен без света.
– Может, пока батареи из работанных подберем, Виталий Александрович? Я посмотрю, – сказал Генка и с деловым видом заспешил наверх, к дому. Он не собирался именно теперь подбирать батареи, только воспользовался предлогом для ухода. Обогнув дом, направился к паразитологам. К Эле.
На крыльце лаборатории Сергей Сергеевич делал зарядку. Синий тренировочный костюм подчеркивал его костлявую худобу. Генка, усмехаясь, подумал, что ученый похож на сухую надломленную лесину, раскачиваемую ветром. Недоставало только, чтобы он и скрипел при этом, как скрипит сломанное дерево.
– Доброе утро! – сказал Генка. – Эля встала уже?
Вместо Сергея Сергеевича ответила Вера Николаевна, вышедшая выплеснуть воду из умывального таза:
– Доброе утро, Гена! Сегодня Элю пушкой не добудишься. Впрочем, попытайтесь. Возможно, вам это и удастся. – Голосом, движением глаз и улыбкой она подчеркнула, что у Генки имеются какие-то особые возможности разбудить заспавшуюся девушку. А Генка принял это как должное и естественно, без тени смущения.
– Сама встанет.
Он был уверен, что Эля проснется, услыхав его голос, во сне узнав о его приходе, как, наверное, узнает птица о времени отлета и таянии снегов там, куда собирается улетать. Как узнал бы он сам о приходе Эли.
Сергей Сергеевич, перестав переламываться в пояснице, спросил его совершенно некстати:
– Гена, вы не объясните мне, почему в Ухоронге хариус предпочитает именно красную искусственную мушку? Я почти не встречал здесь насекомых такого цвета…
Генка пожал плечами: совершенно не хотелось думать – почему. Не занимало это сейчас. Вот почему Сергей Сергеевич и Вера Николаевна не спросят, сообщил ли он инспектору, кто погубил лося? А если Эля успела уже рассказать, что сообщил, почему равнодушны к этому сегодня, тогда как вчера чуть не с кулаками на него лезли?
– Сергей Сергеевич, я ведь сказал инспектору… Про Шкурихина. Честное слово!
Ученый, занимавшийся теперь приседанием, застыл на корточках с раскинутыми в стороны руками.
– Так я же ни минуты не сомневался, Гена, что вы это сделаете!
Генке показалось, что Сергей Сергеевич оправдывается, как будто его обвиняли в чем-то. Вот чудак!
– Конечно, никто не сомневался, – подхватила и Вера Николаевна. – Просто не поняли сначала, что вы оригинальничали.
– Я не оригинальничал.
– Ну… говорили несерьезно. Во всяком случае, позже мы все решили, что вы поступите как должно. Как поступил бы любой.
Генка отвернулся и дернул углом рта: товарищи «мошкодавы» считают его разговор с инспектором самым обычным? Вроде разговора Сергея Сергеевича про хариусов и насекомых? Любой!.. Значит, так поступили бы отец или тот же Костя Худоногов? Черта с два!.. Но почему он не подумает, как поступил бы Мыльников? Или Михаил, капитан «Гидротехника»?
Он поступил нормально. По-человечески. Потому что и бате, и Косте Худоногову, и Петьке до всех остальных дела нет. Станет разве Шкурихин заботиться о ком-нибудь постороннем, как Мыльников? Или, как капитан Мишка, ругать Кондрата за тех девок? Нет, конечно. Скажет: моя хата с краю! И верно, его хата с краю. И у бати с Костей – тоже с краю. Забрались подальше от людей, как волки. А он, Генка Дьяконов, собирается с людьми жить. И поступать должен, как все люди, как вот эти москвичи, и Мыльников, и вообще как любой. По-справедливому, а не по-волчьи.
– Знаете, – сказал он в полутьму сеней, где Вера Николаевна стояла около горячего керогаза, – я, верно, не оригинальничал. Я не допер…
– Гена! Что за выражение?
– В общем не разобрался. Конечно, любой должен сказать, если такое дело. Если хочет, чтобы справедливость была.
– И еще страшно быть равнодушным человеком! Страшно и постыдно! – сказал Сергей Сергеевич и пошел мимо Генки в дом. А Генка подумал, что ученый нашел более правильное слово для определения собственных Генкиных мыслей. Потом он услышал Элин голос за дверью, и все до единой мысли выскочили из головы. Дверь распахнулась.
– Генка? – обрадованно удивилась девушка и смешалась, увидев Веру Николаевну. Самую капельку смешалась, потому что следом, моргая жмурящимися после сна глазами, сказала просто, без наигрыша: – Мы с тобой сумасшедшие. Я, например, совсем не выспалась.
– Лягте пораньше сегодня, – посоветовала Вера Николаевна.
Эля взглянула на нее сияющими глазами, движением, головы показав на Генку:
– Так он и даст! Но до чего же хорошо на реке ночью! Вера Николаевна, милая! Словно в сказочном царстве!
– Конечно, – согласилась та и почему-то вздохнула. – Умывайтесь, Эля, уже время завтракать.
– Сейчас! – Девушка улыбнулась Генке и вдруг закричала с притворным гневом: – Ну-ка, убирайся отсюда, не мешай!
– Ладно, – сказал он, – уберусь. Вечером приду, ага?
– Очень ты нужен здесь!
– Нужен! – дерзко заявил Генка.
– Ты уверен? Тогда приходи через час, так и быть. Кажется, сегодня мы дома. Правда, Вера Николаевна?
– По-видимому! Михаил Венедиктович решил отказаться от таежных участков. По ним накоплен достаточный материал.
Долгим оказался этот час. Генка успел позавтракать. Отобрать три батареи для нового бакена, перепробовав добрый десяток. Пособить отцу в установке фонаря и автомата-выключателя на бакене, погрузить бакен и «щуку» – плотик бакена – в лодку.
– Петьку-то где черт носит? – сердито спросил у сына Матвей Федорович.
– Кондрат его на катер позвал.
– Пошто? Не знаешь?
Генка пожал плечами: не хотелось заводить с отцом неприятный разговор.
– Придет Петька – сплаваете, поставите бакен, – пытаясь подражать Мыльникову, приказал Матвей Федорович. – Между первым и вторым. На половине. Половину сметете угадать? Хитрости нету – посередке поставить.
Отец направился домой. Генка дождался, покамест он свернет за угол, к крыльцу, чтобы тоже уйти – к Эле. Бакен не обязательно сию же минуту ставить, день долог!
Он уже поднимался на косогор, когда над второй тропкой – от домика, занятого москвичами, – показалась Эля. Генка не стал спускаться вниз до того места, где сходились обе тропинки, а начал махать прямиком, норовя ставить подошвы сапог ребром, чтобы не скользили по крутому склону.
– Ты не занят? – спросила Эля.
Он покачал головой: нет.
– Тогда знаешь что? Давай пойдем!
– Куда?
– Ой, да разве не все равно? Вот, прямо по берегу. К тому мысу, – она покосилась на катера, мимо которых следовало пройти, и, тряхнув волосами, перевела взгляд на Генку.
– Что еще за катер? Тоже ваш?
– Речной надзор. – Расследовали, отчего получилась авария.
– Нашли причину? – без интереса спросила Эля.
– Причина ясная – рулевой плохо смотрел. Старшине катера крепенько дадут прикурить, пожалуй. Ну, а нам добавочный бакен поставить Мыльников приказал.
Эля, полуобернувшись, бросила еще один взгляд на катер – прощальный.
Сразу же за ключом, как только густо разросшийся на его берегах тальник скрыл их от любопытных глаз, если таковые и следили за ними, Эля, замедлив шаги, прижалась к Генкиному плечу. Уверенная, что он не даст оступиться, запрокинула голову, глядя в небо, и чуть-чуть отвернулась, уклоняясь от его губ.
– Потом, ладно? Слушай лучше, как поет река.
Генка покорно притворился слушающим, а Эля, помолчав, бросила на него быстрый взгляд и рассмеялась.
– Знаешь, я столько хотела сказать тебе, – ужас! Ну, всякого, про нас обоих. А теперь не знаю, о чем говорить!.. Понимаешь?
– Понимаю, – сказал Генка, в самом деле понимая состояние девушки. Он тоже собирался очень многое сказать и не находил нужных слов. А если бы нашел, их все равно не хватило бы: куцыми и фальшивыми становятся иногда самые расчудесные слова.
Прижимаясь друг к другу, чувствуя тепло друг друга и радуясь этому теплу, оба не видели дороги под ногами, не замечали камней и колдобин на ней. Они шли, теплом своих тел, и заботой бережных рук, и молчанием, говорящим о бесконечно многом – как музыка, рассказывая друг другу все то, что намеревались рассказать. Пожалуй, слова даже мешали бы!
Шли почти возле самой воды, не устающей перекатывать на новые места отмытые добела песчинки. На отмели, переходящей в довольно крутой скат берега, щетинился дикий лук, все еще не желающий отцветать. Его шарообразные сиреневые цветы, неяркие и некрасивые, казались наколотыми на острые лезвия стеблей. Бабочки-поденки, тоже некрасивые, тоже неяркие, изредка опускались на них и тотчас взлетали, часто, испуганно махая крыльями. Склон берега был вовсе голый, растрескавшийся, изрытый черными норами ласточкиных гнезд. А на реке, среди неопрятных, похожих на плесень или накипь, скользких трав, по заблудившимся бревнам расхаживали вороны, охотящиеся за дохлой рыбой. И тем не менее Эля сказала, блестя глазами:
– Посмотри, до чего же здесь хорошо! Правда?
– Здесь плохо. Дальше, где скалы начинаются, там – да!
– Не ври, везде хорошо! Ой, Генка! Какая там рыба плеснула! Ты видел?
Генка видел только одну Элю.
– Вон там, за травой… Наверное, таймень, да?
– Чего ему здесь делать, у берега? Щука.
– Тогда огромная! – восторженно согласилась Эля.
Там, куда показала девушка, метрах в трех от берега, снова колыхнулась вода. И еще раз.
– Видел теперь?
– Видел. Ну-ка пойдем.
Они не пошли, а побежали, взявшись за руки. У воды Генка остановился первым и, удержав Элю, рывком притянул к себе. Показал на следы резиновых сапог на песке.
– Петька Шкурихин. Осетра поймал.
– Где? – удивилась Эля, отыскивая глазами лодку и рыбака.
– Так это же осетр бултыхался. Петька его на кукан посадил. Чтобы живой был.
– Давай отпустим?
– Ну его, – отмахнулся Генка. – Айда к скалам!
Оба сразу же забыли о пойманном осетре, о Шкурихине. Главным и единственно интересным в мире были они сами. Смешно, странно было бы думать или говорить о чем-то другом, далеком и незначительном. Думали и говорили о себе, вспоминая Ухоронгу, начало любви, смеясь над тогдашней своей робостью, мешавшей сказать друг другу то, что так легко, просто и радостно выговаривалось теперь. Признавались в смешных взаимных обидах, совсем недавно казавшихся горькими. И чуть не забыли, что пора возвращаться, что у обоих есть дела, обязанности. Очень не хотелось возвращаться, но Эля набралась решимости.
– Хорошенькое дело – ушла на полчасика! Ничего себе полчасика! И все ты виноват! До чего же ты вредный, Генка! Тебе не стыдно?
Нет, он не собирался стыдиться. На душе было удивительно безмятежно, чисто и солнечно, словно весной в молодом березняке, где одетые клейкой листвой деревца не застят света, а травы, еще не начинавшие лохматиться, кажутся умытыми и причесанными по-праздничному.
Скалы остались у них за спиной, когда впереди, на голой отмели бечевника, показался идущий навстречу человек. Генка поморщился.
– Петька – видать, за осетром.
– Подождем, пока он уйдет? – спросила Эля, понимая, что Генке неприятна встреча.
– Зачем?
Конечно, встреча была неприятной. Конечно, лучше бы не встречаться с Петькой теперь. Но уклоняться от встречи он не желает. И знает, что следует сказать в ответ на Петькины обвинения!
Но Петька не стал обвинять. Насмешливо ухмыльнувшись, скользнул цыганскими глазами по фигуре Эли, подмигнул Генке. Как-то особенно подмигнул, словно это относилось не к тому, что застал Генку вдвоем с девушкой. И усмешка, пожалуй, была особенной, но невеселой.
– Такие дела, связчик. – Шкурихин помотал головой, швырнул на песок принесенный топор и достал папиросы. – Уезжаю от вас. Амба. Сейчас в леспромхоз поплыву, корову у меня там торговали. В общем базарю все лишнее. Выгнал меня Мыльников: дознались, суки, что сохатый в мою петлю попал. Плевать! Подамся на Ману.
Генка догадался, что инспектор не рассказал Петру, как узналась правда. Покосился на брошенный Петром топор – принес, чтобы осетра зарубить, живого не повезешь продавать! – и, щуря глаза, подбираясь в случае чего ответить на удар ударом, сказал:
– Про петлю – это я. Из-за справедливости.
И опять Шкурихин повел себя вовсе не так, как ожидалось. Не ударил, даже не выматерился.
– Черт с вами со всеми. Надоело уже здесь.
Генка растерялся от неожиданности. Готовился если не к драке, так к ругани и оскорблениям, и вдруг…
– А в общем ты молодец, конечно! – сказал Петр. – Я тебя, подлюгу, из тюрьмы за уши вытянул, а ты… Ладно! Я, брат, не пропаду нигде. Шкурихин с людьми жить может…
– Что зверей бил тоже, так я не отпираюсь. Даже не думаю отпираться. За это в тюрьму не посадят, можешь хоть сейчас инспектору рассказать.
– А катер с паузком? – щурясь, спросил Петр.
– Что катер с паузком?
– Ничего, – ухмыльнулся Петр и, раскатав голенища сапог, поднял топор, шагнул в воду. Не оборачиваясь, через плечо бросил: – За это, брат, по головке не погладят. Это тебе не сохатый. Не пять сотен штрафа.
– Ты меня не заводи, – обозлился Генка. – Знаешь ведь, что я ни при чем.
Тогда Шкурихин повернулся, громко пробурлив в воде сапогом.
– А кто должен был за «маткою» обстановку проверять? И закрывать фарватер, покуль бакена нет на месте?
– Следом за «маткой» я в шиверу не плавал, это верно. А фарватер закрывать ни к чему было. Бакены правильно стояли, ни одного «матка» не утащила. Мы с батей к паузку плавали, и «Ласточка» вниз пробежала.
– Когда? После того как Петр Шкурихин верхний бакен назад притянул. Вот вы когда плавали…
– Врешь! – сжимая кулаки и чувствуя, что сердце тоже сжимается, крикнул Генка.
Шкурихин сплюнул в его сторону изжеванным окурком, презрительно повернул спину. Нашарив топорищем кукан, потащил к берегу показавшую спину громадную рыбину. Намотавшаяся на кукан трава соскользнула к узкому рылу осетра, вытянулась длинными, разлохмаченными усами. Когда могучая рыба, до половины вытащенная на плоский берег, была убита, Генка спросил с робкой надеждой:
– Врешь ведь?
– Иди… знаешь куда?
– Врешь! Как собака брешешь! – с вызовом отчаяния закричал Генка, пытаясь вывести Петра из себя: пусть проговорится в горячке, что врет, мстит за свое увольнение, за пятьсот рублей штрафа. Пускай взъерепенится, шарахнет матом и выдумает что-нибудь другое, оскорбит.
Шкурихин даже не обернулся.
– Ладно, пусть брешет! Пойдем, Эля! – позвал Генка девушку, растерянно смотревшую на Петра.
С полкилометра они прошли, не обмолвившись ни одним словом. Потом Генка оглянулся и выругался:
– Гад!
– Врет, конечно! – сказала Эля, но Генка ей не поверил. Потому что ее глаза спрашивали: врет или не врет? Потому что ее руки, беспокойно перебиравшие распахнутый ворот блузки, спрашивали о том же. Спрашивали у него, у Генки.
– Врет, – незнакомым, глухим голосом ответил он на вопрос ее рук и глаз. И стал вспоминать, что и как происходило в то утро.
Уходящая в туман «матка». Слепящая глаза снежная равнина, похоронившая под собой голубой и зеленый мир воды и тайги. Элины губы. И тревожные свистки терпящего бедствие судна внизу, где глухо ворчит невидимая в тумане шивера. Они с Элей бегут к посту. Потом останавливаются. «Слышишь, – говорит он, – отец с Петькой уже в шивере. Нашу моторку я узнаю́ по звуку…»
– Чепуха все это, Эля! Петька, точно, был в шивере, на переметы плавал. Ну и знает, ясное дело, что я не проверял обстановку после того, как «матка» прошла. Теперь пользуется случаем. Стал бы он утащенный бакен на место ставить, куда там!
– Конечно, – сказала Эля. – Разве бы он стал?
– Наоборот бы – это он мог. Чтобы подвести меня под монастырь. Верно?
– Конечно, – согласилась Эля.
– Думал дурачка найти, попугать.
– Конечно, попугать думал, – сказала Эля. – Ведь комиссия же установила, кто виноват.
– Установила…
Генка вздохнул и, поймав зубами нижнюю губу, сжал челюсти. Что она установила, комиссия? Ничего она не установила! Насчет того, что катер винт обломал выше свального бакена, так это как раз никем не установлено. Просто предположение. А потом почему катер не мог действительно соскочить с фарватера в самом начале шиверы? Вовсе не заметил верхнего бакена и взял влево. Бакен от бакена все же далековато, не зря Мыльников еще один ставить велит…
Он увидел себя в рубке катера, у штурвала. Прошли колено, остался за кормой бакен на повороте, и свальный бакен за ним… Черт! Он, Генка, стал бы уваливаться направо, к белому бакену, даже не видя его. Чтобы свальным течением не отшибло в шиверу расчаленный на длинном буксире паузок. Но ведь если бы катер налетел на камни за белым бакеном, паузок действительно вынесло бы на плесо.
– Вообще-то, – сказал он Эле, – старшина мог и хвативши стать к штурвалу. Выпить они все не любят. Вроде тех завербованных, помнишь?
– Конечно!
Генка покосился на девушку – затвердила одно и то же: «конечно» да «конечно». Не понимает ничего, а говорит. На выходе из шиверы никакой самый пьяный рулевой не станет забирать влево, в самые буруны, если даже красного бакена нет на месте. Например, если верхний бакен уволокло «маткой»…
Он испуганно посмотрел на Элю – вдруг она угадала следующую его мысль? Вдруг ей подумалось то же самое: что верхний бакен – самоотводящийся и «матка» не смогла его уволочь за собой? Могла только сорвать с главного сторожка, а свальным течением бакен откинуло бы на длину страхового троса в шиверу? На тридцать метров левее фарватера. И если бы рулевой держал на бакен, то…
– «Ласточка» же прошла после аварии, и – ничего… – начал было он и опять с тревогой взглянул на девушку. Но та не сказала своего «конечно». И Генка понял: не сказала, потому что Петр Шкурихин утверждал, будто именно верхний красный бакен, именно самоотводящийся, который чаще всего задевают «матки», и именно перед проходом «Ласточки» он затащил на место! Эля не забыла этого. И он, Генка, тоже не забыл, но хотел забыть…
Сзади заскрипела под тяжелыми шагами галька. Петр Шкурихин, согнувшись почти под прямым углом, тащил на спине обернутого мешковиной осетра. Тонкий длинноперый хвост рыбы бил его по ногам.
– Петро, ты… – нерешительно окликнул Генка, прибавляя шаг, чтобы не отстать от Шкурихина. – Ты прости, слышишь? Я же не знал, что ты… выручил меня… А, Петро?
– Плевал я – тебя выручать, – презрительно бросил Петр. – Не люблю лишних разговоров с начальством. Понял? И ты лучше заткнись.
– Простишь?
– Иди ты…
И Генка послушно стал отставать, словно не Петр, а он тащил на спине тяжесть.








