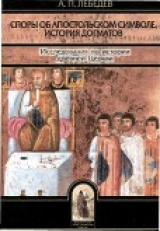
Текст книги "Споры об Апостольском символе"
Автор книги: Алексей Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
2) Развитие теологической науки и христианского вероучения.
Апологеты. — «В стремлениях апологетов познакомить образованный мир с христианством находят себе объяснение попытки этих греческих церковных мужей представить христианскую религию как философию и показать ее для иноверцев как высшую мудрость и абсолютную истину. Эти попытки, не как попытки гностиков, были благосклонно приняты христианским обществом и впоследствии сделались основоположением церковной догматики. Гностические спекуляции были осуждены, а апологетические, напротив, санкционированы. Тот вид, в каком апологеты изобразили христианство, в качестве философии, нашел себе признание. Почему апологеты имели такой успех, несмотря на то, что они, как и гностики, в своих произведениях ставили в связь церковное христианство с греческой философией? Ответ на вопрос может казаться парадоксальным, предваряет читателя Гарнак. Тезисы апологетов не встретили никаких сомнений в церковных кругах и привлекли к себе внимание грекоримского мира, потому что они сделали христианство рациональным, не затрагивая исторического Предания христианства и ничего не прибавляя к нему. В этом лежит глубокое различие между христианскими философами, как Иустин, и христианскими же философами, как гностик Валентин. Гностики отыскивали религию, а апологеты, хотя они и не сознавали этого ясно, искали уверенности для морального миросозерцания, какое у них уже было. Делая свое дело, те и другие сталкивались с комплексом христианского Предания, которое хотя для них было и чуждо, но многое в нем и привлекало их. Гностики старались о том, чтобы сделать удобопонятным этот комплекс Предания, а для апологетов было достаточно и того, что в этом комплексе заключается Откровение, что это Откровение несомнительно свидетельствует о едином духовном Боге, о добродетели и бессмертии, и что оно (это Откровение) имеет силу привлекать к себе людей и приводить к добродетельной жизни. Рассматриваемые внешним образом, апологеты, без сомнения, были консервативны, а такими они были потому, что они едва–едва касались содержания церковного Предания; а, напротив, гностики старались понять то, что они читали в Предании, и благовестие, о котором они слышали, хотели обосновать» (S. 372–373, 375). Вот задачи апологетов по Гарнаку. Объяснения свои он называет «парадоксальными», и едва ли кто не согласится с ним. О развитии христианского учения апологетами, после сейчас сказанного, у Гарнака, понятно, и речи не может быть.
Ириней, Тертуллиан и Ипполит. — Значение их в рассматриваемой области немецкий ученый описывает так: «Гностицизм и маркионитская Церковь заставили великую Церковь сделать выборку из Предания и избранное предложить христианам в качестве апостольского закона. Сюда относятся: крещальный Символ и канон Нового Завета. Но этого по нуждам времени было недостаточно. Нужно было разъяснить христианское учение. И это разъяснение заимствовало свою материю из св. книг обоих Заветов; но здесь же уже чувствуется влияние философской теологии, какой она является у апологетов, с другой стороны – в это толкование внесены древнехристианские надежды (эсхатология), как их понимали энтузиастические предшественники Иринея, с явным намерением защищать это предание. Не без влияния в этом случае оставались спекуляции гностиков: они нашли прием у всех мыслящих христиан. Теологические труды, возникшие при подобных условиях, носили в высшей степени своеобразный и сложный характер. Древнекафолические отцы: Ириней, Ипполит и Тертуллиан – были проникнуты убеждением, что в своих сочинениях они излагают самую общепризнанную церковную веру и ничего более. Но между тем это было не так. Канонизация книг Нового Завета разом дала великое множество познаний, которые следовало обработать в качестве догматов и соединить в одно с верой, какой жила Церковь до этого времени. Объем веры разрастался до необъятности, а между тем Предание, а также полемика заставляли не слишком идти вширь и довольствоваться краткими формулами. Это колебание между краткостью догматических формул и безграничной полнотой данного каноном содержания составляет одну из характеристических черт названных древнекафолических отцев. Эти отцы не заметили значительной перемены в положении вещей. Период энтузиазма в христианстве прошел, т. е. прошло то время, когда в раскрытии учения учители христианства могли в доказательство верности своих слов ссылаться на принадлежащие им дары Духа: пророчество, видение, «познание». Теперь необходимо было обращаться к таким инстанциям, как Предание, как разум. Но этого данные отцы не заметили и не думали о том, как согласовать требования рациональной теологии (разума) с Преданием. Твердо они знали одно: нужно беречься от гностической науки, от философско–теологических формул. Но эта предосторожность в действительности была тщетной. Как ни берегся Ириней от спекуляций, он наивным образом рядом с утвердившимися положениями веры дает место и спекуляциям, которые формально не разнятся от спекуляций апологетов или, что то же, гностиков. Рассматриваемые отцы, во всяком случае, не создали теологии в точном смысле этого слова. Для них теология есть объясненная вера, но это не так (см. ниже об Александрийской школе). Результатом догматической мысли рассматриваемых отцев было простое сплетение положений веры, которому недоставало строгого стиля, определенного принципа и твердой объединяющей цели. Такого рода форма вероучения особенно ясна у Тертуллиана. Тертуллиан был еще совсем неспособен свою рациональную теологию, развиваемую им в качестве апологета, внутренне соединить с христологическими положениями regulai fidei, которые он взял и защищал против ереси на основании Писания и Предания. Если он когда–либо пытается обосновать внутреннюю необходимость указанных положений веры, то он редко идет дальше риторического распространения и священных парадоксов (?). Он не был систематическим мыслителем, а был космологом, моралистом и виртуозом – адвокатом Предания, а потому его теологии, если этим именем можно называть его теологическое многословие, недостает единства; это – смешение разноречивых и нередко противоречивых положений; здесь нет ничего похожего на более древнюю теологию Валентина и на позднейшую теологию Оригена. У Тертуллиана все идет врозь; проблемы как быстро возникали, так же быстро и решались. Внутренних принципов и целей почти напрасно мы стали бы искать. Большое сочинение Иринея в этом отношении много превосходит теологическое писательство Тертуллиана. Впрочем, и Иринею отнюдь не удалось подвести материи, даваемые Св. Писанием и правилом веры, под основную его точку зрения об искуплении; кроме того, его архаические эсхатологические подробности не вяжутся между собой, и очень многое, например, мысли и формулы ап. Павла, у него совершенно потеряли свой характер. Его спекуляции в некоторых отношениях близко родственны с гностическими. В его теологических объяснениях вообще проглядывают очень разнообразные элементы: древнейшие христианские мотивы и упования, буква двух Заветов, морально–философский элемент (наследие апологетов), реальномистический элемент. Такой эклектический метод появился у великого учителя случайно, он результат «счастливой слепоты», которая не давала ему видеть пропасти, какая образовалась между христианским Преданием и тем кругом идей, в котором стали жить теперь. Во всяком случае, Ириней в этом методе предуказал метод будущей христианской теологии. Тертуллиан и Ипполит писали под влиянием Иринея. Оба они усвоили от него первохристианско–эсхатологические и рационалистические элементы, которые впоследствии на Западе слились в одно целое, но только Тертуллиан занял у Иринея очень немногое, а Ипполит и совсем остался позади Иринея. Ближайшее полезное последствие трудов Иринея, Тертуллиана и Ипполита заключается в сохранении преданного от древности и в рациональной обработке некоторых догматов, которые постепенно возникали в христианстве. Главным образом Ириней образовал ряд теологических схем, имевших большое значение в будущем. Быстрое эллинизирование евангельского учения, имевшее место в гностических системах, было предотвращено Иринеем и его последователями, потому что они большую часть древнехристианского Предания – или гіо букве, или по духу – сохранили и спасли для будущего. Но это сохранение куплено ценой принятия целого ряда гностических схем: медленно вступали они в круг воззрений своих врагов, но неминуемо должны были войти в этот круг, потому что все больше и больше уклонялись от первохристианской настроенности и мыслей и переходили все более и более к другому образу воззрений. Они сберегли большую часть древнего Предания для будущего христианства, но при этом содействовали постепенной эллинизации христианства» (S. 422–429, 435–437).
Климент и Ориген (Александрийская школа). — Чего не сделали Ириней и его преемники, то сделали Климент и Ориген: создали христианскую догматику. «Гносис, т. е. греческая религиозная философия, для Климента была не только средством бороться с язычеством и ересью, но он служил ему и средством раскрыть и доказать возвышенность и внутренние свойства христианства. Климент подчинил себя авторитету церковного Предания, но духовно прилепился к нему только после научно–философской обработки его. Его большой труд («Строматы») есть первая попытка – и по правде сказать, самое смелое литературное предприятие в истории Церкви – изобразить христианство как на основании Св. Писания и церковного Предания, так и на основании предположения, что Христос, как мировой Разум, есть источник всякой истины. Попытка эта удовлетворяла научным требованиям относительно философской этики и философского мировоззрения – недаром она назначалась для людей образованных, – и при этом давала богатое раскрытие содержания веры для простых верующих. По форме и содержанию здесь дано научное, христианское религиозное учение, которое не противоречит вере, которое не только в некоторых случаях подкрепляет и объясняет веру, но и возвышает веру в другую высшую духовную сферу, а именно – оно переносит веру из области авторитета и подчинения в область чистого знания и духовной внутренней настроенности, вытекающей из любви к Богу. Влияние гностицизма, в особенности Валентина, сильно отразилось на Клименте. Это влияние видно в понимании Климентом своей задачи (представить христианство как теологию), в определении формального принципа и в способе разрешения проблем. Но Климент много выше Валентина, в особенности потому, что он всю полноту проблем подвел под единство принципа. Значение Климента выражается в следующем: у Климента боговедение (Gottesgelehrsamkeit) сделалось высшей степенью благочестия, высшая философия греков поставлена под защиту и охранение Церкви, и при этом вся культурная жизнь греков нашла санкцию в сфере христианства. Логос есть Христос, но Логос при этом есть все нравственное и разумное на всех степенях развития человечества. При суждении о миросозерцании Климента нельзя не признавать, что церковное Предание занимает у него низшее место в сравнении с эллинской религиозной философией. Климент подготовил почву для создания христианской теологии, но не создал ее. Это сделал Ориген, который, опираясь на труды Климента, был способен дать систематическую обработку кафолического Предания. Между теологами христианской древности Ориген вместе с Августином занимают самое значительное и самое влиятельное положение. Ориген – отец науки в широком смысле слова, и при этом еще основатель той теологии, которая достигла завершения в IV и V вв. и которая в VI в. отвергла виновника ее, не потеряв, однако же, той печати, какую Ориген наложил на нее. Он создал церковную догматику и положил основу для науки об источниках иудейской и христианской религии. Он провозгласил примирение науки с христианской верой, высшей культуры – с евангельским учением на почве Церкви, и больше всех содействовал тому, что древний мир был приобретен для Церкви. Он держался методов, господствовавших в школах Валентина и неоплатоников. История догматов и церковная история за последующие века на Востоке есть просто история философии Оригена. Ариане и православные, критики и мистики, духовенство и монашество – все ссылались на Оригена и не оставляли этого авторитета. Ориген создал систему, которая примирила церковную веру с греческой философией (S. 505–510, 512–515, 555).
Ни в чем так ярко не проявляется эллинизация учения Церкви II и III вв., как в учении о Логосе. В христианских обществах около середины II в. существовало рядом два воззрения на лицо Христа: адоптианское, по которому Христос считался человеком, в коем (временно) обитало Божество или дух Бога, и пневматическое, по которому Иисус почитался (особым) небесным Духом, принявшим на Себя тело. Это последнее воззрение было принято апологетами. Но в течение II в. ни то, ни другое воззрение не возобладало в Церкви, так как оба они находили основание в Евангелиях: первое у синоптиков, второе – у Иоанна. Во всяком случае, второе, как нашедшее прием у апологетов, больше отвечало духу времени: хотели признавать Христа особым божественным существом. Вскоре с этим пониманием личности Христа слилось греко–философское представление о Логосе. Произошла даже замена одного понятия другим. И такая замена понятием Логоса неопределенного понятия о небесном Духе была очень выгодна для христианской теологии. Через определение небесного Духа во Христе, как именно Логоса, уяснено и утверждено понятие об этом Духе, как высочайшем и единственном в своем роде. Теологи, допустившие такую подмену, не боялись того, что они таким способом готовят опасность монотеизму, ибо понятие Логоса заключало в себе слишком широкое содержание. Но развитие этого учения встретило сильную оппозицию в так называемых монархианах. Монархиане стремились защищать то представление о Христе, какое находилось у синоптиков (против Евангелия от Иоанна) и хотели ратовать против слишком большого влияния философии Платона на вероучение. Но протест монархиан был бесплоден. Логология водворилась в Церкви. Победа логологии в Церкви есть победа неоплатонизма над другими философиями в области христианской теологии. А это нужно считать счастливым событием для Церкви. Неоплатонизм в III в. возобладал над всеми другими философскими системами; и если христианская Церковь заключила исключительный союз с ним, то она поступила как должно. Благодаря неоплатонизму христианство стало мировой религией. А если бы одержала победу теология монархиан, то возникла бы пропасть между Церковью и эллинизмом» (S. 560–564, 578).
Таково «построение» истории Церкви первых трех веков у Гарнака.
Гарнак в конце рассматриваемого тома не резюмирует своих выводов и положений, и таким образом лишает читателя возможности проверить себя – все ли понято им (читателем) так, как должен был желать того автор.
AUDIATUR ЕТ ALTERA PARS
Намереваясь сделать разбор исторической теории Гарнака, как она выразилась в первом томе его труда, мы желаем, чтобы наш разбор был доступен и понятен для каждого, а потому у нас не будет дано места для скрупулезной и буквалистической критики. Мы не станем разбирать частных мыслей и частных положений автора, потому что если бы мы взяли на себя эту задачу, то труд наш усложнился бы, а результат был бы самый неблагодарный. Как ни усердно стали бы мы разбирать книгу Гарнака, мы разобрали бы лишь меньшую часть содержащегося в ней (может быть, двадцатую или меньшую часть книги), и потому нисколько бы не достигли цели, не произнесли бы убедительного суждения, так как ббльшая часть содержания книги осталась бы не затронута критикой. Для фактической критики всей книги Гарнака нужно было бы написать не один том. С автором пришлось бы сражаться, вооружившись как элементарными, так и специальными сведениями из нескольких богословских наук: Св. Писания в широком смысле слова, патристики, канонического права, догматики и собственно церковной истории. Но подобная задача не может найти для себя охотника.
Освобождая себя от мелочного, фактического и текстуального разбора труда Гарнака, мы рассмотрим его сочинение с более общих точек зрения и преимущественно с точки зрения того метода, которому следовал немецкий историк при уяснении хода истории древнейшей Церкви. Цель критики, как нам кажется, будет достигнута, но путем кратчайшим. Конечно, и нам не избежать того, чтобы не разобрать этот или тот мелкий факт, частную мысль в книге. Но это будет делом попутным.
Гарнак начинает свою книгу с изображения учения Господа Иисуса Христа. Но учение Христа представляется в его книге в высшей степени бедным. Мы, однако же, должны сказать, что Гарнак недалек от мысли, что у Основателя христианства совсем не было никакого учения. Очерк учения Иисуса Христа, как представляется это учение Гарнаку, мы составили при изложении содержания книги этого ученого на основании текста книги. Но в примечаниях к этому тексту Гарнак сомневается в достоверности и подлинности даже тех воззрений Христа, которые приписаны Ему в тексте. Так, немецкий ученый сомневается: объявлял ли Иисус Христос Себя Мессией, находя, что эта часть евангельского Предания еще требует строжайшей критики (S. 49). Гарнак, далее, не уверен, что Иисус Христос учил о Своем втором пришествии – даже в той простой форме, как излагает это учение сам он, немецкий ученый. «Что говорил по эсхатологическому вопросу Христос, и что сказано не Христом, а произошло от Его учеников – об этом никто ничего не может сказать», – замечает немецкий историк (S. 51). Христос, как поучает Гарнак в примечаниях, не дал никаких установлений, которые бы служили отличительной чертой общества христиан. Что Христос не устанавливал таинства крещения – это ясно и прямо утверждается Гарнаком (S. 56); а что касается таинства причащения, то установил ли это таинство Христос – этот ученый не говорит ни да, ни нет (склоняясь на нет), под тем предлогом, что значение слов Христа о Теле и Крови «трудно уяснить» (S. 51). Но что же следует из сейчас нами приведенных фактов? А следует то, что Гарнак совсем упразднил личность Основателя христианства; а отсюда, в свою очередь, следует, что Гарнак пишет свою историю, не имея исходной точки, или точнее: исходной точкой его служит пустое пространство. Но вот вопрос: имеет ли право Гарнак взять исходной точкой пустое пространство? Нет, не имеет, по крайней мере мы уверены, что не имеет. Почему он не воспользовался Евангелиями для изображения Иисуса Христа? На это у него есть свои причины, но эти причины частью неосновательны, но понятны, а частью и неосновательны, и непонятны. Евангелия синоптиков он не признает подлинными. О Евангелиях от Матфея и Марка он утверждает, что они в Церкви долго считались не апостольскими произведениями, и только около середины II в. их стали считать произведениями вышеуказанных апостолов (S. 273). Евангелию от Луки он также отказывает в подлинности, так как оно с именем Луки неизвестно было даже Маркиону (середина II в.), а получило будто бы это имя позднее (S. 179). Такие рассуждения, положим, совершенно не основательны, но мы, по крайней мере, понимаем, почему Гарнак не воспользовался синоптиками при изложении проповеди Христа. Гарнак – сын своей ультрапротестантской среды, где так именно смотрят на исторический характер синоптиков; и мы можем искренне желать, чтобы он не следовал рабски за другими, но не можем этого требовать. Другого рода вопрос: почему Гарнак не пользуется как источником Евангелием от Иоанна? Отвергает ли он подлинность и этого памятника, как отвергает синоптиков? Не отвергает и не признает. Он говорит только: «Возникновение Иоанновых писаний, будучи рассматриваемо с литературной и догматико–исторической стороны, составляет мудрейшую загадку, какую задает древнейшая история христианства» (S. 66). Итак, Гарнак не знает, какой точки зрения держаться на происхождение Евангелия от Иоанна. Но что же из того, что он не знает этого? Следует ли из того, что Евангелие от Иоанна, по своему происхождению, есть «мудрейшая загадка», – следует ли отсюда, что этим Евангелием историк может и совсем не пользоваться при изложении учения Иисуса Христа? Гарнак так именно и думает. Он совсем оставляет в стороне Евангелие от Иоанна, как будто его и на свете не существует. Едва ли нужно доказывать, как мало основательности в таком поступке ученого историка. Поступать так, значит не знать самых элементарных требований науки. Если автор не понимает, как разрешить «мудренейшую загадку» относительно Евангелия от Иоанна, то ему сначала нужно было додуматься до какого–либо решения, а потом уже писать историю христианского развития первых веков. Теперь для нас ясно, почему учение Иисуса Христа (даже в тексте книги Гарнака) так бледно представлено. При изложении учения Христа не принято во внимание свидетельство главнейшего свидетеля о проповеди Христа – свидетельство Евангелия от Иоанна, и не принято по причинам совершенно непонятным.
Круг истин, в каком жило «первое поколение учеников Христа», т. е. Его апостолов, Его непосредственных учеников и апостольских последователей, выходит у Гарнака тоже непомерно скудным. Несколько очень простых истин, почти не новых – вот благовестие, в которое веровало и которым движилось «первое поколение» верующих в Иисуса. Неужели Гарнак и в самом деле, с его точки зрения, не мог отыскать таких памятников, которые бы свидетельствовали о более широком круге верований первенствующих последователей Христа? Трудно было ему найти такие памятники, но во всякому случае он мог бы отыскать их, если бы захотел. Как трудно ему было отыскать такие памятники, можно судить по той проскрипции, какой он одним взмахом пера (у Гарнака доказательств не ищите) подвергает большую часть канонических писаний, касающихся истории и учения апостольского века: книга Деяний св. апостолов неподлинна (но на какой странице и в каких выражениях говорит об этом автор – не припомню); соборное послание Иакова, в первоначальном своем виде, есть проповедь какого–то первохристианского энтузиастического пророка, а потом уже в Предании оно получило имя Иакова, следовательно, оно неподлинно; первое соборное послание Петра первоначально было письмом неизвестного павлиниста (последователя ап. Павла), а потом в Предании получило имя ап. Петра, следовательно, неподлинно; второе послание Петра очень позднее произведение, явилось в свет после середины II в.; послания Иоанновы представляют, по своему происхождению, «мудренейшую загадку»; соборное послание Иуды, по всей вероятности, первоначально было письмом неизвестного павлиниста и потом приписано ап. Иуде, следовательно, опять неподлинно; все так называемые Пастырские послания Павловы произошли незадолго до 180 г., неподлинны; Послание к Евреям было первоначально письмом неизвестного мужа или Варнавы (замечательно, что это послание Гарнак готов приписать Варнаве, а действительно приписываемое Варнаве послание он считает подлогом), а потом переделано в послание ап. Павла; специально об Апокалипсисе Иоанна автор замечает, что оно первоначально никакого Иоанна своим писателем не имело (т. е. ни ап. Иоанна, ни пресвитера Иоанна, которому оно иногда усваивалось древними), только около середины II в. оно получило значение произведения ап. Иоанна, после того, как в текст Апокалипсиса было внесено имя Иоанна (S. 273, 275, 279). Само собой разумеется, после такого огульного отвержения подлинности более десяти новозаветных писаний, касающихся апостольских времен, очень трудно обстоятельно составить изложение учения апостолов и других первых последователей Христа. Невозможно писать историю, не имея памятников, – это понятно само собой. Но читатель, конечно, заметил, что в проскрипционный лист Гарнака не вошли многие послания ап. Павла, представляющие очень много данных для характеристики верований «первого поколения» христиан. Почему и отчего? Дело темное, нуждающееся в разъяснениях. Вышеупомянутые новозаветные писания (которые мы перечислили) Гарнак отверг в качестве источников своего дела, потому что их считает неподлинными рационалистическая клика немецких богословов: он – поклонник рационалистической немецкой теологии, а потому налету хватает ее безапелляционные якобы научные приговоры – и покорно подчиняется им. Но не так просто решается рационалистическими немецкими богословами вопрос о большинстве Павловых посланий, не упомянутых нами выше. Даже рационалистические богословы признают их подлинность. Судя по многим примерам, можно утверждать, что Гарнак стал бы петь с чужого голоса, если бы кто–нибудь из его собратий объявил все послания Павла подложными, но этого–то и нет. Отвергать подлинность всех посланий Павла никто не решается. Что оставалось делать Гарнаку? Не самому же объявить их подложными? Оставалось, твердо стоя на почве своей науки, признать большинство Павловых посланий подлинными, и на основании их изобразить характер учения «первого поколения» верующих во Христа. Но сделать этого Гарнак не захотел. (Почему – об этом скажем несколько спустя.) Гарнак решился во что бы то ни стало отказать посланиям Павла во всяком влиянии на церковное вероучение вплоть до конца II или даже начала III в. И к каким только уловкам он не прибегает, чтобы скрыть от глаз читателя самое существование неудобных для его теории Павловых посланий (т. е. большинства из них). Не раз он обращается к благосклонному читателю и убеждает его забыть о посланиях Павла, этого «бывшего фарисея». Читатель слушает речи Гарнака, но недоумевает и даже просто не верит ученому немецкому профессору. Автор начинает с первых же страниц своей книги уверять читателя, что послания Павла долго оставались как бы под спудом и не имели влияния на догматическое воспитание Церкви. Он говорит: «Понимание христианства Павлом не носило на себе следов греческого влияния (а это разве обязательно нужно? – А. Л.). В этом свойстве Павлова учения лежит основание, почему в общее сознание христиан ничего не перешло из него, кроме идеи о всеобщности спасения, и потому невозможно дальнейшее развитие Церкви объяснять павлинизмом» (S. 41). Как это ново! Другие западные рационалистические ученые все развитие христианства выводят из Павлова богословия и утверждают, что «Павел есть Христос» христианства, а Гарнак уверяет, что Павлово учение не имело никакого приема и распространения в первохристианских обществах. Трудно добраться до истины, если взять руководителями современных немецких ученых рационалистического пошиба, а имя им – легион. Да, положим, Павел не имел влияния на догматику первенствующей Церкви, как хочет того Гарнак, но ведь сам–το Павел жил же в апостольское время и раскрывал очень многие христианские верования с замечательной полнотой; почему автор о нем–το и его учении не соблаговолил ничего сказать при изложении первохристианской догматики? Павел и его догматика – факты, на которые обязан обратить внимание историк апостольского века, если он не хочет морочить читателя. Но посмотрим дальше, как увертывается Гарнак, чтобы добыть себе право не излагать Павлова учения и отказать во всяком влиянии его на Церковь с первых времен ее бытия. Поясняя сейчас приведенные свои слова, Гарнак уверяет читателя, что исторические следы знакомства Церкви с Павловым учением так «общи, что нельзя представить их в определенном образе» (S. 42); «Павлиническая теология, – говорит еще Гарнак, – не тождественна ни с первоначальным евангельским учением, ни с каким–либо видом позднейшего вероучения» (S. 93). Словом, автор очень усердно старается убедить читателя, чтобы он сколько возможно забыл о посланиях Павла – они чему–то мешают в работе Гарнака. Когда же наконец были открыты в истории христианства послания Павла? Когда и кто первый оценил это неоцененное сокровище? Это случилось, по мнению Гарнака, не раньше середины II в. Из забвения вывели эти послания гностики – маркиониты и энкратиты: «Павлиническая теология заняла у них свое место» (S. 424). Вот какое благодеяние оказали христианскому миру маркиониты и энкратиты. Как скоро было впервые обращено внимание этих еретиков на Павловы послания, тогда и Православная Церковь, утверждает он, не могла более игнорировать Павловых посланий. Но на первых порах открытие Павловых посланий наделало немало хлопот православным писателям: эти последние никак не могли в своих воззрениях приноровиться к непривычным для них идеям (S. 280)… Изо всех этих рассуждений Гарнака для читателя ясно одно, что этот ученый не хотел давать место Павлову богословию в истории Церкви до конца II в.
Итак, несомненно, что беднота изображения Гарнаком как учения Основателя христианства, так и первоапостольского времени – есть дело намеренное, т. е. совершенно искусственное. Он изложил учение Иисуса Христа, не беря в руки Евангелия от Иоанна, а учение первохристианского времени, не принимая в расчет большинства Павловых посланий. На то и на другое у него не было никаких оснований и никаких прав – даже с точки зрения его науки и его собственных научных представлений. Но если у него не было никаких научных оснований и никаких прав поступать так, как он поступил, зато у него была непреодолимая потребность сделать именно так, а не иначе. Гарнак желал «построить» свою историю так, как делают светские историки, не только не принимая в расчет действия сверхъестественных начал, но и представляя себе историю, как развитие человечества от низших степеней цивилизации к высшим степеням этой цивилизации. Не будем говорить о том, правы ли светские историки, руководящиеся подобными взглядами. Для нас важно отметить в настоящем случае лишь то, что Гарнак держится этих взглядов, работая в такой области, как церковная история. Церковная история не укладывается в такие рамки, в какие заключают светские историки гражданскую историю. Церковная история имеет своей точкой отправления не минимум развития, а полноту религиозных идей. Этого, однако, не хотел взять во внимание Гарнак, и отсюда, как естественное следствие, выходило искажение им истории первохристианства. По теории светских историков, начальная историческая стадия развития данного общества (государства) проста, несложна, менее богата идеями и учреждениями, чем последующие стадии жизни общества. Поэтому и Гарнаку нужно было представить первоначальную эпоху христианства бедной идеями и учреждениями. Но в развитии этого предзанятого взгляда он встретился, после различных проскрипций исторических памятников, с двумя важнейшими памятниками христианской древности – Евангелием от Иоанна и посланиями Павла. Подлинность всех их отвергать было невозможно. Но, с другой стороны, Гарнаку невозможно было и воспользоваться этими памятниками, как свидетельством о характере и свойствах учения Христа и апостолов, невозможно было при точке зрения этого учения. Если бы он изложил благовестие Христово и учение первохристианской эпохи по указанным источникам, в таком случае благовестие Христово оказалось бы безмерно широким, и проповедь апостольская и вера первых учеников Христовых богатыми содержанием и многообъемлющими. Но если бы это последнее случилось, тогда первая стадия истории христианства являлась бы разрушающей Гарнакову теорию о развитии христианского общества, как и всякого человеческого общества, прогрессивным образом – от более простого к более сложному. Нужно было как–нибудь развязать крепко затянутый узел, но вместо того чтобы развязать, Гарнак решился разрубить его. И вот в результате – недостойные серьезного историка махинации, при помощи которых немецкий ученый старается отделаться от неудобных, мешающих стройности развития его теории памятников. И вот появляются его ни для кого не убедительные и ничего не доказывающие элукубрации, что Евангелием от Иоанна нельзя пользоваться при изложении проповеди Христовой, потому что «оно, по своему происхождению, мудренейшая загадка»; что нужно отказаться и от Павловых посланий, как источника, откуда можно черпать сведения о верованиях «первого поколения» последователей Христовых, потому–де, что они оставались без влияния на религиозноумственный строй апостольского века.








