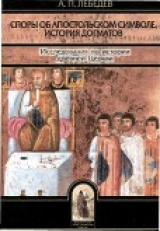
Текст книги "Споры об Апостольском символе"
Автор книги: Алексей Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Кроме научно–теологической деятельности, проявлявшейся в литературе, гностики, по мнению Гарнака, замечательны далее тем, что они первые пришли к мысли определить число книг Св. Писания Нового Завета, к мысли создать канон этих книг – и осуществили эту мысль. Подобное предприятие имело неисчислимые и важнейшие последствия для развития Церкви. Вот оригинальные воззрения Гарнака по этому интересному предмету. Гностики «хотели черпать христианское учение именно из апостольского предания, а это предание можно было находить лишь в апостольских произведениях. Так как гностики хотели стоять на почве апостольского предания, то гностицизм впервые поставил вопрос, что такое христианство, и должен был путем критики определить те источники, которые бы давали ответ на сейчас указанный вопрос. Отвержение гностиками Ветхого Завета делало необходимым этот вопрос и побуждало к определению новозаветного канона. С большой вероятностью можно утверждать, что идея канонического собрания христианских писаний впервые возникла именно у гностиков. Гностики считали такое собрание действительно необходимым, между тем, все прочие христиане (т. е. приверженцы самой Церкви), признававшие Ветхий Завет за Откровение и истолковывавшие в христианском духе эти памятники, не чувствовали особенной нужды в другом, новом каноне Писаний. Из многочисленных, сохранившихся до нас в отрывках гностических комментариев на новозаветные книги, мы знаем, что эти книги пользовались в гностицизме каноническим авторитетом, тогда как в великом христианстве (т. е. в христианском мире. – A. Л.), около этого времени совсем ничего не слышно ни о таком каноническом авторитете, ни о комментариях на Новый Завет. Принцип, которым руководились гностики при определении канона священных новозаветных книг, без сомнения, был принцип апостольского происхождения книг. (Это доказывается тем, что приняты были в канон послания апостола Павла; как писания апостольские, эти послания имели значение у Маркиона, Татиана, последователей Валентина, ператов.) Кому первому пришла в голову идея о создании канона новозаветных книг – Василиду ли, Валентину ли, Маркиону ли, или же одновременно нескольким гностикам сразу – вопрос этот останется навсегда темен (впрочем, в пользу Маркиона история говорит немногое). Если доказано, что Василид и Валентин именно Евангельские писания признавали за масштаб, то уже в этом выражена полная идея канона. Впоследствии вопрос об объеме канона сделался важнейшим предметом спора между кафолической Церковью и гностиками: представители кафоличества с решительностью утверждали, что их канон – древнейший и что гностические собрания священных книг суть испорченные переработки канона кафолической Церкви. (Но доказательств на это они не могли привести, заявляет Гарнак, как свидетельствует сочинение Тертуллиана «De praescr.». – А. Л.) Итак, гностики намеренно сделались сторонниками традиции, они впервые определили в христианском мире объем, содержание и способ сохранения (христианской) традиции, словом, были первыми христианскими теологами» (S. 187–188).
И в других отношениях Гарнак указывает великий теологический прогресс в гностических обществах. Он находит, что христианское догматическое учение у гностиков сильно продвинулось вперед по сравнению с современными им кафолическими христианами и послужило образцом для догматики этих последних. Представим в этом роде несколько примеров. Гарнак утверждает, что учение о Христе, как Сыне Божием, вступило в новую стадию развития опять же именно у гностиков. Он пишет: «Гнозис, хотя и полагал различие между высшим Богом и Христом, но с его точки зрения не было никакого основания слишком оттенять это различие. Для большей части гностиков Христос был в некотором роде явлением самого высшего Бога, вследствие этого в популярных гностических сочинениях (например, в Acta Iohannis) о Христе говорится в таких выражениях, в которых Он, по–видимому, отождествляется с Богом. Без колебания можно утверждать, что для большинства гностиков Христос был πνεϋμα, όμούσιον τφ πατρί. Гностики, например, о их так называемой Софии говорили, что она «единосущна» верховному Богу. Несомненно, – замечает Гарнак, – гностическое возвышенное представление о Христе могущественным образом воздействовало на позднейшее развитие христологии». Тот же ученый находит у гностиков развитое учение о двоякой природе во Христе и докетические понятия о Теле Христовом; это учение, по уверению Гарнака, сделалось достоянием последующей Церкви и отразилось частью в системе Оригена (докетизм), частью в воззрениях Тертуллиана (учение о двоякой природе Христа). И этого всего мало: Гарнак указывает и другие заслуги гностиков в раскрытии учения о Христе. Он говорит: «Абсолютное значение личности Христа в гностицизме пришло к очень ясному выражению (Христос не только Учитель истины, но и сама Истина), во всяком случае, стало гораздо яснее, чем там (имеется в виду: в Церкви. – А. Л.), где Христос рассматривался как субъект ветхозаветного Откровения. С другой стороны, нельзя не признавать, – рассуждает немецкий ученый, – что гностики связывали спасение с историческим лицом Христа: Христос лично совершил это спасение» (очевидно, Гарнак не находит подобного учения в тогдашней Церкви). Гностики создали своим учением и еще один новый догмат относительно Христа. Именно, Гарнак полагает, что «так как гностики учили, что Христос прошел через Марию (т. е. Богородицу) как через канал, то отсюда возникло позднейшее представление о рождении Христа от Марии «без нетления» последней; во всяком случае, переход от того учения к этому, – по взгляду Гарнака, – был очень легок». Учение о первородном грехе впервые с ясностью раскрыто, по мнению того же ученого, лишь в гностицизме. «Интересно, что Василид, – заявляет он, – изображает первородный грех так, как будто слышишь самого Августина. Вообще, необходимо заметить, как даже самая специальнейшая позднейшая церковная терминология, догматы и т. п. в известной мере заимствуются от гностиков». В сфере христианских таинств, по мнению Гарнака, гностики развили большую деятельность, умножив их число и изменив первоначальный христианский смысл их. Миропомазание, елеосвящение – первые ввели гностики; у них же, как ни у кого другого, находим прямое учение о пресуществлении вина в Кровь – в Евхаристии, и т. п. (S. 186, 191–193,196). Понятие о Церкви как таковой, т. е. как единящем принципе в христианстве, по суждению немецкого исследователя, уяснено гностиками и вошло у них в самую жизнь в такой мере, что кафолическим христианам оставалось только следовать примеру гностиков. Гарнак возвещает читателю: «Кафолическая Церковь много времени пребывала в неопределенном положении (im Werden), и это длилось, пока она не достигла твердости (устойчивости), какую приобрела маркионитская Церковь (?) благодаря деятельности одного лица, которое одушевлено было столь сильной верой (?), что оно возымело силу свое понятие о христианстве противопоставить всем другим, как единственно правильное. Около 160 г. маркионитские общины обладали одинаково твердой, но свободной организацией, обладали одним и тем же каноном, одним и тем же пониманием сущности христианства» (S. 211).
Вот какой блестящий образ гностицизма начертывает Гарнак. В гностицизме было много такого, по словам последнего, чего невозможно отыскать в положении Церкви до 160 г., много такого, что ставило Церковь ниже гностицизма.
Появился гностицизм – и лицо Церкви обновляется, в Церкви происходят быстрые, поразительные и многообещающие реформы, уверяет Гарнак. Какие преобразования произошли в кафолической Церкви под влиянием гностицизма – об этом исследователь говорит очень подробно, и нам кажется, что эта сторона дела составляет самую суть работы Гарнака; это–то, надобно полагать, и имел в виду автор раскрыть с особенной отчетливостью. Преобразование Церкви под влиянием гностицизма составляет последнюю стадию развития христианства в эпоху первых трех веков. Столкновение с гностицизмом побудило Церковь к пересмотру всех своих верований, к реорганизации устройства, к водворению в ее среде теологической науки и т. д. Но предоставим слово самому Гарнаку, который, начиная описывать последнюю стадию развития Церкви в эпоху начальных трех веков, исчисляет первым делом все те блага, какие добыла Церковь в борьбе с гностицизмом, в борьбе, в которой она имела не столько побед, сколько поражений… Второй век существования (этот второй век, по Гарнаку, начинается с 160 г., но не есть век в строгом смысле слова, так как он обнимает время до 300 г.) обществ христиан из язычников (нужно сказать, что так называемых иудеохристиан он считает лицами безо всякого будущего в Церкви) ознаменовывается победоносной (?) борьбой с гностицизмом и маркионитской Церковью, постепенным созданием церковного учения, вытеснением первохристианского энтузиазма, короче: установлением великого церковного союза, который будучи в одно и то же время политическим обществом (конечно, по сходству с твердым государственным устройством), школой и культовым учреждением, опирался на твердом основании «апостольского» вероучения, «апостольского» канона и, следовательно, апостольской «организации» (выражение «апостольский» с кавычками обозначает у Гарнака в этом случае «якобы апостольский», считаемый за апостольский); из всего этого возникла, создалась кафолическая Церковь, так как, по суду ученого историка, таковой Церкви доныне еще не существовало. Соглашаемся, что несколько неясно, что хочет сказать историк сейчас приведенной громкой фразой. Но читая эту фразу, каждый инстинктивно чувствует, что читателя ожидают какие–то сюрпризы со стороны велемудрого ученого. И это совершенно верно. Разъяснение автором вышеприведенной его фразы составляет ряд неожиданностей, которых не может предугадать никакое воображение.
Последуем за Гарнаком и посмотрим, что он нам скажет и покажет. Какие изменения произошли в Церкви в следующую фазу ее развития (от 160 до 300 г.), об этом немецкий историк говорит так: «Древний кафолицизм (т. е. Церковь указанного времени. – A. Л.) никогда не ставил ребром вопроса, что нужно считать христианским, поскольку он вместо того, чтобы давать ответ на этот вопрос, только определял нормы, которые гарантировали бы признание христианского в отличие от чуждого ему. Это решение проблемы кажется, с одной стороны, слишком узким, с другой – слишком широким. Оно слишком узко, потому что христианство, привязанное к нормам, должно было терпеть внутренние стеснения; оно слишком широко, потому что отнюдь не предохраняло от вторжения новых и чуждых элементов. Кафолицизм также закрыл Евангелие, потому что он облек его предохранительной оболочкой. Он охранил христианскую религию от быстрого эллинизирования, но при этом мало–помалу санкционировал все большую и большую массу мирских элементов, как будто бы они были христианскими элементами. В интересах мировой миссии он не прямо пожертвовал строгостью религии, но сильно смягчил эту строгость через дозволение держаться менее строгого жизненного идеала, – стало возможным считаться христианами и довольствоваться этим идеалом. Под влиянием кафоличества возникла Церковь, которая не была более обществом веры упования и строгой дисциплины, но политическим обществом, которое наряду с прочим имело в своей среде и Евангелие. Все формы, которыми пользовалось это сближенное с миром общество, кафолицизм в сильной степени облек апостольским, почти божественным, авторитетом, и с этим он извратил (entstellt) христианство, а назначение того, что считать христианским, затемнил и затруднил. Но зато в кафолицизме религия в первый раз получила систематическую догматику. В самом кафолическом христианстве была найдена формула, которая примирила веру и знание. В течение веков человечество довольствовалось этой формулой, и счастье, какое она создала, доныне еще продолжает свое действие, после того как сама формула сделалась узами. Двоякого рода явления содействовали возникновению кафолического христианства.
Во–первых, указаны и установлены твердые внешние масштабы для определения того, что признавать христианским, и масштабы эти были объявлены апостольским наследием. Простой крещальный Символ веры обратился в «апостольское» правило веры (regula fidei) и получил значение апостольского закона веры; из церковных писаний, читавшихся за богослужением, образовано было «апостольское» собрание писаний (т. е. канон) и уравнено с Ветхим Заветом; епископско–монархическое устройство Церкви (т. е. предстоятельство одного полномочного епископа в общинах), стали выдавать за «апостольское», и епископам усвоено качество преемников апостолов; наконец, культ сделался мистериальным служением, происхождение которого тоже стали приписывать апостолам. Вследствие каких потребностей пришли к мысли составить новый (новозаветный) канон; в какие взаимные отношения стали апостольское правило веры, апостольский канон Нового Завета и апостольское (епископское) служение, – указать это есть одна из важнейших задач догматико–исторического исследования, которая, к сожалению, не вполне может быть разрешена. Рассматривая процесс этого развития, видим, что христианство в этом случае все более и более сливалось с мирскими элементами. Заметнее всего это изменение христианства обнаруживается в том факте, что христианские упования стушевались, что омирщение христианской жизни не только терпелось, но и санкционировалось, что проповедь о безусловной преданности небесным интересам встречала себе недоверие или же была заключена в очень тесные пределы».
Во–вторых, нельзя было довольствоваться тем, чтобы для внешней охраны против гностицизма устроить плотины и укрепления, нельзя было считать достаточным провозглашение – вопреки гностицизму – того, во что христиане веровали и на что уповали, возникло стремление подражать гностицизму, а именно пришли к мысли противопоставить врагу научную теологию. Но это предприятие приводило еще раз к омирщению христианства: Предание, правило веры превратились в систему верований, в которой лишь частично и больше по имени нашли себе место данные древнего христианского учения. Здесь Гарнак считает уместным привести следующее изречение Лютера: «Когда Слово Божие попало в руки отцов (Церкви), то с ним сделалось то же, что с молоком, процеженным сквозь углевой мешок, – молоко делается черным и портится». «В христианской литературе апологетов, чем она была уже около середины II в., – раскрывает свои взгляды Гарнак, – положено начало того развития, которое спустя столетие в теологии Оригена, т. е. в попытке превратить Евангелие в церковно–научную систему учений, достигло своего заключения – по крайней мере, до поры до времени. Со стороны содержания эта система учений обозначает узаконение переноса греческой философии на почву христианской веры. Эллинизирование церковного христианства (причем мы не имеем в виду Евангелия) произошло не постепенно; напротив, уже в тот момент, когда мыслящий грек, приняв новую религию, стал уяснять ее себе – эллинизирование уже началось. Христианство Иустина, Афинагора и Минуция не менее было эллинизировано, как и христианство Оригена; однако же между ними (апологетами и Оригеном) есть значительная разница. Так как вопроса, что считать христианским, для апологетов совсем не существовало, и они его не ставили, то они и не имели притязания считать свое научное изложение христианства за действительное выражение христианства. Иустин и его сотоварищи считали выше всякого сомнения, что вера, которая в качестве Предания живет в общинах, сама по себе полна и чиста и не нуждается в научной обработке. Апологеты, почти играючи, разрешили свою задачу представить христианство как совершенное и достоверное, как высшее познание Бога и мира, так как это знание есть откровенная философия. Но вскоре задачи христианской науки стали более трудными для решения. Борьба с гностицизмом побуждала к тому, чтобы хоть как–нибудь отвечать, что нужно считать христианским, и найденный ответ поставить твердо и ясно. Но по правде сказать, христиане не были способны твердо и определенно отвечать на этот вопрос. Это видно на примере Иринея, Тертуллиана и Ипполита. Ириней, Тертуллиан и Ипполит в большей или меньшей зависимости с одной стороны – от (христианской) традиции, с другой – от философии старались противопоставить гностическим представлениям о христианстве, на основании расширенного крещального Символа, известного рода комплекс церковных учений; при этом, несомненно, имели перед собой чрезвычайно поучительный пример гностиков и Маркиона. Но эти отцы Церкви выработали лишь отдельные догмы, т. е. частные положения, характеризующие христианство, а отнюдь не выработали догматики. Они жили еще в уверенности, что христианство, какое их наполняет и какое они считали тождественным с христианством прочих – и даже необразованных – верующих, не имеет нужды в научной обработке, чтобы служить выражением высшего познания». Но чего не сделали Ириней и Тертуллиан, то сделано было Климентом и особенно Оригеном. Чем больше христианское Предание сближалось с греческой религиозной философией, тем неизмеримее была сумма проблем, отсюда возникавших.
Климент Александрийский принялся за их разрешение, но должен был отступить перед громадностью задачи. Ориген принялся за ту же задачу при трудных обстоятельствах и в некотором отношении привел ее к концу. Он написал первую христианскую догматику, которая соперничала с философскими системами того времени и которая представляла собой своеобразное соединение апологетической теологии Иустина и гностической теологии Валентина, причем, однако же, Ориген не упускал из внимания практической цели. В этой догматике правило веры переплавилось, и это было сделано осознанно. Ориген не скрывал своего убеждения, что христианство в научном познании впервые приходит к своему систематическому выражению, и что христианство (какой бы оно ни имело вид) без теологии есть христианство бедное и само по себе неясное. Эллинизация вероучения достигает у Оригена высокой степени. И однако, несмотря на весь эллинизм, какой заметен у Климента и Оригена, они неоспоримо пришли ближе к Евангелию, чем Ириней с его привязанностью к авторитетам. Кафолическую догматику III в. Гарнак определяет вообще, как «христианство, понятое и сформулированное в смысле греческой религиозной философии» (S. 243—253).
Более подробное раскрытие сейчас указанных положений Гарнака:
1) Правила веры (Символы), канон и Церковь.
Уже ранее жаркой борьбы Церкви с гностицизмом в христианских общинах появились краткие формулирования веры. Кратчайшее формулирование было то, которое определяло христианскую веру как веру в Отца и Сына и Святаго Духа. Эти формулы употреблялись при торжественных церковных действиях. В этих формулах находилось также краткое указание на важнейшие факты из истории Иисуса. С определенностью мы знаем, что в Римской церкви несколько позднее 150 г. создался твердый Символ веры, который должен был усваивать каждый крещаемый. Когда появился гностицизм, то опору в борьбе с этим врагом стали искать в этих Символах; их объявили «апостольскими» Символами. Но ими в этом случае пользовались не в первоначальном их виде, а в виде распространенном, интерпретированном. Так прежде всего поступил Ириней. Для ббльшего успеха борьбы с гностическими спекуляциями он определенно интерпретированный крещальный Символ выдал за апостольскую regula veritatis. Доказательство апостольского характера этого Символа он основал на том, что этот Символ есть содержание веры тех общин, которые основаны апостолами и что эти общины в неизменности постоянно хранили апостольскую веру. В основе этих двух тезисов, считает нужным заметить Гарнак, лежат два недоказанных предположения и одна подмена. Не доказано, чтобы какой–либо Символ произошел от апостолов; не доказано и то, что церковные общины, основанные апостолами, неизменно хранили их учение; наконец, самый Символ в указанном случае подменен его толкованием. Но с другой стороны, путь, принятый Иринеем, был единственный, на котором можно было спасти то, чем еще владели тогда от времен первоначального христианства, и в этом заключается историческое значение этого дела. Через утверждение правила истины, формулирование коего у Иринея применялось к образцу Римского символа, одним ударом были устранены важнейшие гностические тезисы и твердо поставлено противоположное учение в качестве апостольского. Примеру Иринея всецело следовал Тертуллиан. Он уже открыто объявлял, что кто формулу веры признает за свое собственное исповедание, того должно было считать христианским братом, тот имел право на братское приветствие и на гостеприимство у прочих христиан. В формулированиях веры разъединенные доныне общества христиан получили теперь некий «Іех», который объединял их, подобно тому, как философские школы в некоторых кратко сформулированных учениях обладали объединяющей связью реального и практического характера. «Правила веры» сделались своего рода паспортами для путешествующих христиан, послужили основой для конфедерации отдельных общин и т. д. (S. 258–272).
Далее. Маркион свое понимание христианства основал на каноне новых (т. е. новозаветных) книг, который в его обществах, кажется, пользовался таким же уважением, с каким относились в «великом христианстве» (т. е. Церкви) к Ветхому Завету. В гностических школах, которые Ветхий Завет или целиком, или отчасти отвергали, уже около середины II в. евангельские и апостольские писания рассматривались как священные тексты и на них основывали теологические спекуляции. А в «великом христианстве» в то же время еще не было никакого собрания (канона) новозаветных писаний, которое уравнивалось бы с ветхозаветным каноном. Каноническое собрание новозаветных писаний возникло в кафолической Церкви позднее, чем у гностиков (но не позднее 180 г.) и по подражанию этим последним. Совершенно внезапно у Мелитона Сардийского, Иринея, Тертуллиана и в так называемом Мураториевом фрагменте появляется перед нами канон. Ничего точного о происхождении этого канона в Церкви сказать нельзя. Можно заметить одно, что канон сначала появляется там, где раньше всего встречаем так называемые апостольские правила веры. Об авторитете собирателей канона ничего неизвестно. Тем не менее канон у Иринея и Тертуллиана является вполне законченным; еретикам со стороны их делаются сильные упреки, что они не признают ту или другую книгу (за новозаветную), свое же собрание они (Ириней и Тертуллиан) считали древнейшим и ценили его так же высоко, как и Ветхий Завет. Теперь мы должны вкратце объяснить, замечает Гарнак, при каких вероятных условиях составился новозаветный канон в Церкви, ради какого интереса это сделано и почему Церковь и впоследствии твердо держалась этого канона? Нужно сказать, что собрание и канонизирование христианских писаний не было добровольным делом Церкви в ее борьбе с Маркионом и гностиками, как это яснее всего доказывает осторожность отцев Церкви, не желавших спорить с еретиками по поводу содержания св. книг, хотя канон в Церкви уже находился налицо. Это предприятие было вынужденным делом. Маркион и гностики энергично указывали на то, что все действительно христианское должно иметь основанием апостольскую проповедь, а между тем предполагаемого тождества между общехристианским кругом воззрений и апостольским христианством, по воззрению указанных гностиков, не существует, что даже апостолы сами себе противоречили. Вследствие такой оппозиции Церковь вынуждена была заняться тем вопросом, какой поставлен ее врагами. Но в существе дела задача эта была совершенно неразрешима. И только «бессознательная логика» (?), логика самосохранения могла указать Церкви единственный выход из затруднения: а именно собрать все апостольское наследие, объявить себя единственным правоспособным обладателем этого апостольского достояния и это достояние по значению уравнять с Ветхим Заветом. Но возникал вопрос: какие же именно сочинения суть апостольские? Вопрос трудный. После середины II в. уже множество сочинений обращалось, нося имя апостольских, и притом же существовали часто разные редакции одного и того же сочинения. Редакции, заключавшие в себе докетический элемент и увещания к грубейшему аскетизму, достигли даже богослужебного употребления в общинах. Поэтому нужно было определенно решить: что считать подлинно апостольскими сочинениями; какую форму или редакцию признать за апостольскую? Церковь, т. е. главным образом малоазий ская и римская, которые во времена Марка Аврелия и Коммода имели еще общую историю, занялись этой выборкой; они обратили свое внимание на тот круг христианских сочинений, какой был принят в употребление при богослужении, и из числа этих книг они признали подлинно апостольскими такие сочинения, которые выдавало за подлинные предание древних. При этом держались правила, по которому сочинения, хотя и носившие апостольские имена, но противоречащие общему христианскому верованию, т. е. правилу веры, или заключающие в себе что–либо оскорбительное для ветхозаветного Бога и области Его творения, объявляли фальшивыми, а равно отвергали и все редакции апостольских писаний, если они носили на себе подобные же признаки. Следовательно, Церковь держалась за такие писания, которые носили на себе имена апостолов и содержание которых не расходилось с церковной верой, т. е. доказывало ее. Но все это, по Гарнаку, еще не свидетельствует, что Церковь не допускала себе при этом никакой фальши. Составляя канон, утверждает Гарнак, Церковь подвергала ревизии текст книг, причем она приделала начала и концы в некоторых новозаветных писаниях. Но гораздо важнее еще то, что Церковь многие безымянные сочинения приписала по своему происхождению тому или другому из апостолов, хотя немецкий исследователь склоняется к допущению и той мысли, что такой подлог мог быть сделан и раньше времени составления канона. В доказательство мнения, что анонимные сочинения потом стали носить имена известных апостолов, автор указывает на следующие, по его суждению, достоверные факты: Евангелие от Луки не было известно Маркиону с именем Луки, а получило это имя позднее; канонические Евангелия от Матфея и Марка не изъявляли сначала притязания на свое происхождение от этих мужей, эти произведения стали считаться апостольскими лишь около середины II в. и т. д., и т. п. Но мы еще не перечислили всех признаков, по которым Церковь, по словам Гарнака, отличала подлинно апостольские писания от неподлинных. Выбор подлинно апостольских сочинений, пишет этот ученый, очень облегчался для Церкви тем, что первохристианские произведения по своему содержанию представлялись для последующего христианства большей частью непонятными, тогда как позднейшие и ложные сочинения выдавали себя не только присутствием в них еретических учений, но и прежде всего удобопонятностью своего содержания (мы готовы были бы, заметим от себя, эту последнюю мысль принять за иронию, если бы автор был склонен к этой манере изложения, но он нигде в книге не обнаруживает этой наклонности). Таким образом, возникло собрание (канон) апостольско–церковных писаний, которое по своему объему несущественно отличалось от числа тех книг, которые уже не одно поколение пользовались уважением в общинах и которые преимущественно читались. Гарнак с разных сторон указывает значение новозаветного канона для Церкви. Приведем некоторые его суждения по этому вопросу. В течение II в. мало–помалу перестали появляться в христианском обществе лица, которые под влиянием христианского энтузиазма наставляли прочих христиан и которые имели названия апостолов, пророков и учителей. Авторитет этих лиц следовало заменить чем–нибудь другим. И вот через создание канона, представители прошедшего были поставлены на недосягаемую высоту. Теперь уже с точки зрения этого нового авторитета стали оценивать достоинство тех учений, какие кем–либо распространялись в обществе. Это обстоятельство имело большие последствия для Церкви. Положена была преграда для различных мечтателей и фантазеров: им стали указывать, что только апостолы имели дух Божий и говорили во имя этого Духа, что слова их заключены в собрании канона и что всякие новые учители, говорящие якобы во имя «Духа», лжецы и обманщики. В этом случае канон имел благодетельное действие: энтузиазм, который руководил подобными лицами, грозил христианству совершенным одичанием, так как под прикрытием энтузиазма могло проникнуть в общество много чуждого христианству. Далее, канон положил преграду для появления новых сочинений с притязанием на апостольский авторитет, содействовал возникновению простой, обычной богословской литературы, указав ей свое место и свое назначение. Теперь был дан простор для всякого рода литературы, если она не стоит в противоречии с каноном; теперь всякий писатель мог усваивать все результаты греческого образования и обращать их на пользу Церкви. Наконец, если канон и затемнил исторический смысл и историческое происхождение вошедших в него сочинений, но зато теперь даны условия для серьезного изучения этих писаний: теперь могла появиться экзегетико–теологическая наука (S. 272–282, 290).
Произошли в изучаемую эпоху, по Гарнаку, и очень важные изменения в положении Церкви как таковой. С этих пор истинным христианством стали считать только такое, какое носило имя апостольского и которое могло доказывать, что оно таково. Естественным следствием этого воззрения было то, что теперь поставили в связь апостольство с епископством и епископов признали преемниками «благодати истины», принадлежащей апостолам. Подобное представление должно было гарантировать истинность христианской веры. Если до сих пор христиане смотрели на Церковь как на святую Церковь, и основание этого воззрения находили в учении, что Бог дарует Церкви Духа Своего, то теперь епископов стали считать носителями этого Духа, и святость Церкви поставлена в связь с указанным преимуществом епископов. Произошли и другие перемены. Важнейшей из них было то, что для успеха победы над миром Церковь сделала многие уступки в пользу мира. Церковь стала различать двоякого рода нравственность: высшую, назначенную для избранных (отсюда впоследствии развилось монашество), и низшую – для большинства. Мало этого: она выставила одни нравственные требования для духовенства и другие – для мирян. Но так как члены Церкви не всегда выполняли и ослабленных требований, то для охранения чистоты Церкви предстоятелями Церкви было усвоено себе право прощать грехи, право как бы повторять таинство крещения, отпускающее все грехи. Все это вместе взятое чрезвычайно возвысило класс иерархических лиц. «В кругах мирян вера в благодать Божию стала ослабевать, и доверие к Церкви усиливаться». Присвоив себе право разрешать грехи, Церковь «стала действовать во имя Бога и вместо Него»; «епископ фактически сделался судьей vice Christi». На месте христианства, имевшего в своей среде Св. Духа (первохристианский энтузиазм), выступило учреждение Церкви, обладающее каноном (instrumentum divinae litteraturae) и духовной должностью (епископат). При всем этом Гарнак не соглашается с теми учеными, которые думают, что с такими переменами Церковь стала ниже по своим свойствам, чем христианство предыдущего времени. Он приписывает ей много достоинств. «Она уничтожила всякий остаток исключительности (сепаратизма) и стала в собственном смысле кафолической». Еще «кафолическая Церковь благодаря мудрости, осторожности и относительной строгости большинства епископов сделалась опорой гражданского общества и государства» (S. 296, 318, 329, 331, 334–336 и 343).








