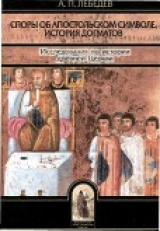
Текст книги "Споры об Апостольском символе"
Автор книги: Алексей Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Как показывают некоторые сочинения Гарнака в подобном роде, он принадлежит к разряду тех историков, которые убеждены, что древность нужно изучать ради настоящего. Древность потеряла бы для нас всякий интерес и смысл, если между ней и нашим временем нельзя было найти точек соприкосновения. Древность должна служить нам, должна раскрывать что–либо полезное для нас, в противном случае это ветошь, которую нужно выбросить за порог. Гарнак никогда не станет заниматься окоченелыми Церквами, представляющими никому не нужный пережиток. Ему не улыбается удовольствие копаться в историческом мусоре. От этого, о чем бы он ни писал, он пишет так, что в его сочинении находим всегда живой ответ на какой–нибудь современный запрос, на современную проблему, он дает в нем разрешение какого–нибудь серьезного научного недоумения нашей эпохи. А это приводит, в свою очередь, к тому, что все его сочинения, даже на самые, по–видимому, непопулярные темы, мы читаем с большим наслаждением. Нам они все очень нужны. Без сомнения, из такой потребности, руководящей Гарнаком, возникло и его сочинение «Сущность христианства». Он хочет в нем установить прямую связь между давно прошедшим и настоящим. Что дано нам в древности? Что из этого древнего утеряно нами? Что сохранено? В каком виде? Что прибавлено потом к тому, что дано? Хорошо ли это прибавленное? Нужно ли удерживать его все или частями? Что еще нужно сделать, чтобы усугубить меру нашего счастья и достигнуть нравственного удовлетворения? Эти вопросы красной нитью проходят через все его новое сочинение. Вопросы эти в высшей степени интересны; отсюда небывалый интерес к лекциям Гарнака о «сущности христианства», а потом и к его книге под тем же заглавием. Немецкая публика очень хорошо поняла стремление Гарнака. Раскупая книгу нарасхват, она засвидетельствовала тем благодарность высоко талантливому профессору за его отзывчивость. Появилось много и похвальных рецензий на эту книгу – опять потому, что она пытается дать прямой ответ на вопросы, давно назревшие в среде немецкой интеллигенции…
Вот почему книга с таким содержанием, как книга Гарнака, не была попрана ногами, а была прочтена, читается и теперь.
Мы полагаем, что книга эта не произведет значительного переворота в религиозном состоянии Германии. Если одни из читателей, уже подготовленных к такому роду миросозерцания, примут ее выводы, то другие, стоящие на другой точке зрения, станут смотреть на нее скептически и даже строго. Образец этих последних взглядов нами был указан выше.
Иное дело у нас, в России. Если бы здесь она могла найти себе распространение, она была бы принята нашей интеллигенцией, не подготовленной критически относиться к подобным явлениям, как последнее слово науки, а следовательно – наиболее несомненное…
1901, сент. 12 Московский университет
Разбор попыток некоторых ученых доказать, что Константин Великий не был христианином [27]27
Впервые опубликовано в журнале «Чтения в Обществе Любителей Духовного Просвещения». 1885, январь. С. 89–110.
[Закрыть]
В новейшее время историческая критика на Западе с особенной рьяностью набрасывается на исторический образ первого христианского императора – Константина Великого. Едва ли нужно раскрывать, какими интересами руководится в этом случае историческая критика; она имеет в виду повредить христианству и подорвать значение его идеалов. Но странно вот что: несмотря на то, что в исторической критике на Западе образ первого христианского императора подвергается очевидным искажениям, несмотря на то, что такое стремление имеет своей задачей подорвать тот взгляд на Константина, какой, по преданию, основанному на солидных данных, утверждался доныне в науке, новомодные взгляды на Константина приобретают все большее и большее распространение в западных исторических сочинениях. В протестантской исторической литературе чуть не сделалось правилом раскрывать и доказывать, что Константин не был христианином. Историк Якоб Буркхардт в первом издании своего известного сочинения «Эпоха Константина Великого» собрал несколько доказательств мнимого языческого образа воззрений и действий Константина, а во втором издании того же сочинения не только не отказался от этого своего мнения, но и развил его в ослепляющей и подкупающей форме.[28]28
Burckhardt. Die Zeit Constantin’s des Grossen. Zweite Ausgabe. Leipzig,1880.
[Закрыть] Буркхардт приписывает Константину полную независимость от какого–либо «христианского чувства» и находит у него лишь в высшей степени развитый «толерантный монотеизм» (S. 448). Так далеко не заходит другой исследователь о Константине Теодор Бригер в своем сочинении «Константин как религиозный политик», тем не менее, и по его суждению Константин лишь благоприятствует некоторого рода христианскому «суеверию» (Superstition), причем будто бы император «никогда не отрывался от своих первоначальных языческих представлений и не вытеснял их».[29]29
Briezer. Constantin als Religionspolitiker. Gotha, 1880. S. 12.
[Закрыть] Подобного же рода мысли еще раньше Буркхардта и Бригера развивал известный английский историк Гиббон в сочинении «Падение Римской империи».
Наша задача состоит в том, чтобы подвергнуть критическому разбору и исследовать все исторические основания, на которых утверждается мнение о мнимо–языческом направлении Константина, каким он будто бы заявлял себя не только в первые годы своей жизни, но и со времени 313 г. (видение Креста) до конца жизни. Это исследование покажет, что высказываемое с импонирующей отважностью часто является не больше, как легкомыслием. Наперед должны мы сказать, что при опровержении доказательств западных критиков мы не будем ссылаться на такие факты, как обстоятельства обращения Константина в христианство, и на те христианские заявления, которые торжественно делал Константин, потому что все подобные виды не имеют никакого значения в глазах историков, враждебно относящихся к первому христианскому императору. Мы должны исключительно и единственно заняться теми основаниями, в силу которых такие историки, как Буркхардт, Бригер, Кейм, Беньо, Марквардт, Винтерсгейм указывают следы язычества в «обращенном» к христианству Константине. Мы оставим в стороне и некоторые другие вопросы в жизни Константина: например, вопрос о том, что он отлагал свое крещение до смертного часа, и вопрос о печальных событиях в его жизни, каковыми должно признать насильственную смерть его жены Фавсты и его сына Криспа; из этих явлений, пожалуй, можно выводить какие–либо следствия, неблагоприятные для нравственного характера его, но на основании их нельзя доказывать, что он, Константин, был язычником или держался языческих воззрений.
Прежде всего заслуживают ближайшего рассмотрения «очень ясные признаки нехристианских, даже прямо языческих симпатий» (как выражается Буркхардт. S. 359), какие будто бы имел Константин в последнее десятилетие своей жизни.
I
Для доказательства сейчас приведенной мысли указывают на то, что Константин в самом Константинополе, – этой столице чисто христианского характера, – строил будто бы языческие храмы. По утверждению Буркхардта, таких храмов здесь было «несомненно два» (S. 421); столько же языческих храмов в новой столице было и по мнению Марквардта, который при этом случае, ссылаясь на Буркхардта и Беньо, присоединяет такое замечание: Константин «никогда не порывал вполне связей с римскими (языческими) религиозными преданиями», и затем еще прибавляет: «Вообще очень недостоверно, что будто Константин сделался христианином».[30]30
Marquardt. Romische Staatsverwaltung. 1878. Bd. III. S. 113.
[Закрыть] А Бригер говорит уже о «нескольких языческих храмах», находившихся во вновь основанной столице, и указывает, подобно Буркхардту, на «богиню–покровительницу» Константинополя – Фортуну (Τύχη), которая будто бы здесь была ревностно почитаема (S. 20); Фортуна – Τύχη, говорит Буркхардт, по воле Константина «в качестве божественной персонификации Константинополя имела свой собственный культ» (S. 359).
Языческий историк Зосима говорит о трех зданиях, которые тогда могли казаться храмами, – о портике Матери богов, о портике Диоскуров и портике Фортуны; все эти здания находились в Константинополе.[31]31
Zosimi Historiarum libri VI. Ed. Bonn. II. P. 31.
[Закрыть] Но в настоящее время первые две постройки считаются решительно не имеющими религиозного значения: с этим соглашается и сам Буркхардт (S. 359), что, однако же, ему не мешает, как ни странно это, пользоваться ниже в своем сочинении указанием на портик Диоскуров как доказательством в смысле его воззрений на Константина. Оба эти мнимые храмы – Матери богов и Диоскуров – в сущности были просто зданиями, имевшими своим назначением хранить произведения искусства, быть своего рода художественными галереями. Мать богов – Рея, будучи поставлена в так называемом ее храме, лишилась тех атрибутов, какие составляли ее принадлежность в языческом мире, потому что львы Реи были от нее отняты, а вместе с тем отняты были и ее руки, покоившиеся на львах и молитвенно воздетые. Следовательно, в Константинополе она, Рея, можно сказать, перестала быть богиней. Что касается до так называемых Диоскуров – Кастора и Поллукса, то они были поставлены не в другом каком месте, а именно в портике нового ипподрома столицы, без сомнения, в качестве драгоценных произведений искусства. Они, по свидетельству Зосимы, который высказывает такие жалобы о легкомыслии Константина, «пожертвовавшего наследованной от отцев религией» (Lib. II. Р. 29, 31), стояли на одной и той же степени с опозоренной «Матерью богов»; правда, Зосима, говоря о зданиях Матери богов и Диоскуров, употребляет выражение храм (ιερον – ναος), но ни из чего не видно, чтобы с этим именем он соединял какое–либо другое представление, кроме того, что это были изящные или красивые постройки. Константин, как человек с изящным вкусом, нисколько не пренебрегал всем тем, что создал художественный гений греков; он украсил свою столицу многочисленными художественными статуями и других богов, которые были собраны сюда из разных сторон обширной Империи. Евсевий говорит: «Константин привел богов отжившего язычества, как пленников, и разукрасил ими улицы» (Жизнь Константина, III, 54).
Посмотрим теперь на третий мнимый храм, находившийся в Константинополе – Тихион, храм Фортуны, на который с таким упованием смотрят историки рассматриваемого нами класса. Тихион вовсе не был языческим храмом. Относительно этого вопроса имеем ясное свидетельство в сочинении Августина «О граде Божием». В новой столице, построенной христианином Константином, говорит Августин (Кн. V, гл. 21), не было воздаваемо почитание ни одному языческому храму, ни одной языческой религиозной статуе (Там же, V, 24). Тот же Августин в этом же сочинении остроумно опровергает языческие доказательства влияния Фортуны и подвергает насмешкам веру язычников в эту милосердную богиню; а затем замечает, что хотя на многих монетах и статуях нередко изображается Фортуна Константина и его христианских преемников, тем не менее эта Фортуна не имеет ничего родственного с Фортуной языческой (Там же, IV, 18). Существенное различие между христианской и древнеязыческой Фортуной – Τύχη, сам Константин ясно выразил в том, что он на статуях Фортуны, на их челе, приказывал делать изображение креста. Это было протестом против языческого понимания тех изображений Фортуны, какие делались христианскими императорами. Следовательно, приписывать Константину на подобных основаниях смешанную религиозность, – христианскую, перемешанную с языческой, – нет основания.
Константин, прибегая к изображению Фортуны, удерживал лишь символический образ из древности преданного представления, причем все специфически языческое оставалось устраненным. При взгляде на великие предприятия Константина, которым сопутствовало всегда необыкновенное счастье и которые привели к единодержавию во всемирной Империи, не найдем ничего удивительного в том, если символ Фортуны стал одним из любимых символов при дворе; этот символ должен был напоминать о том редком счастье, которое стало уделом дома Константинова. Также представляется понятным и имеющим особенный смысл, если статуя Фортуны из древнего Рима переносится в новый Рим.
Мы должны, впрочем, сознаться, что, во всяком случае, эта Фортуна – Τύχη – нимало не симпатична. Было бы, конечно, гораздо лучше, если бы имя Константина не напоминало ни о какой Фортуне. Но мы должны помнить, когда жил Константин, – он жил в эпоху, когда не все языческое еще было забыто.
Так как, впрочем, ни известие Зосимы в вышеприведенной цитате о Константине, «легкомысленно» относившемся к богам, ни заметка Созомена (История, V, 4) никак не дают основания под именем Тихиона понимать собственно языческий храм, то Буркхардт, дабы доказать существование при Константине «особенного культа» в честь этой богини, прибегает к помощи одного позднейшего исторического сочинения – так называемой «Пасхальной хронике».[32]32
Chronicon Paschale. Ed. Bonn.
[Закрыть] Но если бы это и было в научном отношении законно, тем не менее «Хроника» нисколько не помогает Буркхардту (S. 416). Сообразно «божественному приказанию» Константина, – так рассказывается в «Хронике», – в день воспоминания об освящении новой столицы торжественным образом была возима через цирк позолоченная статуя, изображавшая Константина с протянутой рукой, на которой помещена была Фортуна (Τύχη); при этом зрелище император Константин вставал со своего трона и распростирался ниц перед собственным изображением и перед Фортуной (S. 530). Последним выражением – «распростирался ниц» – Буркхардт переводит слова подлинника «προσκυνεΐν». Давнишний писатель о Константине, Мансо, теперь уже почти забытый (его сочинение о Константине появилось в 1817 г.), переводит то же слово еще энергичнее: «Падал ниц с молитвой». Но прежде всего нужно сказать, что προσκυνεΐν вовсе не всегда означает религиозное почитание или моление: κυνεω по его первоначальному смыслу значит «приветствовать», потом значит «через приветствие выражать свою любовь или уважение», и, наконец, вообще «почитать».[33]33
Curtius. Grundziige der griech. Etymol. 1858. Theil. I.
[Закрыть] В приведенном месте из «Хроники», притом же, остается спорным: перед кем собственно выражаются знаки благоговения, перед Фортуной ли, или же перед самим Константином. Наконец, следует вообще знать образ мысли и воззрений византийцев, которые так любили пышные и бьющие на эффект церемонии: как скоро мы примем это во внимание, то поймем, что вся церемония, о которой у нас речь, имела чисто светский характер.
Арианский историк Филосторгий рассказывает, что православные христиане, а не ариане, в известное время в Константинополе устраивали суеверные и языческие церемонии перед большой, сделанной из порфира, колонной, наверху которой находилась статуя Константина (это была статуя, переделанная из статуи Аполлона). Он говорит о своем времени, спустя сто лет после Константина. Однако же уже Фотий не верит рассказу Филосторгия (сокращенная «История Филост.», II, 17). Но если и действительно так было, то нужно заметить, что арианский историк не говорит, чтобы уже Константин авторизовал эти церемонии. Вероятнее всего, что это были пышные церемонии, но вовсе не с языческим характером, как желает представить дело ненавистник православных христиан – Филосторгий. Для большей ясности рассказа Филосторгия нужно припомнить следующее: по преданию, часть Животворящего Креста со времен Константина была сокрыта внутри колонны из порфира.[34]34
Lasaulx. Untergangdes Hellenismus. 1854. S. 48.
[Закрыть] Очень возможно, что христиане, зная это, совершали какие–либо религиозные обряды перед колонной, что Филосторгий в своих целях истолковал в смысле языческих церемоний перед статуей. Совершение религиозных, чисто христианских обрядов около колонны тем естественнее, что историк Никифор Каллист (Церк. история, VII, 49) уверяет, будто в правой руке Константиновой статуи находилось большое золотое яблоко (держава), украшенное следующей молитвенной надписью: «Тебе, Христе Боже, вручаю город сей». Данные, сохраненные Никифором, по нашему мнению, всему делу дают другой смысл, чем дан Филосторгием. Христиане, вероятно, в пышных торжествах совершали моление перед статуей основателя столицы, перед статуей, которая во многих отношениях была для христиан священна, – и ничего больше. Нужно, наконец, твердо помнить, что сам Константин предусмотрительно принимал все меры против какого–либо ложного, суеверного почитания своего лица подданными. Евсевий свидетельствует, что Константин издал запрещение вносить в храмы статуи, которые бы изображали его лично (Жизнь Константина, IV, 16).
Есть ли основание вместе с Буркхардтом (S. 359) допускать, что Константин своим авторитетом утвердил языческий культ в честь своей фамилии, т. е. в честь дома Флавиев, когда он, по свидетельству одной надписи, найденной в городке Спеллоне, позволил устроить храм, посвященный Флавиям? Разве не он, Константин, прибавляет к этому Бригер, служил опорой для языческих жрецов, как для отдельных лиц, так и целых корпораций, позволяя основывать в свою честь коллегии жрецов и удерживая за собой титул Pontifex maximus, «который для Константин был далеко не пустым именем» (S. 20)?
Что касается надписи, найденной в городке Спеллоне, то хотя и должно признать ее подлинность, однако же во всяком случае эта надпись дает весьма мало для выводов Бургхардта и его адептов: из этой надписи видно, что Константин лишь дал позволение построить род триумфального портика в честь фамилии Флавиев.
Если же историки, например Марквардт, определенно говорят (S. 113) о культе Флавиев в Африке, культе, который после смерти Константина будто бы получил особенное развитие, то мы напрасно стали бы искать где–либо в источниках доказательство, что сам Константин разрешил практикование этого культа. Говорим: об этом в источниках нигде ни слова, и тем не менее Буркхардт (S. 359) весьма определенно пишет, что Константин после победы над Максенцием «разрешил устройство святилищ в честь своего рода». Этот писатель в подтверждение своего мнения ссылается на авторитет языческого автора – Аврелия Виктора, но этот последний ничего не говорит такого, из чего бы можно было выводить заключение о санкционировании императором культа «своего рода».
У Буркхардта есть в записке лишь одно косвенное доказательство его воззрения. Вот это доказательство: в Африке «некоторые языческие коллегии жрецов, sacerdotes и фламины, были освобождены от тяжести общественных повинностей» (S. 360). Это правда. Но совершенно не основательно Буркхардт замечает, что будто этих жрецов к несению общественных повинностей хотела притянуть христианская сторона, но что будто их защитником явился сам Константин.
Историк, делая такое замечание, превращается просто в инсинуатора. В тех законах Константина, которые имеют к этому отношение,[35]35
Cod. Theod. XII, tit. 1, № 21; tit. 5.
[Закрыть] дело идет просто о подтверждении прав, какими жреческие коллегии и жрецы издавна пользовались. Вообще здесь нельзя отыскивать никаких указаний на какие–то «языческие симпатии» Константина, так как здесь вопрос о религии к делу совсем не примешивается.
II
Историки, не расположенные к памяти Константина, желая найти в позднейшем периоде его жизни «языческие симпатии», с большим вниманием останавливаются на его отношениях к одному языческому философу из школы неоплатоников. Говорят: языческий философнеоплатоник Сопатр в последний период жизни Константина находился с ним в тесной, очень подозрительной связи. Сопатр, говорит Буркхардт, «неоспоримо был действующим лицом во время совершения освящения новой столицы – Константинополя» (S. 360). «Мы находим его также лицом, действующим в качестве телеста (т. е. совершителя обрядов) и при закладке Константинополя, т. е. он совершал некоторые символические действия, которые должны были магическим образом послужить залогом счастья нового города. Кроме того, ему, Константину, становится известен иерофант Претекстат, вероятно, римский понтифик» (S. 415). Следовательно, замечает Бригер, «при совершении такого дела, которое есть собственнейшее дело Константина, не обошлось без язычества» (S. 20). Также и Мансо уже давно в своем легкомысленном сочинении с торжеством заявлял, что «Константинополь, сколько бы об этом не рассказывали сказок, не был и не должен был быть христианским городом» (S. 64).[36]36
Точное заглавие сочинения Мансо такое: Leben Constantins des Grossen. Breslau, 1817.
[Закрыть] Что касается, в частности, слишком близких отношений Сопатра к Константину, то сведения об этом заимствуются от языческого философа Евнапия, но уже Тиллемон справедливо заподозрил правдивость известий Евнапия.[37]37
Tillemont. Hist, des Impereurs. 1709. IV, 1. 400.
[Закрыть] Евнапий любил хвастаться небывалым влиянием языческой партии и сомнительными отношениями ее к высокопоставленным лицам. Впрочем, что Сопатр действительно делал попытки склонить Константина в пользу язычества, или, по крайней мере, смягчить его отношения к язычеству, об этом довольно ясно говорит историк Созомен (1,18); возможно даже, что на первых порах по основании Константинополя он не чужд был некоторой близости к Константину. Тем не менее позднее, а именно после 330 г., по свидетельству Свиды, император Константин счел себя вынужденным явно и открыто высказаться против искательства язычника Сопатра. Провинился ли в чем Сопатр, или же он встретил себе противодействие со стороны двора – точно не известно; но только несомненно, как свидетельствует Свида, что Константин приказал его умертвить, дабы показать, что он, Константин, «в деле религии отнюдь более не язычник», т. е. что он не имеет никаких связей с древней религией. (В «Лексиконе» Свиды, под словом «Сопатр».) Нельзя отрицать, далее, что известие Иоанна Лида, писавшего в VI в., о том, что Сопатр и вышеназванный Претекстат стояли в каких–то отношениях к Константину во время основания Константинополя – не чуждо исторической истины.[38]38
De mensibus Graec. IV, 2. Ed. Bonn. P. 52.
[Закрыть] Но здесь не говорится прямо, что первый (Сопатр) является при закладке столицы лицом, действующим в качестве телеста, а второй при том же случае в качестве иерофанта. Здесь только мимоходом упоминается «иерофант Претекстат, который телесту Сопатру и владыке Константину оказал содействие (συλλαβών) при основании этого счастливого города». А о торжествах освящения здесь нет никаких известий.
Столь же неосновательно, если Буркхард утверждает, что будто Константин под влиянием языческих симпатий хотел дать новой столице тайное языческое имя, а именно – будто он называл новую столицу именем Флоры или Анфусы, т. е. цветущей (S. 414); это имя, по суждению Буркхардта, перенесено с древней столицы (?) на новую, и Константин будто бы на это именно наименование и указывает, когда говорит, что он по воле Бога одарил город «вечным именем» (Cod. Theod. XIII, 5). Но nomen aeternum в этом последнем месте не имеет никакого другого значения, кроме того, какое оно имеет в вышеуказанной надписи Спеллона, оно имеет лишь отношение к имени императора, который присваивал себе имя aeternus Augustus. В самом деле, всем известно, что новая столица носит имя ее основателя; так было и с самого начала.
При рассмотрении вопроса о том, мог ли Константин дать новой столице какое–либо языческое имя, не следует упускать из внимания следующего обстоятельства: новая столица с самого времени ее основания фактически носила специфический христианский облик, как, напротив, древняя столица – Рим – все еще продолжала носить на себе языческий характер. Подробно об этом говорят Дюканж в своей «Constantinopolis Christiana», Тиллемон и другие. Но кажется, будет достаточно сослаться на свидетельство Евсевия: ибо если он говорит о христианских церквах Константинополя, основанных Константином, о христианских статуях на площадях, об изображении на воротах императорского дворца дракона, побеждаемого крестом и т. д., то едва ли он мог в этих известиях допускать ложь и подлог, ведь он писал для современников Константина.
Нельзя усматривать признаков склонности Константина к язычеству и в том его распоряжении, которым он приказал докладывать себе о мнениях гаруспиков в случае попадания молнии в общественные здания (Cod. Theod. XVI, 11). Здесь нет свидетельства о том, чтобы Константин придавал какое–либо значение языческим предсказаниям. Император хотел знать мнение гаруспиков для того, чтобы лишать языческих жрецов и суеверных лжепророков возможности распространять опасные слухи по поводу вышеуказанных случаев.
Ничего нельзя находить языческого, достойного порицания, и в том, если Константин удержал за собой языческий титул Pontifex maximus. Если мы допустим, что Константин, удерживая этот титул, тем показывал, что он не вовсе отрешился от язычества, тогда мы должны будем объявить нехристианами или полухристианами и Всех его преемников по престолу до Грациана, который, как известно, первый из христианских императоров отказался от этого титула. Нет ни одного, хотя бы самого незначительного факта, из которого было бы видно, что Константин действительно пользовался теми правами, какие давал ему титул языческих императоров – Pontifex maximus, а в случаях такого рода, где Константин мог бы воспользоваться на практике правами понтифика, недостатка не было.
III
Переходим к разбору мнимых доказательств языческого направления Константина, заимствуемых из фактов, относящихся к 313324 гг. царствования этого императора. В этом случае впереди других идет Буркхардт, который в своем прежде названном сочинении во многих местах указывает на то, что будто Константин был поклонником и приверженцем языческого культа Солнца; свидетельства в пользу такого факта немецкий ученый находит в Константиновых монетах, в тех изображениях, какие помещались на их оборотных сторонах, – на реверсах. «Монеты с недвусмысленными христианскими эмблемами, – пишет Буркхардт (S. 349), – монеты, которые отчеканены при Константине, вообще еще не найдены». В «Приложениях» к своей книге этот историк, однако же, под влиянием указаний Бригера, изменяет это мнение и замечает, что монеты с христианской монограммой едва встречаются и относятся к «последним годам» Константина. Относительно же реверсов языческого содержания, в особенности с изображением бога–Солнца, Буркхардт, как в тексте книги, так и в «Приложениях» прямо настаивает, что они, «вероятно, были в употреблении до самой смерти императора».
Мы сейчас увидим, что нет никакого основания полагать, что реверсы с языческими эмблемами переходят границу 324 г., т. е. простираются и на тот период жизни Константина, когда он стал явным христианином, после победы над Лицинием; с другой стороны, мы увидим, что монеты с христианскими изображениями встречаются и в том периоде его жизни, когда он царствовал совместно с Лицинием, следовательно, относятся к довольно ранней эпохе его царствования.
Прежде всего нужно заметить, что Буркхардт, очевидно, слишком далеко заходит, если он к числу языческих реверсов относит не только изображение бога–Солнца (Митры), Аполлона, Марса и Юпитера, но и такие изображения, как Виктория, гений римского народа, и различные «женские персонификации». Против такого произвола мы воспользуемся словами самого же Буркхардта, который именно говорит, что «со времен Авсония (родился в 309 г.) боги чем дальше, тем больше становятся частью простой декорации, частью абстрактными символами для различных жизненных отношений» (S. 149). Но это замечание имеет значение и для времен несколько ранее Авсония. По крайней мере относительно «Виктории» и тому подобных образов в этом не может быть сомнения. Уже в произведениях древнейшего христианского искусства встречается «Виктория», причем делалась следующая специфическая христианская надпись: «А deo datur victoria». «Конкордия» (тоже – «женская персонификация», по Буркхардту) встречалась в среде христианских супругов как символ брачного союза, причем она изображалась вместе с Амуром и Психеей. «Изидин кораблик», встречаемый на монетах Константина, в сущности есть только символ «Фортуны—Виктории», и долго спустя и после Константина был в употреблении.[39]39
Keim. Der Uebertritt Constantins desGr. zum Christenthum. Zurich, 1862. S. 93.
[Закрыть] Что касается «гения» больших городов, например, Рима, Константинополя, то эта эмблема встречается на монетах несомненно христианского происхождения, в сопровождении эмблем христианского характера. Правда, могут возразить, что некоторые из вышеупомянутых эмблем рассматривались отцами Церкви как чисто языческие, и в доказательство укажут на борьбу св. Амвросия Медиоланского против статуи «Виктории», находившейся в римском сенате, но нужно помнить, что этой «Виктории» приносились даже жертвы самими язычниками–сенаторами и притом торжественно. Следовательно, в этом случае дело идет о «Виктории, не как эмблеме, а как языческой богине; и Амвросий вполне справедливо опровергал искусственные доводы защитника «Виктории» сенатора Симмаха, который раскрывал мысль, что почитание воздается не numini (божеству), a nomini (т. е. лишь самой идее, выражаемой статуей богини) (Epist. XVIII, № 31).
По словам Буркхардта, историк должен отказаться от всяких способов защиты Константина при виде того факта, что на монетах Константина повсюду видим следы почитания этим императором богаСолнца. Он находит, будто в этом случае Константин ясно выражает свой «первоначально обращенный к Солнцу, или Митре, деизм», в котором, вероятно, император «думал находить общий, высший и основной образ всех религий» (S. 354). Со «мнимым христианством» Константина, утверждает Буркхардт, монеты, украшенные изображением бога–Солнца, не соединимы (S. 355).
Что сказать об этом культе Солнца? Мнение немецкого ученого о том, что будто при Константине до самого конца его жизни чеканились монеты с изображением бога–Солнца, вполне ясно опровергается императором Юлианом, ибо Юлиан Отступник ставит в упрек Константину то, что он уничтожил (άπολείπων) почитание Гелиоса, и этим будто бы навлек несчастье на свое царство. Буркхардт усиливается доказать свою мысль о том, что Константин был приверженец культа Солнца ссылкой на одно место из сочинений того же Юлиана (Caesares. Р. 144) и выводит отсюда заключение о почитании Константином Селены (Луны), но эта попытка немецкого историка хорошо опровергнута Кеймом (Op. cit. S. 95).
Если взвесим все, что известно о так называемом служении Константина богу–Солнцу, то мы должны будем сказать следующее: нет ни одного доказательства, свидетельствующего, что Константин был адептом культа Солнца, но с другой стороны, должно согласиться с тем, что Константин, несомненно, любил символ Солнца и часто пользуется этим образом в своих публичных заявлениях и на монетах, – по крайней мере, это можно утверждать о периоде его царствования от 313 до 324 г.
Это явление с первого взгляда может показаться странным и подозрительным, но оно находит себе совершенно достаточное объяснение, которое всякого–может успокоить. Будучи язычником на первых порах своей жизни, Константин не только хорошо был знаком с распространенным тогда почитанием Солнца под образами Аполлона (Геркулеса) и Митры (который назывался Sol invictus comes (Солнце непобедимое, спутник (товарищ) (лат.). – Ред.)), но, кажется, и в то время Аполлон с его световыми символами был любимым богом императора. По крайней мере известно, что после победы над франками, в 308 г., он приносит Аполлону торжественную жертву. После известного видения Креста и победы над императором Максенцием Константин обратился к христианству, тем не менее довольно долгое время он обнаруживал некоторое тяготение к внешним формам того же солнечного культа. Он употребляет выражения и образы, заимствованные от этого последнего, чаще всего для целей мирских и политических, для прославления своей власти и престола. В этом, конечно, нет ничего удивительного, ибо люди тогда лишь после продолжительного процесса совсем оставляли колею древних форм. Неоплатонизм тех времен с его одухотворенным культом высшей натуральной силы, под которой охотнее всего подразумевалось Солнце, этот неоплатонизм долгое время господствовал у одних в языке, у других – в мыслях и воззрениях, и мы примечаем то явление, что как христианские, так и языческие писатели, восхваляя личность и деяния Константина, смелой рукой берут сравнения от света и от Солнца.








