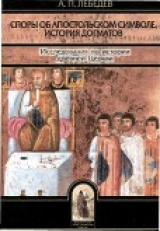
Текст книги "Споры об Апостольском символе"
Автор книги: Алексей Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Для многих, заявляет Гарнак, в настоящее время эти два положения, т. е. что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес, остаются совершенно чуждыми, и многие относятся к ним холодно, – к смерти Христа, потому что не могут представить себе, чтобы смерть человека могла иметь такое неизмеримое значение, а к Его воскресению, потому что, по их сознанию, здесь допускается нечто невероятное. Не наша задача, говорит немецкий ученый, защищать суждение о значении смерти Христа и представление о Его воскресении (мы дальше увидим, что ни в то, ни в другое он не верит), а обязанность историка заключается в том, чтобы изучить оба факта полно и тем дать почувствовать их значение, какое они имели и еще теперь имеют.
Рассмотрим прежде то представление, говорит Гарнак, что крестная смерть Иисуса была жертвой за людей и их грехи. А для этого первее всего напомним об общерелигиозном историческом факте следующего рода: те, которые смотрели на эту смерть как на жертву, вскоре прекратили приносить Богу какие бы то ни было кровавые жертвы. То правда, что значение кровавых жертв уже несколько поколений раньше поставлено было под сомнение и рассматривалось как признак отсталости; но только теперь они совершенно исчезли. Не тотчас они исчезли и не сразу, но во всяком случае в очень короткий срок и именно раньше разрушения Иерусалима (императором Титом). Далее: куда потом не проникала проповедь христианства, там жертвенные алтари запустевали, а жертвенные животные не находили себе более покупателей. Смерть Христова (в этом не может быть сомнения) положила конец кровавым жертвам в религиозной истории. Глубокая религиозная мысль лежала в основе этих жертв; об этом не должно судить, становясь на точку зрения холодных и слепых рационалистов. Но с другой стороны – дело ясное, что это самое стремление, которое выражалось в жертвах, нашло себе удовлетворение в смерти Христа и свой конец. Эта смерть имела значение жертвенной смерти, иначе она не обладала бы могуществом внедриться в тот внутренний мир, из которого возникли кровавые жертвы; притом это не была жертвенная смерть, как другие подобные же, иначе она не послужила бы концом для них: она уничтожила их, потому что она заключила их. Можно сказать даже более: значимость вообще вещественных жертв смертью Христа упразднена. Там, где отдельные христиане или целые Церкви снова допускают себе приносить таковые вещественные жертвы, там уже есть регресс. Древнее христианство хорошо сознавало, что приношение каких бы то ни было жертв уничтожено, и если у него спрашивали, да почему так, в ответ это самое христианство указывало на смерть Христа.
Продолжая раскрытие мысли о значении верования, что смерть Христа есть жертва за грехи рода человеческого, Гарнак далее рассуждает так: никакие рациональные обоснования не в силах изгладить из нравственного кругозора человечества того убеждения, что неправда и грех требуют возмездия и что во всех тех случаях, когда праведник страдает (как страдал и Христос), совершается акт очищающего искупления. Это убеждение неистребимо. Если к сказанному прибавим, замечает Гарнак же, что Иисус Сам называл Свою смерть служением, которое Он совершает за многих, и что Он через особенное торжественное действие установил хранить о ней (смерти) постоянное воспоминание (речь идет, конечно, об установлении Евхаристии на Тайной вечере, в чем скептик–ученый не сомневается, как он об этом прямо и заявляет в данном случае), то мы поймем, делает заключение он, каким образом эта смерть, этот позор креста, занял центральное место в христианстве.
Вот те разъяснения, какие предлагает немецкий церковный историк по вопросу о значении смерти Христа, умилостивительной жертвы за грехи человечества, как понималось это верование во дни апостолов и впоследствии. Мы привели, почти детально, его мысли. Нет слов, они интересны и любопытны. Но мы должны сознаться, что не того мы ожидали от ученого профессора. В самом деле, любопытнее всего вопрос: каким образом возникло в Церкви учение о смерти Христа как жертве за все человечество? Но этот существенный вопрос оставлен Гарнаком почти без всякого разъяснения. Почему смерть Христа так выдвинулась вперед в сознании первохристиан и стала кардинальным пунктом в их веровании, несмотря на то, что эта смерть превращала в прах их надежды на славное царствование Мессии? Нам желательно было бы знать, как следует смотреть: было ли верование в искупительную заслугу Христа истиной или заблуждением в миросозерцании первых христиан и апостолов? Г арнак прозрачными намеками дает понять, что верование – это плод мечты, хотя эта мечта создана и не самими первохристианами… Но если так, то почему эта мечта имела такие важные последствия в истории, а эти последствия указывает и сам Гарнак? Без сомнения, многое разъяснилось бы, если бы он умышленно и насильственно не заставлял молчать евангелистов и апостолов в тех случаях, когда вынужденное молчание их клонится к выгоде его церковно–исторических теорий.
Но мы еще не окончили рассмотрения первого элемента, характеризующего, по Гарнаку, апостольские времена христианства.
Гарнак говорит: Христос не потому только сделался предметом христианской проповеди, что Он умер за грешников, но и потому, что Он воскрес, ожил. Если понимать под этим воскрешением лишь то, что умершее тело снова стало живым по плоти и крови, то такого рода предание не предоставляет чего–либо неожиданного. Но дело обстоит не так, заявляет немецкий историк. Сам Новый Завет различает, с одной стороны, благовестие (der Osterbotschaft) о пустом гробе (интересно: благовестие о пустом гробе! Хорошо же благовестие о пустоте!) и явлениях Иисуса, с другой – веру в Воскресшего (Osterglauben). Хотя высшую ценность придавали вышеуказанному благовестию, однако вера в Воскресшего возможна была и без знакомства с благовестием, о котором сейчас была речь. Известная история о Фоме, говорит Гарнак, рассказывается в Евангелии исключительно с той целью, чтобы подчеркнуть, что может существовать вера в Воскресшего без благовестия о пустом гробе и явлениях Иисуса. Ученики, шедшие в Эммаус, подверглись укоризнам за то, что у них не было веры в воскресение Иисуса, хотя до их слуха еще и не дошло вышеуказанного рода благовестие. Недаром читаем слова: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Господь (т. е. Христос) есть дух, говорит ап. Павел (2 Кор. 3, 17), и на этой истине утверждалась его вера в воскресение Иисуса. Благовестие о Воскресшем возвещает о чудесном событии в саду Иосифа Аримафейского, какого события, однако же, ничей глаз не видел, о пустом гробе (опять этот пустой гроб!), в который вошли несколько женщин и учеников Иисуса, о явлениях Господа в прославленном виде, настолько преобразившегося, что Его не тотчас узнавали Его же ученики, а потом (?) благовестие начало возвещать о беседах и делах Воскресшего: известия становились все полнее и увереннее. Совсем иное представляет вера в Воскресшего, – она есть убеждение в победе Распятого над смертью, в могуществе и правде Божией и в продолжающейся жизни Того, Кто есть первородный в среде многих братий (!). Для ап. Павла основанием его веры в Воскресшего служило то, что Он второй Адам с неба, а равно и то, что Бог открыл ему Своего Сына как живого на пути в Дамаск. Бог открыл Его «во мне» самом, говорит апостол, но это внутреннее явление соединялось с созерцанием Его, т. е. Сына Божия. Знал ли апостол Павел благовестие о пустом гробе (опять!), предлагает себе вопрос немецкий историк и отвечает: знаменитые теологи сомневаются в этом, а я считаю это вероятным, а впрочем, полной уверенности по вопросу невозможно приобрести. Несомненно только то, что Павел и ученики Иисуса решительный вес придавали не тому, в каком состоянии был найден гроб, а явлениям Иисуса. Но кто из нас станет утверждать, что на основании известий ап. Павла (?) и Евангелий можно составить себе ясное представление об этих явлениях? А если этого сделать невозможно и если предание об этих происшествиях не может быть точно достоверным, то каким образом хотят утверждать на них веру в Воскресшего? Или мы должны решиться утверждать свою веру на чем–то колеблющемся, на том, что опять и опять может возбуждать новые сомнения, или же нужно пожертвовать этим основанием, а вместе с тем отказаться от внешнего, чувственного чуда. В представлениях веры коренятся истина и действительность, поучает Гарнак. А что касается благовестил о гробе и явлениях, то за твердое можно принимать лишь следующее: от этого гроба получили свое начало нерушимая вера в победу над смертью и вера в вечную жизнь. (Неужели и только, спросим мы.) Пусть не указывают нам на Платона, на персидскую религию, на предхристианские идеи и сочинения иудейского происхождения (в которых во всех, поясним мы, раскрывалось учение о бессмертии души). Все это прешло бы, осталось бы бездействия, и в самом деле оказалось таковым. Уверенность же в воскресении мертвых и нашей вечной жизни, находясь в тесной связи с гробом в саду Иосифа, не исчезла, а убеждение, что Иисус жив (!), окрыляет еще и теперь надежды на обитание в вечном граде, который только и сообщает ценность этой земной жизни и побуждает переносить ее невзгоды.
Вот как понимает немецкий ученый веру апостольского времени в воскресение Господа Иисуса. Он очень недвусмысленно возвещает, что факта воскресения Христова не было, по крайней мере, ничем нельзя доказать, что такой факт совершился. Пустой гроб, с его точки зрения, ничего не доказывает; но почему он оказался пустым, автор при встрече с этим вопросом красноречиво молчит. О явлениях Христа нельзя составить никакого ясного понятия; сами эти события ставятся под большое сомнение. Величайшее событие воскресения Христа разрешается у Гарнака в верование, усвоенное апостольским веком на сомнительных основаниях. Не будет преувеличением сказать, что это верование, по мысли автора, есть плод пламенного желания первохристиан, чтобы Христос сделался победителем смерти. Но если так, то каким образом из подобного верования мог возникнуть такой крупный исторический факт, как нерушимая вера в бессмертие души всего последующего культурного человечества? А на этом упорно настаивает Гарнак. Но ведь объем заключения является при указанных обстоятельствах больше своей посылки!
Двумя другими элементами, как выражается этот ученый, характеризующими апостольский век, представляются: жизнь всей общины религией и для религии и – святость жизни и братская любовь первенствующих христиан. Гарнак говорит об этих «элементах» очень кратко; а мы можем и совсем оставить без внимания его разъяснения в данном случае, потому что они не представляют собой ничего любопытного и оригинального.
Говорить об апостольском веке и не остановиться с особенным внимание на замечательнейшей личности этой эпохи – апостоле Павле– невозможно. Естественно поэтому, что Гарнак принимает на себя задачу раскрыть историческое значение названного апостола. Он без колебаний называет Павла «всемирно–исторической величиной». В чем же заслуга Павла перед христианством и историей? Павел – это самая светлая личность из истории первохристианства, говорит Гарнак. Но мнения о его значении далеко расходятся между собой. Еще несколько лет тому назад существовал один выдающийся протестантский теолог, утверждавший, что Павел, благодаря своей раввинистической теологии, сделался извратителем христианской религии. Другие, наоборот, считали его, собственно, учредителем этой религии. Однако большинство тех ученых, которые пристальнее изучали его, доказывали, что он был лицом, вполне понявшим Учителя, т. е. Христа, и что он продолжил дело последнего. Это суждение, замечает Гарнак, ближе всего к истине. Те ученые, которые порицали его как извратителя, не могли постигнуть дух этого мужа и видели в нем только одежду и его школьную ученость. А те, кто возносили его как учредителя христианской религии, должны были идеалы, которыми жил он, считать за иллюзию и самообман. Оценивая деятельность ап. Павла, Гарнак говорит, что он один сделал больше, чем все прочие апостолы. Это ап. Павел: 1) высвободил христианскую религию от стеснительных связей с иудейством; 2) определенно уяснил, что Евангелие есть благовестие о совершившемся искуплении и уже наступившем спасении. Он проповедовал распятого и воскресшего Христа, Который открыл нам доступ к Богу и с этим принес правду и мир; 3) с точностью уяснил, что Евангелие должно все преобразовать по–новому и уничтожить религию подзаконную; 4) понял, что новая религия принадлежит решительно всем, и в этом сознании обратился со своей проповедью ко всем язычникам, от иудейства он перешагнул на греко–римскую почву. Он возвестил, что греки и иудеи должны объединиться на почве Евангелия, мало того: указал, что время иудаизма окончательно миновало; 5) будучи природным иудеем и по воспитанию даже фарисеем, выработал для истин нового Евангелия язык, понятный не только для греков, но и для всех людей, а вместе с тем поставил Евангелие в связь со всем тем духовным капиталом, который был собран человечеством в истории.
С особенным одушевлением Гарнак говорит об универсализме христианской религии, универсализме, изъясненном именно в учении ап. Павла.
Сколько нужно иметь ума, проницательности и мощи, взывает немецкий ученый, чтобы оторвать новую религию от ее родной почвы и пересадить ее на совершенно новую! Ислам, возникший в Аравии, остался аравийской религией, куда бы он ни перешел. Буддизм во все времена был силен лишь в Индии. А эта, т. е. христианская, религия, рожденная в Палестине и насажденная ее Основателем на иудейской почве, уже по прошествии нескольких лет отторгается от своей родной почвы. Ап. Павел противопоставил ее религии израильской, возвестив: «Христос есть конец закона». Она не только легко перенесла эту пересадку, но все показывало, что она и создана для этой пересадки. Она сделалась опорой и поддержкой для Римской империи и для всей западной культуры. Если бы кто–нибудь в первом столетии, как справедливо говорит Ренан, сказал императору, что некий маленький иудей, который из Антиохии начал свое миссионерское путешествие, сделается самым лучшим его сотрудником, и что он утвердит царство на прочных основаниях, то такого вестника сочли бы безумным, однако же он сказал бы правду. Павел привнес в Римское государство новые силы и обосновал западно(?) – христианскую культуру. Дело Александра Великого разрушилось, а дело ап. Павла осталось. Восхвалим же этого мужа, говорит Гарнак, который, не будучи непосредственным учеником Христа, в силу собственного духа смело пошел против буквализма; но с неменьшим уважением отнесемся и к тем непосредственным ученикам Иисуса, которые после тяжкой внутренней борьбы наконец усвоили себе принцип и воззрения Павла. Конечно, это дело немалое, что те самые апостолы, в ушах которых еще звучала проповедь их Учителя (Иисуса) и в памяти которых еще жили конкретные черты Его образа, что эти верные Его ученики приняли учение Павла, которое, казалось, во многих случаях уклонялось от первоначальной проповеди и которое провозглашало низвержение религии Израиля. Здесь еще раз с непререкаемой ясностью, и притом в очень короткий период времени, сама история показала, что было зерном и чтб было шелухой. Шелухой была вся иудейская условность проповеди Иисуса; шелухой были Его столь определенно выраженные слова: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 15, 24). В силу духа Христова ученики Его переступили эту границу. Итак, личные ученики Христа, а не второе или третье поколение, когда непосредственное воспоминание о Господе уже поблекло, совершили великое дело. Это есть замечательнейший факт апостольского времени, замечает Гарнак.
Так судит Гарнак об ап. Павле и его значении в истории первохристианства. Нет сомнения, что некоторые его мысли в этом случае замечательны; например, его суждения о необъятно великом культурном значении Павловой проповеди заслуживают полной похвалы. Некоторые слова, сказанные им по этому поводу, можно назвать золотыми словами. Но нельзя не замечать, что в рассуждениях немецкого историка есть довольно и «шелухи». Этот историк без колебаний утверждает, что Павел во многом исправил и расширил первоначальную проповедь Христа, по его выражению – отделил в этой проповеди «зерно от шелухи». Но в таком случае выходит, что ап. Павел должен быть поставлен выше Иисуса Христа! Мысль странная, чтобы не сказать более! Гарнак поступает в этом случае так, как отнюдь не вправе поступать историк. Он утверждает, что будто Иисус Христос не имел в виду распространение Его проповеди за пределами иудейского народа. Но ведь это неправда. Христос, как ясно значится в Евангелии, прямо говорил Своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15), т. е., значит, всем язычникам. И находятся эти слова не в Евангелии от Иоанна, к которому Гарнак не благоволит, а у Марка, которого этот историк считает одним из главных свидетелей дел и учения Христа. Вот куда ведет Гарнака ультра–протестантская его тенденциозность. – Нет оснований соглашаться с ним и в том, что будто бы все апостолы, ученики Христовы, шли на помочах у Павла, этого не–ученика Христова между апостолами. Вопрос о проповедовании христианства и среди язычников решен был апостолами в благоприятном смысле раньше, чем ап. Павел принял христианство. Если же между Павлом и прочими апостолами происходили споры об обращении язычников, то при этом затрагивался совсем другой вопрос. Конечно, все это прекрасно знает Гарнак, но… нужно же чем–нибудь отличиться!
Докончим изложение мнений Гарнака относительно апостольского века.
Павел, говорит этот ученый, превратил Евангелие в универсальную религию и положил основание великой (т. е. вселенской) Церкви, но при этом он не повредил основных внутренних черт Евангелия, как то: безусловного доверия к Богу как Отцу Иисуса Христа, преданности Господу (т. е. Христу), веры в оставление грехов, уверенности в вечной жизни, чистоты и братства. Но по мере того как исчезало первоначальное ограничение (т. е. партикуляризм иудейских воззрений), его место заняли другие ограничения, которые модифицировали простоту и мощь внутреннего движения. К указанию этого–то рода перемен затем и обращается Гарнак.
1. Разрыв с синагогой и основание самостоятельной религиозной общины, Церкви, имели весьма важные последствия. Сам Христос не указал никаких форм, которые должно было бы принять новое общество. Он не обращал внимания на внешнее, но устремлял его на главное и существенное. А потому разрыв Церкви с синагогой вызвал вопрос об устройстве христианского общества; это последнее не могло оставаться бестелесным. Нужны были формы и для общественного богослужения. Церкви, образовавшиеся из язычников, шли впереди других, они создали организм, тело Церкви. И вот рядом с внутренней стороной религии появилась внешняя; образовались церковное право, дисциплина, порядки богослужебные и вероучительные. Главная опасность здесь заключалась в том, что служебные вещи и дела постепенно заменяют тот объект, которому они служат, причем «незаметно достоинство этого объекта они переносят на себя самих». Гарнак не утверждает, что так было уже и во времена апостольские, но, во всяком случае, он не далек от такой мысли. Вот первое возникшее ограничение первоначальной простоты христианской религии.
2. Мы замечали выше, говорит Гарнак, что значение ап. Павла как учителя выражается прежде всего в его христологии. Разъяснив учение о крестной смерти Христа и Его воскресении и провозгласив истину, что «Господь есть дух», он тем самым указывал, что искупление уже совершилось и спасение началось. Таким образом, в учении ап. Павла искупление неразрывно связывалось с Лицом и делом Христа. Но это грозило опасностью для простоты христианской религии. Естественно возникало желание как можно точнее понимать это Лицо и это дело, а с тем вместе вопрос о правильности учения о Христе и о том, что Им совершено, грозил сделаться средоточным пунктом религии и извратить величие и прямоту Евангелия. При таком понимании, какое дал религиозному учению ап. Павел, указанная опасность могла возникнуть – и возникла. И вот под влиянием этого–то учения впоследствии стали рассуждать, как о вопросе наиважнейшем, о том, как создан (?) был Христос как личность (т. е. как Он был рожден в вечности), какую природу Он имеет (споры о природах во Христе) и т. д. Конечно, ап. Павел еще далек был от этих вопросов, но тем не менее ряд религиозных понятий, выработанных им, не мог не влиять в неблагоприятном смысле.
Но при этом следует принять во внимание еще вот что, пишет Гарнак. Павел, стоя на точке зрения мессианской догматики и под влиянием существовавших впечатлений от Христа, основал спекуляцию, что не только Бог пребывал во Христе, но что и Сам Христос обладает небесной сущностью в строгом смысле слова. Находясь среди иудеев, это представление могло не выходить за рамки мессианских идей, но не то было у греков; здесь оно могло порождать совершенно новые мысли в христологии, которые должны были сопровождаться ущербом для Первоевангелия, как и было впоследствии.
3. Новая Церковь имела священную книгу – Ветхий Завет. Хотя ап. Павел и учил, что ветхозаветный закон потерял значение, но он же нашел путь сохранить целиком Ветхий Завет. Какое благословение эта книга принесла Церкви! Как книга назидания, утешения, мудрости и совета и как книга истории она имела несравненное значение для жизни и апологетики. Какая из религий, встреченных христианством на греко–римской почве, может похвалиться чем–либо подобным? И однако же обладание ею не во всех отношениях было полезно для Церкви. Ибо, во–первых, на многих страницах этой книги излагается другая религия и другая нравственность по сравнению с христианскими. Конечно, через перетолкование можно было утончить и одухотворить все несогласное с христианством, но первоначальный смысл таких мест невозможно было окончательно устранить. Возникала опасность, и она действительно наступила, а состояла она в том, что благодаря Ветхому Завету низший, устраненный было элемент снова вторгся в христианство: не говоря о частностях, цель Ветхого Завета была совсем другая, да и религия эта находилась в теснейшей связи с политическим бытием иудейского народа. И если сам ап. Павел в том или другом случае признавал ветхозаветные законы имеющими значение нормы для христиан, хотя и толковал их в аллегорическом смысле, то кто мог положить границы для его преемников идти в этом отношении еще дальше? Во–вторых, многие внешние предписания Ветхого Завета, сами по себе нисколько не соблазнительные, будучи заимствованы из этого Завета, угрожали опасностью христианской свободе вообще и свободе развития церковного устройства и богослужебных и дисциплинарных порядков в частности.
Едва ли нужно делать какие–либо замечания по поводу разъяснения Гарнаком сейчас указанных недостатков апостольского периода Церкви. Все эти недостатки получаются только с условной научной точки зрения немецкого историка. Например, он смотрит на Христа как на простого человека, а потому он не сочувствует тем возвышенным определениям личности Христа, которые встречаются у ап. Павла и в которых Господь описывается как существо божественного характера: он находит, что будто бы такие определения повреждали первоначальную простоту христианства. Или же: Гарнак утверждает, что Ветхий Завет оказывал вредное влияние на образование христианской Церкви и вину этого влияния готов приписывать ап. Павлу. Но нет сомнения, что такие странные мысли могут рождаться только у такого ученого, как Гарнак, который прямо говорит, что во многих местах Ветхого Завета раскрывается иная религия и иное нравоучение, чем какое принадлежит существу христианства. С подобными взглядами Гарнака, конечно, не согласится никто из числа верных последователей христианской религии.
* * *
Второй век. — Апостольский век, говорит Гарнак, остался у нас позади. Мы видели, что в течение этого периода Евангелие отрешилось от родной иудейской почвы и вступило на широкие пути грекоримского мира. Ап. Павел преимущественно был тем лицом, которое совершило это, а вместе с тем христианство перешло в область всемирной истории. Явление это само по себе не было каким–либо тормозом в истории развития христианства. Но тем не менее теперь должны были возникнуть новые формы, и эти формы сделались ограничением и отягощением для христианства. Все это мы ближе узнаем, говорит историк, если мы посмотрим, каким образом христианская религия, постепенно развиваясь, превращается в кафоличество, т. е. становится кафолической Церковью.
Это великое превращение происходит в течение II в. Рассматриваемый период охватывает от 100 до 120 лет (после времен апостольских) и простирается до 200 г. нашей эры. В это время мы видим великое церковно–политическое общество (Церковь), причем каждая из отдельных христианских Церквей выставляла себя как учреждение богослужебное, в котором Богу воздается почитание по торжественному ритуалу. Характеристично выступает уже в этом культовом устройстве различие священников от мирян; некоторые богослужебные акты мог вообще совершать только священник, посредничество последнего сделалось совершенно необходимым. Да и вообще только через посредство такого или другого рода и можно стало приблизиться к Богу, посредством правой веры, правильного служения и святой книги. Живая вера, кажется, превратилась в исповедание (Символ) веры, преданность Христу – в христологию, горячая надежда на Царство (Божие) – в учение о бессмертии и о боготворении (обожении), пророчество превратилось в ученый экзегезис и богогословскую науку, носители Духа (Святаго) – в клириков, братья – в мирян, подлежащих опеке, чудеса и исцеления – в ничто (?) или в искусство священников, теплые молитвы перешли в торжественные гимны и литании, дух кротости – в положительное право и насилие. При этом отдельные христиане, живя среди мира, задавали себе жгучий вопрос: насколько можно приобщаться здешней жизни, чтобы не потерять звания христианина? И этот чудовищный (!) переворот произошел в течение 120 лет! – восклицает Гарнак.
Вот как понимает этот писатель кафоличество Церкви. Кафоличество есть зло; в этом отношении Гарнак не говорит ничего нового, оставаясь на обычной точке зрения протестантов. Но вот что странно: Гарнак сам говорит, что Иисус Христос не дал Своей Церкви никакого устройства, следовательно, она должна была получить это устройство, и действительно очень скоро получила его. А между тем наш ученый недоволен «новыми формами», в которые отлилась жизнь Церкви, явно глумится над ними. В чем же вина Церкви, если она сделала то, что должна была сделать, но сделала вовсе не так, как желал бы он?
Церковь, приняв вид кафоличности, по рассуждению Гарнака, принесла известного рода пользу христианству, но в еще большей мере повредила ему. Какую задачу разрешила эта Церковь, какой услугой ознаменовала себя, спрашивает он и отвечает: она оказала двоякого рода услугу: во–первых, она поборола естественную религию (обоготворение природы), многобожие и политическую (государственную?) религию, во всяком случае сильно оттеснила их на задний план; во–вторых, она победила дуалистическую религиозную философию. Но этим и ограничивается, по словам Гарнака, то доброе, что сделала кафолическая Церковь II в. Что же дурного совершено этой Церковью? Если я не ошибаюсь, говорит историк, три главные момента привело с собой указанное превращение, а с ними соединялось возникновение новых форм.
1. Первый момент соответствует общему закону религиозной истории: его мы встречаем в развитии каждой религии. Если второе и третье поколения скончались, если сотни и тысячи не присоединяются уже к новой религии путем личного обращения в нее, а путем предания и рождения от христиан (вопреки замечанию Тертуллиана: fiunt, non nascuntur Christiani (христианами становятся, а не рождаются (лат.). – Ред.)), если наряду с теми, кто приемлет веру как истинное сокровище, в большом числе появляются и такие, которые принимают ее как какую–то внешнюю одежду, тогда происходит переворот в положении вещей. Тотчас окаменевают формы религии; благодаря такому окаменению они получают некоторое значение, и к ним начинают присоединяться все новые и новые формы.
Так и было, по Гарнаку, во II в. Вот он – первый момент перемены вещей: первоначальный энтузиазм, в широком смысле этого слова, исчезает, и вскоре же возникает религия закона и форм. Если бы и в самом деле течение вещей происходило так, как описывает его в вышеприведенных словах Гарнак (в чем, однако же, позволительно полное сомнение), то спрашивается: при чем тут «кафоличность» Церкви II в.?
2. По суждению Гарнака, в период II столетия исчезает не только первоначальный элемент (энтузиазм), но также и нечто другое. Происходит внедрение эллинского духа, попросту эллинизма, в христианскую религию. Внедрение эллинизма и соединение с ним Евангелия (т. е. христианства) есть величайший факт в церковной истории II в., и оно переходит на дальнейшие столетия, замечает историк. Можно, по его словам, различать три ступени, на которых эллинизм оказывал влияние на христианскую религию – и при этом еще одну подготовительную ступень. Эту подготовительную ступень немецкий ученый описывает так. Пришло время, когда можно было также и на Востоке дышать греческим воздухом, причем духовный горизонт далеко распростерся за пределы каждой нации. Однако же нельзя сказать, чтобы возможно было отыскать в сколько–нибудь значительной мере эллинский элемент, не говоря уже о Евангелии, а и в других древних христианских сочинениях. Этот элемент, если оставим в стороне некоторые заметные следы его у Павла, Луки и Иоанна, должно искать главным образом в возможности появления новой религии (sic!). Но об этом не станем распространяться (почему же, однако?! – А. Л.). Первая ступень действительного проникновения определенных греческих идей и греческого образа жизни относится ко времени около 130 г. Тогда начала внедряться религиозная философия в христианство, и она достигла потом самого центра религии. Она искала внутреннего союза с христианской религией, и, наоборот, сама христианская религия протягивала руки к этой своей сообщнице. Речь идет, заявляет исследователь, именно о греческой философии, а не о греческой мифологии и не о греческом культе, следов влияния которых указать в рассматриваемое время еще нельзя. Только великий капитал, собранный философией со времен Сократа, был воспринят Церковью, и притом осторожно, с большой предусмотрительностью. Но на столетие позднее, около 220–230 гг., находим вторую ступень: теперь уже и греческие мистерии, и греческая цивилизация во всей их широте начинают оказывать влияние на Церковь, – говорим: мистерии и цивилизация, но не мифология и политеизм. Нужно было пройти еще столетию, – и только тогда эллинизм во всей его полноте, со всем тем, чем он обладал, водворяется в Церкви. Разумеется, и при этом со стороны Церкви принимались некоторые меры предосторожности, но они чаще всего состояли только в перемене этикеток (надписей); существо же эллинизма было теперь воспринято безо всяких изменений. Это в особенности нужно сказать о почитании святых, и вот в результате получилась христианская религия низшего порядка. Вторая и третья ступени эллинизирования христианства появились позднее, а во II в. дело ограничивалось воспринятием со стороны Церкви эллинского духа, и именно греческой философии, в частности платонизма.








