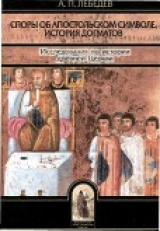
Текст книги "Споры об Апостольском символе"
Автор книги: Алексей Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Факторы, которыми преимущественно хочет объяснить Гарнак происхождение и развитие церковно–исторических явлений тех времен, вместо того чтобы служить цели, создают новые затруднения в деле исследователя–историка. Такими факторами, как показано выше, он считает с одной стороны греческую философию в форме аристотелизма и особенно платонизма, с другой – оригенизм, богословскую систему Оригена. Аристотелизм и платонизм для IV и дальнейших веков Гарнаку представляются тем же, чем был, по его мнению, гностицизм для II и начала III в., т. е. средством к проведению идей языческо–классического мира в недра христианства. А оригенизм с его влиянием на умственную жизнь Церкви, по воззрению Гарнака, был как бы заменой самого христианства. Гарнак как будто бы предполагает, что Церковь, например IV в., лучше знала оригенизм, чем христианство в его источниках – новозаветных писаниях.
Посмотрим теперь, оказывают ли Гарнаку эти факторы ту услугу, какой он ожидает от них.
Влияние платонизма и аристотелизма на умственную жизнь Церкви в том или в другом отношении обыкновенно признается церковными историками. Удобнее допускать влияние аристотелизма даже на раскрытие православного учения в древности, потому что Аристотель мог влиять не своими идеями, а лишь формальной стороной своей философии – диалектикой. Не то дблжно сказать о платонизме. Платон мог влиять богатством содержания его философских идей. И потому допускать значение платонизма в истории христианских догматов надлежит с большой осторожностью. В пылу увлечения можно приписать слишком много значения платонизму в сфере церковной истории. Гарнак отнюдь не принадлежит к особенно осторожным ученым. Он, нимало не сумнясь, говорит: «С IV в. влияние неоплатонизма на восточных богословов было чрезвычайно велико. Церковные теологи и неоплатоники так сближались в некоторых пунктах учения, что между ними было полное единодушие» (Bd. I. S. 678). На каком основании Гарнак так решительно судит? Действительно ли влияние платонизма на христианство – дело ясное? Нисколько. Тот же Гарнак говорит: «На вопрос, какое влияние имел неоплатонизм на историю развития христианства, отвечать нелегко, ибо отношения между ними едва заметны» (Ibid. S. 676). Таким образом, сам же Гарнак предостерегает своих читателей против не в меру доверчивого отношения к его игре платонизмом. Так и будем знать. – Частные примеры, где Гарнак пользуется платонизмом и аристотелизмом для объяснения происхождения и развития того или другого богословского явления, покажут нам, как мало ясности доставляет его суждениям привлечение в качестве исторического фактора греческой философии. Системы Платона и Аристотеля имеют строго определенные специфические отличия. Потому, если на тех или других основаниях кто–либо утверждает, что такое–то явление находится в сродстве с платонизмом, а такое–то – с аристотелизмом, мы понимаем, что именно хотят сказать нам, и имеем возможность проверить высказываемое мнение. Но способен ли нам что–либо разъяснить тот, кто, желая сделать такое разъяснение, будет утверждать, что в том или другом случае отразилось сразу влияние и Платона, и Аристотеля? Так как Платон и Аристотель в древности обозначали собой два различных философских направления в том же роде, как в настоящее время обозначается два существенно отличных мировоззрения названиями «идеализм» и «реализм», то объяснять какое–либо явление сразу влиянием платонизма и аристотелизма, это все равно, что говорить о реалистическом идеалисте или идеалистическом реалисте в наше время. Тем не менее Гарнак так и поступает. В таком именно роде его объяснения сущности учения как Лукиана Антиохийского, так и учения ариан. О Лукиане Гарнак говорит: «К какой философии склонялся Лукиан, это не подлежит сомнению» (т. е. Аристотелевой, поясняет он далее), «а понятие о Боге, – вслед за тем говорит Гарнак, – у него платоническое» (S. 186). А относительно ариан Гарнак делает такие замечания: «Аристотелевский рационализм господствовал в школе Лукиана», откуда вышло много ариан; Арий держался Аристотеля и еще «дальше Ария заходит в пользовании аристотелизмом Аэций» (S. 187); но о тех же арианах немецкий ученый утверждает, что они оставались под влиянием Платона: «Очень сильный платонический элемент находился в том, что было общего в учении у ариан с православными» (S. 187), и в другом месте замечается, что иногда «Арий и его друзья говорили как убежденнейшие неоплатоники» (S. 195). Вот поди и разберись тут! Гарнак думает, что он таким способом поправляет мнение тех ученых, которые развитие православного учения ставят под ферулу платонизма, а развитие арианства под ферулу Аристотеля, но нужно помнить, что можно иногда поправлять к худшему. Положим, ученые, каких он поправляет, неосновательно рассуждают, но во всяком случае они не берутся вести речи о белых арапах и квадратуре круга. – Что касается вопроса о влиянии платонизма или неоплатонизма на мысль представителей Православия, то хотя Гарнак и держится этого взгляда, но опровергать его мы не станем, потому что он не постарался точно доказать, в чем выразилось это влияние. С ясностью он указал влияние неоплатонизма лишь на Синезия Птолемаидского (Bd. I. S. 678), но Синезий, как известно, явление исключительное (он сам был неоплатонический философ), и его мысли не оставили следа в истории православных догматов. Заметим еще против Гарнака: никто из врагов православных богословов не уличал их в зависимости от Платона, как эти богословы уличали, например, ариан в рабском следовании Аристотелю.
Еще запутаннее и страннее рассуждения Гарнака о влиянии оригенизма на догматическое учение и движение в Церкви IV в. Это, правда, не новость, если Гарнак придает очень большое значение Оригену в истории христианской мысли указанного времени; так же поступают и некоторые другие новейшие церковные историки. Но никто не раскрывает этого мнения в таком роде, как Гарнак. У последнего в этом случае опять повторяется история с Платоном и Аристотелем, но еще в высшей степени. Ориген то оказывается влияющим совершенно в противоположных направлениях, то он совместно влияет с такими христианскими мыслителями, с которыми он не имеет ничего общего, то, наконец, по отношению к одному и тому же явлению Гарнак и допускает, и отрицает влияние оригенизма. Если читать сочинение Гарнака, не сопоставляя сходных мест, то получается впечатление стройности развития мысли, но если сравнить, например, несколько мест, говорящих о значении Оригена, одни с другими, то начинаем видеть оборотную сторону медали. Читатель невольно приходит к мысли, что иногда во имя науки делается не разъяснение предметов, а затемнение их. Вот несколько примеров. О Лукиане. «Лукиан исходной точкой отправления имел христологию Павла Самосатского», еретика, до противоположности не схожего с Оригеном; но в то же время Гарнак допускает влияние на Лукиана и Оригеновых воззрений: «В высшей степени вероятно, что изучение Оригена убедило Лукиана в правоте учения о божественном Логосе» (S. 184). Подумаешь, что автор говорит это затем только, чтобы проиллюстрировать афоризм: «Крайности сходятся». Вдобавок ко всему этому, как мы видели, в голове Лукиана рядом с Оригеном (приверженцем платонизма) укладывается «аристотелевский рационализм» – по уверению Гарнака. Об Александре Александрийском. «В Александрии, – говорит Гарнак, – со времен епископствования Петра (нач. IV в.) начинают недоверчиво относиться к научной теологии», т. е. Оригеновой системе богословия. Это, однако же, не мешает утверждать немецкому ученому, что Александр в своих разъяснениях спорного догмата «с особенным предпочтением пользуется терминами, пущенными в оборот Оригеном». При другом случае (S. 174,203) Гарнак делает догадку, что Александр под влиянием древних писателей Мелитона Сардийского и Иринея высоко ценит ту сторону Оригенова учения, которая в особенности была полезна в борьбе с арианством. Невольно возникает вопрос: при чем тут Мелитон, от сочинений которого почти ничего не сохранилось, и Ириней, который как мыслитель имеет мало общего с Оригеном? Эти имена упомянуты здесь совершенно не кстати, но не спроста. Гарнак думает, что на Никейском соборе в его вероопределении отразилось западное богословское течение, а именно воззрения Тертуллиана (?); а так как на Никейском соборе «александрийские богословы» и во главе их Александр действовали единодушно с представителями Запада, то Гарнаку потребовалось, чтобы Александр был знаком с Тертуллианом. Но вот беда: греки не читали латинских писателей. Поэтому Гарнак удовольствовался тем, что заставил Александра познакомиться по крайней мере с двумя древнегреческими писателями – Мелитоном и Иринеем, которые, по мнению этого ученого, сильно влияли на богословие Тертуллиана (как это раскрыто Гарнаком в одном из других его сочинений). Таким образом, по желанию Гарнака, Мелитон и Ириней имели значение, так сказать, суррогата для Александра, они заменяли для него Тертуллиана. Как бы то ни было, Александр, епископ Церкви, нерасположенной к Оригену, так или иначе был знаком с Оригеном, утверждает Гарнак. Но в конце концов оказывается, по заявлению Гарнака, что «Александр был почти независим от Оригена» (nicht durchweg abhangig). Такие разъяснения, согласитесь, в состоянии затемнить самый ясный предмет. Об Афанасии Великом. «Основная мысль его учения, – говорит Гарнак, – не нова; уже Ориген с особенным ударением раскрывал учение о единстве Сына с Отцом»; и еще: «Афанасий стоит на почве оригенистической теологии»; но вдруг оказывается, по словам Гарнака, что «Афанасий стоял на другой почве», чем Ориген. В таком же роде суждения Гарнака и об Арии. «Арий, – пишет немецкий ученый, – стоял на почве оригенистической теологии»; «космологическо–причинное мировоззрение Оригена было усвоено Арием» (и даже Лукианом); учение о свободе воли человека ариане раскрывали под влиянием Оригена (S. 220). Но все это не мешает Гарнаку решительно утверждать, что «очевидно, доктрина Оригена не образует основоположения системы» арианства (S. 218). Так пользуется Гарнак Оригеном в своих разъяснениях происхождения и развития некоторых сторон истории догматов. Оригенизм, по намерению автора, должен был объяснить очень многое – в качестве фактора исторического движения. Но на самом деле влиянием Оригена можно объяснить далеко не все, что хочет поставить под это влияние Гарнак. Это заставляет его делать ограничения, очень похожие на отрицание того, что утверждает сам автор. Ничего такого не было бы, если бы автор фактором, заправлявшим движением христианской мысли, признавал само христианство или общее церковное сознание, обладавшее твердыми религиозными убеждениями, и не только не подчинявшееся каким–либо системам того или другого богослова, но и подвергавшее строгой оценке эти системы с точки зрения живой, многосодержательной и твердой христианской веры. Христианства с его мощью, с такими или другими отношениями к нему христианского общества совсем както не видно в книге Гарнака.
Если бы Гарнак правильно понимал христианство, то оно являлось бы у него силой, руководящей ходом истории, а такие исторические факторы, как аристотелизм и платонизм с оригенизмом получили бы значение направлений, так или иначе оттеняющих разнообразные облики церковно–исторических явлений.
Теперь обратимся к рассмотрению того процесса, какой пережила, по мнению Гарнака, христианская догма в IV в. Этот ученый понимает так, как будто бы история догмы данного времени основывалась лишь на случайностях и борьбе противоположных влияний. Сейчас увидим, как много путаницы и как мало ясности вносит взгляд Гарнака, проведенный там, где для него нет места.
В предыдущих замечаниях мы сделали достаточную оценку тех разъяснений Гарнака, которые служат у него прелюдией к истории Никейского собора, почему мы можем прямо обратиться к оценке понимания Гарнаком догматической деятельности этого собора. Взгляды этого ученого в этом случае, как и других, отличаются тенденциозностью. Он безо всякого колебания приводит свидетельство арианского писателя Савина о необразованности отцев Никейского собора, не принимая во внимание, что свидетельство принадлежит явному врагу Православия, следовательно, человеку пристрастному. Неуспех деятельности Евсевия Никомидийского на соборе, хотевшего добиться утверждения здесь – в качестве обязательного верования – строго–арианского учения, Гарнак объясняет «тактической ошибкой» указанного арианского епископа. Выходит, таким образом, что поведи Евсевий дело иначе, более ловко и искусно, его предприятие имело бы, пожалуй, другой конец. Здесь ясно сказывается ученый, который под христианской истиной понимает не что другое, как случайно возобладавшее мнение известного рода христианских мыслителей над мнением прочих лиц христианского мира. Опровергать подобное воззрение нет надобности. Оно опровергается самой историей христианской Церкви, показывающей, в какой строго логической последовательности шло раскрытие христианских догматов в IV, V и VI вв. Неосновательно также утверждает Гарнак, что будто Символ Евсевия Кесарийского, в качестве примирительной между спорившими формулы, представлял что–то такое, лучше чего нельзя и придумать. История этого Символа показывает, что он не имел никакой будущности. В дальнейшей истории арианства он совсем не встречается. Если бы он обладал достоинствами, какие ему приписывает Гарнак, то он, конечно, был бы принят позднее каким–либо арианским собором, стремившимся к слиянию церковных партий, принят, как случилось это с Символом Лукиана, но ничего такого история не знает. Из этого видно, что Гарнак не в меру преувеличивает достоинства Символа Евсевия. Но самое главное в истории собора составляет, конечно, принятие этим собором термина «единосущный» с известным определенным значением. Кому принадлежит мысль воспользоваться этим термином на соборе в борьбе с арианством? Этот же вопрос предлагает себе и Гарнак, но ставит его, сообразно своей точке зрения, много шире; он дает ему такую постановку: откуда взялся не только самый термин, но и кем развито (изобретено) связанное с этим термином учение о единстве Отца и Сына по существу? Ответ на вопрос у Гарнака напрашивался двоякий. Во–первых, он припомнил, что термин «единосущный» употреблялся гностиками для выражения отношений Демиурга к верховному Богу; «в словах гностика Птоломея, – замечает он, – уже заключалась церковная терминология будущего времени» (S. 193). Но известиями о гностиках немецкий ученый почему–то не воспользовался при изложении истории Никейского собора; вероятно, никак не удавалось ему провести прямой линии между учением гностиков и деятельностью собора. Для того чтобы объяснить, откуда ведет свое начало учение о единосущии Сына с Отцом, Гарнак придумывает хитроумнейшую комбинацию. Он доказывает, что никейское учение создалось под влиянием западной христианской мысли; а это влияние оказано на соборе при помощи Осии Кордубского. Но Осия Кордубский провел на соборе не догматическое мнение своей Испанской или самой Римской церкви, а взгляды Тертуллиана, учившего, что Отец, Сын и Св. Дух unius substantiae (S. 229–230). Итак, Никейский собор раскрыл учение о единосущии Отца и Сына под влиянием учения Тертуллиана!! Кому могло прийти это в голову? Взгляд Гарнака представляет такую несообразность, что в первую минуту затрудняешься, что сказать в опровержение такого странного взгляда. Тертуллиан – и Никейский собор? Согласимся, что собор действовал под влиянием Тертуллианова учения. Ведь нужно, чтобы это учение знали греческие отцы собора, а знали ли они его? Конечно. Гарнак для большего правдоподобия своей гипотезы очень сильно подчеркивает значение «воли» императора, находившегося под влиянием Осии, но известно, что император Константин никогда не действовал деспотически, и этого не может не признавать и Гарнак. Поэтому немецкий ученый должен был выбрать другой путь для разъяснения вопроса, каким образом греческие отцы собора могли познакомиться и усвоить идеи Тертуллиана. Средой, послужившей проводником западно–тертуллиановых идей, была, по Гарнаку, Александрийская церковь и в особенности «александрийская партия» собора. Из кого состояла эта партия, Гарнак точно не определяет, но во всяком случае главой ее был Александр Александрийский. Автор употребляет усилия к тому, чтобы доказать, как мы видели выше, что Александр был знаком с Тертуллианом, так сказать, в самых источниках: он читал, по мнению автора, Мелитона и Иринея, влияние учения которых на Тертуллиана – несомненный факт для Гарнака. Александр, по суждению автора, точно, впрочем, невысказанному, будучи знаком с источниками Тертуллианова учения, очевидно, мог познакомить и прочих отцев собора с этим учением, особенно если принять во внимание близкие отношения Александра к Осии. Вот тот мудреный, почти сказочный путь, каким познакомились отцы собора с учением Тертуллиана, а познакомившись с ним, решились выразить его в никейском вероопределении. Разбирать ли эту гипотезу Гарнака? Нет, не стоит. Ибо, во–первых, Гарнак отнюдь не доказал, что Александр был действительно знаком с сочинениями Мелитона и Иринея; во–вторых, к чему строить такую странную гипотезу о происхождении никейского учения о единосущии Сына с Отцом, когда для пастырей Церкви, хорошо изучивших Евангелие от Иоанна, не могло быть ни малейшего сомнения в этом догмате? А что касается вопроса, почему отцы собора остановились своим вниманием на термине «единосущный», для выражения православного учения, то как бы ни решали его ученые, всегда останется несомненным, что само православное учение заимствовано не из какого–нибудь Тертуллиана, а из чистейшего источника: новозаветного Откровения.
Как ни малопонятна гипотеза о проведении западных идей Тертуллиана на Никейском соборе, при посредстве «александрийской партии», для Гарнака эта гипотеза служит точкой отправления в дальнейших его рассуждениях. Руководясь этой гипотезой, он утверждает, что образовалась после Никейского собора какая–то римскоалександрийская (или западно–афанасианская) партия, которая, наперекор другим богословским партиям, сильно поддерживала и защищала тот вид церковного учения о Сыне Божием, какой это учение получило в Никее. Этого учения придерживался на соборе и некоторое время после собора Константин Великий, заявляет Гарнак, а потом будто бы этот государь, когда хорошо ознакомился с Востоком и увидел, что здесь никейское учение, как продукт Запада, не пользуется популярностью, перешел на сторону чисто восточного учения о Сыне Божием, учения, утвердившегося здесь с давних пор. Ясно, какое именно учение в настоящем случае имеет в виду Гарнак. Он подразумевает оригенистическое понимание догмата, характеризующееся наклонностью к субординационизму и более ясному различению лиц Св. Троицы. Это учение, как видно из дальнейшего течения речи Гарнака, имело одержать победу над чисто никейским учением. Начало движения против этого последнего и положено Константином. Чем доказать, что Константин, поселившись на Востоке, вскоре приходит к перемене убеждения – этого Гарнак не поназывает. Равно не видно у того же автора: в чем обнаружилась такая перемена в самой деятельности императора. По всей вероятности, Гарнак имеет в виду следующие факты: возвращение Ария из ссылки, ссылку Афанасия в Галлию, деятельность соборов, направленных против Православия. Но все эти факты могут иметь для себя более простое и более основательное объяснение, чем какое дает им Гарнак. Сущность этого объяснения легко находить в каждом курсе церковной истории, написанном без тенденций. Повторять здесь это объяснение считаем лишним.
То древнее учение, на сторону которого стал Константин вскоре после Никейского собора, когда он лучше ознакомился с религиозным направлением Востока, не оставалось, по суждению Гарнака, без существенных изменений: чем дальше шло время, тем больше оно преобразовывалось, пока не появилось то, что этот ученый называет нелепым именем «нового Православия». В создании этого «нового Православия» главным образом участвовали отцы–каппадокийцы (Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский). Сущность нового Православия заключалась, по Гарнаку, в том, что Сына Божия стали считать не столько единосущным Отцу, сколько подобосущным Ему. В раскрытии этого учения каппадокийцы будто бы шли, по уверению рассматриваемого ученого, за Василием Анкирским. Что эти взгляды Гарнака не заключают в себе ничего серьезного и основательного, это выше всякого сомнения. Если мы захотим дать себе ясный отчет: на каких основаниях Гарнак желает превратить православнейших каппадокийцев в какихто омиусиан, чуть не полуариан, то увидим, что эти основания в высшей степени произвольны и шатки. Василия Великого Гарнак причисляет к приверженцам омиусианства на основании подложного письма этого святителя к Аполлинарию Лаодикийскому, в котором первый заявляет себя сторонником формулы (о Сыне Божием): «подобен по существу» и ратует против слова «единосущный» (S. 255). Вот главный и чуть ли не единственный аргумент, пользуясь которым Гарнак признает Василия «подобосущником». Письмо неподлинно, и этим решается вопрос о значении аргументации! Правда, Гарнак объявляет это письмо подлинным, но ему в этом случае ни один беспристрастный человек не поверит: письмо противоречит прочим произведениям святителя и ставит Василия Великого в положение малосведущего ученика в отношении к Апол•линарию, в положение, недостойное ученейшего святителя. Что касается принадлежности Григория Богослова и Григория Нисского к числу защитником омиусианства, то Гарнак даже и не пытается приводить оснований, почему он приписывает им такое намерение.
О Григории Нисском он замечает, что его можно считать омиусианином «не в прямом смысле» (nur undirect). Другими словами: автор сам не знает, почему считает этого Григория подобосущником. А о Григории Богослове автор и совсем не упоминает в данном случае, понятно, за отсутствием даже призрачных оснований. Вот как Гарнак доказывает принадлежность каппадокийцев к омиусианам. Из того, что мы сейчас изложили, видно: сколько справедливости заключает в себе утверждение этого автора, что будто каппадокийцы, являясь поборниками омиусианства, послушно шли по стопам (полуарианина) Василия Анкирского. Мы решительно не можем понять, вследствие каких соображений Гарнак так возвеличивает почти неизвестное имя Василия Анкирского перед действительно великими именами каппадокийцев? Уж не тем ли руководится в этом случае Гарнак, что Василий Анкирский действительно очень отчетливо раскрыл учение о подобосущии, чего не сделали каппадокийцы, к неудовольствию немецкого ученого? Гарнак так преувеличивает значение Василия Анкирского, что влиянием его доктрины объясняет сущность догматической деятельности II Вселенского собора. Такого абсурда еще не говорил, кажется, никто. Но мы забегаем несколько вперед… Для Гарнака не только существует то «новое Православие», которое он сочинил; но он даже занимается вопросом: в каком отношении Афанасий Великий, главный представитель «древнего Православия» (западно–афанасианского учения, или никейского), стоял к «новому Православию», как будто это последнее в самом деле представляет исторический факт. По суждению Гарнака, сначала Афанасий как будто показывал расположение к «новому Православию», а потом стал выражать недовольство этим явлением. Для подтверждения первой мысли Гарнак указывает на Александрийский собор 362 г., составившийся под главенством Афанасия, а для подтверждения второй мысли ссылается на отношения александрийского святителя к Мелетию Антиохийскому. Но Александрийский собор отнюдь не показывает, чтобы Афанасий чем–нибудь поступился из своих догматических воззрений: на нем святитель действительно показывает себя мягким и снисходительным к покаявшимся лицам из числа ариан, но отсюда еще далеко до какого–то расположения к «новому Православию». Что касается отношений Афанасия к Мелетию (S. 260), то если мы и согласимся с Гарнаком, что дружественные отношения его к этому епископу сменились потом на холодные, все же отсюда ничего нельзя извлечь для гипотезы Гарнака.
История II Вселенского собора, по рассуждению Гарнака, составляет важнейший момент борьбы между «древним Православием», или западно–афанасианским учением, и «новым Православием», борьбы, закончившейся победой этого последнего над первым – по крайней мере для Востока. Ново, но неосновательно. В этом отношении автор очень большое значение придает личности Феодосия Великого, при котором был II Вселенский собор. С Феодосием, по словам немецкого ученого, случилось подобное же, что раньше было с Константином. Он держался на Западе западно–афанасианских воззрений, а на Востоке перешел на сторону «нового Православия». В действительности таких приключений с Феодосием, по словам автора, удостоверяют исторические факты. Главным из таких фактов Гарнак считает то, что в бытность Феодосия на Западе, особым указом ограждая православную веру, выразителями этой веры он объявляет Римского и Александрийского епископов, а по водворении на Востоке тот же Феодосий, другим указом ограждая ту же православную веру, выразителями этой веры объявляет не папу Дамаса и Петра Александрийского, а авторитетных архипастырей Востока. На беспристрастный исторический взгляд сейчас указанный факт значит следующее: на Западе Феодосий признает папу выразителем Православия, потому что папа был главнейшим епископом Запада, и присоединяет к этому имени имя Петра Александрийского, потому что епископов Александрийских со времен Афанасия на Западе знали больше, чем других восточных епископов; прибыв же на Восток и издавая здесь религиозный эдикт, он перечисляет важнейших епископов Востока, так как они были руководителями II Вселенского собора и их на Востоке хорошо знали и высоко ценили их заслуги перед Церковью. По–видимому, факт нисколько не мудреный. А между тем на основании его Гарнак считает Феодосия переметчиком в вере и каким–то сторонником «нововерия» в ущерб староверию. Прочие взгляды немецкого ученого на II Вселенский собор в подобном же роде, т. е. они также лишены серьезного научного значения. Константинопольский символ, который, по мнению автора, хотя и не есть . произведение II Вселенского собора, но служит выразительнейшей характеристикой деятельности этого последнего, представляет собой, как уверяет немецкий ученый, «унионную формулу», имевшую целью примирить православных, полуариан и духоборцев. Это замечание Гарнака заключает в себе верную мысль, но только она донельзя извращена. Догматическая деятельность собора имела счастливый успех; после собора полуариане и духоборцы довольно быстро воссоединяются с Церковью. Средостение ограды рушится. Это – историческая истина. А Гарнак на основании ее приходит к странной мысли, что будто самый символ Константинопольский или учение собора изложены были так, что должны были понравиться и еретикам. Эту мысль он хочет обосновать документально, но, по обыкновению, весьма неудачно. Он утверждает, что ради удовлетворения полуариан в Константинопольский символ не вставлены слова «из сущности Отца», слова, которые заключались в Никейском символе, но которые были предметом протеста со стороны арианствующих; а для примирения духоборцев (македониан) с православными, по мнению Гарнака, учение о Св. Духе изложено так, что могло быть принято и этими еретиками. Но слова «из сущности Отца» (Сын) опущены в Символе вовсе не из уступчивости полуарианам. Выражение «единосущный» и слова «из сущности Отца» в существе дела тождественны по своему смыслу. Достаточно было удержать первый термин в Символе, как и сделано на соборе. Даже можно сказать, что слова «из сущности Отца» несколько беднее содержанием, чем термин «единосущный». Выражение рожденный «из сущности Отца» указывает, что Сын действительно родился от Отца, но продолжает ли Он и потом оставаться в единстве с Отцом, это не совсем ясно, а между тем термин «единосущный» очень полно выражает эту последнюю мысль. Что касается изложения учения о Св. Духе в Символе, то назвать это изложение благоприятным для духоборцев невозможно. Духоборцы не допускали такого равенства Духа с Отцом и Сыном, какое раскрыто в Символе. Правда, можно возражать, почему Св. Дух в Символе не назван прямо «единосущным Отцу», но нужно помнить, как много было споров из–за слова «единосущный» в IV в., чтобы понять, почему этот термин не употреблен в Символе в изложении учения и о Святом Духе.
После этих разъяснений понятно: имел ли право Гарнак писать, что «восточное Православие 381 г. есть нововерие, которое, удерживая слово «единосущный», в то же время не держалось Афанасиевых убеждений относительно веры». Если бы II Вселенский собор провозглашал «новое Православие», то на Западе, где утвердилась, по мнению Гарнака, «старая вера», не приняли бы Константинопольского символа, но этого не видим.[13]13
При окончании изложения воззрений Гарнака на историю Церкви IV в. мы указали на его воззрение относительно учения о Св. Духе. По его суждению, учение это в том виде, как оно утвердилось в Церкви, возникло не раньше IV в. Что сказать на это? Не будем приводить свидетельств богодухновенных и церковных писателей (I—III вв.), раскрывающих мысль о божественном достоинстве Св. Духа. Против каждого из этих писателей с его свидетельствами в колчане немецких ученых готова явиться ядовитая стрела протестантской критики. Но кажется, никто ничего не может возразить против того факта, что со времен апостольских крещение совершалось: «Во имя Отца, Сына и Св. Духа» – без сомнения, вследствие веры в равное божественное величие и могущество всех трех лиц Божества.
[Закрыть]
Всякий согласится, какое великое множество несообразностей наговорено Гарнаком относительно истории IV в., но самое несообразное заключается в следующем: во–первых, он утверждает, что в раскрытии и формулировании никейского учения видно влияние Тертуллиана; во–вторых, он заявляет, что «отцом церковного учения о Св. Троице, в том виде, как оно утвердилось в Церкви, был не Афанасий, и даже не Василий Кесарийский, а Василий Анкирский»(курсив в подлиннике).
При одном случае Гарнак говорил: «Действительная история часто причудливее и эксцентричнее (capricioser), чем басни и сказки» (Bd. I. S. 680).
Не знаем, можно ли в самом деле утверждать это относительно действительной истории, но несомненно очень можно – относительно «сочиненной» истории. Самый блестящий пример, доказывающий верность этой последней мысли, представляет «история» самого Адольфа Гарнака.








