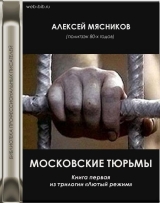
Текст книги "Московские тюрьмы"
Автор книги: Алексей Мясников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 44 страниц)
В Бутырке он сидел в больничном крыле, в спецкамере человек на шесть. Трудно разобраться, по какому признаку водворяют вместе на спец – настолько разная публика. Интеллигентный хозяйственник и дворовый жулик, блатной урка и психопат-убийца. Женя с изумлением рассказывал об экземпляре homo sapiens, о существовании которого раньше не подозревал. Зовут Витя. Познакомились так. Женю заводят в камеру, и некуда сесть. Кровати заняты, за столом люди. И никакого внимания. Положил скатанный матрац на пол, осмотрелся. «Эта! – кричит ему с нижней кровати лихой молодец. – Подь сюда!». Женя подходит. «Принеси воды». «Ты болен?» – деликатно осведомился Женя. «Я что сказал? – парень делает страшную рожу и пальцы вилкой, – Моргалы выколю!». «А, вот ты о чем! – догадывается Женя. – Если ты, сопляк, еще раз назовешь меня на ты, я тебе мозги вышибу. Чего вылупился? Вставай, помоги устроиться!». Парень моментально преображается. Добровольно уступает свою кровать, стелит себе на полу. Женя его удерживает: не надо, он сам будет на полу, пока не освободится место. Куда там! Парень, оказывается, очень уважает старших. «Люблю сильных и умных, таких, как ты» – признается он Жене. Разговорились.
– У меня брательник такой. Мы с ним как две капли. Знаешь, какой брательник? Во дворе в домино без очереди. Три ходки сделал! И завязал. Ему больше не надо. Ложки есть, вилки есть, жена – на месте, квартира – живет, как король! У меня это вторая ходка, надо до 30 еще одну, и тоже завяжу.
– Зачем тебе, Витя, три ходки?
– Kaк у брательника, чтоб во дворе уважали. Две ходки не то, с третьей считаешься в авторитете.
Отца Витя не помнит. Мать пьяница. Старший брат сгинул на очередной отсидке, давно никаких вестей. Сестра – проститутка, тоже бегает от милиции, теперь неизвестно где. Один в семье «путевый» – средний брат, с которого делает свою жизнь Витя. Преступления Витя совершает нарочно, только чтоб отсидеть. Иначе в их кругу – всю жизнь пацан и никакого уважения. В этот раз отдохнул от первых полутора лет и решил, что подошло время для второй ходки. Поставил на уши хату, как он выражается, науськал двух ребятишек лет десяти залезть в квартиру одинокой женщины в соседнем доме. Взяли что попало: халат, туфлишки, кофту. Витя все забрал себе. Пацаны обиделись, жалуются во дворе. Кофту Витя подружке подарил. Та на радостях ходит по двору, счастью своему не верит, форсит. Увидела свою кофту обворованная соседка: «Сымай!» Пацаны все рассказали. Витя не отпирается. С чувством исполненного долга поехал в тюрьму. «Ты кто?» – спрашивают Витьку в камере. Он гордо отвечает: «Вор!»
Парень, говорит Женя, добрый и безобидный. Но ужасно хочет быть не хуже людей. А кроме среднего брата, других образцов для подражания не знает. Самое интересное, что не из далекой глуши Витя – живет почти в центре Москвы, в старых дворах близ Таганки. Образование 8 классов. И совершенно иной мир, мир московского дна, о существования которого я тоже, признаться, не знал.
В ту пору много было шума о выстрелах в центре Москвы, на Калининском проспекте в ювелирном магазине «Кристалл». Писала «Московская правда», сообщало телевидение. Среди белого дня в магазин вошел молодой человек и, наставив на кассиршу пистолет, потребовал деньги. Кассирша нажала кнопку сигнализации и замертво осела под пулями. Ранен вбежавший в зал милиционер. Газеты и телевидение сообщали о героизме убитой кассирши, о подвиге раненого милиционера и практически ничего о преступнике. Маньяк. Кто, откуда зачем он это сделал – ни слова. Да как-то и не очень задавались: преступление настолько жестоко и безрасудно, что не возникало сомнений в том, что его мог совершить только сумасшедший. Но молодой человек, оказывается, вовсе не был сумасшедшим. Женя какое-то время сидел с ним в одной камере. Его звали Павел, он окончил философский факультет Московского университета, был директором сельской школы у себя на родине, в Орловской области. Мечтал поступить в аспирантуру института социологии. Несколько раз пытался и неудачно. В отделе аспирантуры намекнули, что нужно четыре тысячи. Астрономические деньги для сельского учителя. Ошеломляющее предложение для комсомольца-идеалиста, каким был Паша. Он был потрясен не суммой, а требованием взятки. И где? В святая святых, в храме академической науки, на которую он молился. В цитадели молодой отечественной социологии, с которой связывалась надежда подлинного изучения реального общества. Воспитанный на идеалах научного коммунизма, в том же духе искренне учил деревенских детей. Недостатки реальной жизни относил к разряду временных, больше связывал с особенностями местных условий Орловской области и беззаветно верил, что они будут преодолены под руководством партии и ученых-социологов на пути к светлому будущему. Он мечтал учиться у этих социологов. Несколько лет подряд штудировал книги, готовился в аспирантуру, сдавал экзамены, не проходил по конкурсу, снова готовился. Он-то думал, что дело в знаниях, что надо лучше готовиться, а дело, оказывается, в пустяке. Не знания нужны, а деньги. В заоблачной выси марксистской академической науки он неожиданно наткнулся на ту же грязь, на те же взятки, отвращение к которым, может быть, определило его призвание к коммунистическим идеалам, к активному участию в совершенствовании общественных отношений. Там, где светлые профессорские головы озаряют путь к светлому будущему, его окунают в дерьмо ничем не лучше родного орловского. Паша был идеалист. Всю жизнь его учили презирать деньги. Такой пустяк. Он знал, где есть лишние деньги. Раздобыл самодельный пистолет и пошел в ювелирный магазин «Кристалл».
– Но почему днем, почему на Калининский, где на каждом метре мент? – спрашивали сокамерники.
– Я об этом не думал. Мне нужно было четыре тысячи, и я пошел туда, где без них не обеднеют. У меня была цель – аспирантура. Говорили готовиться к экзаменам – я готовился. Сказал, что надо четыре тысячи, – я пошел за деньгами.
– Ho зачем ты стрелял в кассиршу, пожилую женщину, неужели не жалко?
– Нет. Я не видел женщину. Передо мной было препятствие, и я его устранил.
Раскольников нового, советского образца. Сюжет, достойный пера Федора Михайловича. Молодой человек чувствует в себе способности, он стремится быть максимально полезным обществу. Для этого нужны деньги. Он идет туда, где деньги выбрасывают на красивые безделушки. Он знает, что имеет высшее право на эти деньги. И если мир несовершенен, если ему не дано улучшить его, то пусть он будет жертвой несовершенного мира, чем жить и приспосабливаться в нем.
Преступление директора школы, выпускника философского факультета Московского университета зарубежное радио комментировало как признак идеологического кризиса в СССР. На обследовании в психиатрическом институте имени Сербского врач в форме полковника, не обнаружив у Паши психических отклонений, сказал: «У тебя единственный шанс выжить – коси!» Советский контрпропаганде нужна была версия маньяка, сумасшедшего. Паша отказался. «Тебя же расстреляют! – ахнули в камере. «Ну и что? Я не боюсь» – спокойно отвечал Паша. Потом его куда-то перевели и, по слухам, расстреляли.
– Нормальный умный парень, – удивлялся Женя, – фанатик, конечно, потому что живет по идее, а в остальном – совершенно никаких сдвигов.
Любопытно, как там Лена – зав. отделом аспирантуры института социологии? Правда ли все это? Насколько я знаю, она – девушка без комплексов. Поневоле задумаешься о происхождении лениного шарма, о дорогом перстне на пальчике, вспомнишь крутую обтяжечку обольстительных импортных штанов – неужели это стоит четыре тысячи? Несомненно, в институте, как и у каждой молодой хорошенькой, у нее были свои протеже. До сих пор меня они не интересовали. Но сейчас любопытно – кто? Сколько могу сейчас судить, в институте социологии дело замяли, но Лена там уже не работает.
Много говорили о знаменитом, тянущемся который год деле «рыбников» или «океанщиков». В Бутырке сидел зам. министра рыбной промышленности Рытов, в Лефортово – начальник управления Денисенко. Втянуты сотни людей, практически все крупные морские рыболовные пароходства, бассейны, вплоть до самого министра Ишкова. А началось, как говорят, с Фишмана, директора магазина «Океан», около метро Щербаковская. Вроде бы уехал туристом в Югославию, и в его отсутствие, якобы случайно, уборщица обнаружила в магазине тайник с несметными деньгами. Откуда у директора магазина завалявшийся миллион? Когда Фишман приехал, его об этом спросили в КГБ. Договорились, если Фишман будет молчать, его приговорят к высшей мере, если во всем признается – не больше пяти лет. Фишман назвал десятки имен. Дело закрутилось по всем магазинам фирмы «Океан», перекинулось в главки и министерство рыбной промышленности, захватило все пароходства и загранфлот. Много было всего, но чаще говорили о нелегальных поставках икры на внутренний и внешний рынок. Официально икра поставлялась в селедочных банках, и вся выручка от продажи оседала в карманах предприимчивых людей. Размах рыбной коррупции, величина наживы, отлаженность подпольной системы поражали воображение видавших виды следователей. Более крупного хозяйственного дела советское правосудие, наверное, еще не знало, Фишману, как и обещали, дали пять лет. Но в ходе начавшихся расследований всплыл какой-то мелкий эпизод, по которому возбудили новое дело, и Фишман получил все пятнадцать. Новое дело вела прокуратура, КГБ здесь ни при чем, они свое слово якобы сдержали.
В Лефортово в одно время с нами сидел председатель Сочинского горисполкома Воронков – по коррупции в масштабах города и, как потом выяснилось, с участием руководства Краснодарского края. Кто-то из моих сокамерников, – не Сосновский ли? – сидел с Воронковым и очень его не хвалил. Примитивный, трусливый, жадный старик. Вечно ноет и постоянно жрет. Под кроватью все забито передачами, десятером за месяц не съесть, но. Скорее, сгинет, скорее, выбросит, чем даст сокамернику. Крепка Советская власть!
Говорили о кавказцах, совершивших недавно крупнейшее ограбление в советской истории – 3 миллиона из Ереванского банка. Их не могли найти, а попались случайно. На Северном Кавказе одного из них привлекли за изнасилование, грозило десять лет. Он додумался избежать наказания покаянным признанием в ограблении банка. Арестовали его брата и постового милиционера, охранявшего банк. Всем вышка. После приговора, рассказывают, он писал на стене лефортовского душа: «Прости, брат!»
Тут же, в Лефортово, сидели недавно армяне, которых обвинили во взрывах в московском метро. Темное дело. Говорят, расстреляли, да не тех, а инакомыслящих – националистов. Судил трибунал, и суд был закрытым. Ползут нехорошие слухи.
И еще говорили, что, бывает, в следственных тюрьмах сидят годами. Приводили в пример дело «шубников», в котором одного московского портного по мехам держали под следствием два с половиной года. Я же знал, что закон отводит на содержание под стражей во время следствия два месяца. Городской прокурор может продлить на месяц, республиканский – на два, Генеральный – еще на два, потом, кажется, Президиум Верховного Совета – на два, в общем, максимальный срок следственного содержания по закону не больше девяти месяцев. Как же сидят годами? Оказывается, в таких случаях издается специальный Указ Верховного Совета и тут уже нет ограничений. Но чаще подолгу задерживаются из-за суда. Есть групповые процессы, которые тянутся годами, и все это время некоторые обвиняемые томятся в следственной тюрьме. Таким макаром, не будучи официально преступниками, без всякого приговора, иные сидят в тюрьме по три-четыре года. Закон законом, а для властей ничего невозможного нет. Я не представлял, как бы я вынес с Сосновским больше недели, а если месяцы, годы? Это ж убийственно. Сам Сосновский жаловался на казаха, с которым сидел. Казах служил в армии и перешел границу в Китай. Китайцы продержали его восемь месяцев в яме, потом два года в Шанхае, в разведшколе. Заслали в Союз. Вроде бы казах добровольно сдался пастухам. Держали его в Алма-Ате, сейчас в Лефортово. По две недели Сосновский от него слова не слышал. Я, говорит, сам с собой разговаривать начал. Есть, наоборот, чересчур буйные. Есть кто на сумасшедшего косит. Или попадется угрюмый жмот, вроде Воронкова. Такие сокамерники – пытка. Нам с Володей и Женей повезло, жили мы дружно. Скучно, конечно, быстро надоедаешь друг другу, у каждого свои бзики, свои проблемы, но ни одной ссоры. Впоследствии я не раз вспомню нашу доброжелательную компанию.
Два заявления
После первой встречи в лефортовских стенах Кудрявцев вызвал меня через три дня – 28 августа. Принес блок «Явы». Само радушие. Передал ли он мою записку Наташе? Передал. А она мне? Нет, ничего не написала. Это меня огорчило. Как не воспользоваться хорошим отношением следователя? Неужели она не понимает, как я волнуюсь, как мне дорого получить от нее несколько строк? Не раз Кудрявцев брал записки для Наташи, я просил его, чтоб она ответила мне, и всякий раз потом он пожимал плечами и сочувственно говорил, что она не изъявила желания. А ведь она, как потом выяснилось, тоже передавала записки и тоже огорчалась, потому что ни мне от нее, ни ей от меня записок он не отдавал. Он нас обоих обманывал.
Но до этих открытий еще далеко. Пока Кудрявцев был мне приятен, уверял в личной симпатии и в том, что хочет помочь мне, как можно быстрее выбраться на свободу. «Вам не повезло с друзьями. Лично против Вас и Вашей жены мы почти ничего не имеем, во всяком случае, никто вам не желает зла». Он говорит со мной откровенно и рассчитывает на взаимную откровенность с моей стороны: «Тогда мы сразу договоримся, и вы перестанете представлять социальную опасность, а пока мне еще надо убедить в этом прокурора. Помогите же мне сделать все для того, чтобы помочь вам». – Раскрывает Уголовный Кодекс на статье 38 «Обстоятельства, смягчающие ответственность», тычет пальцем в пункт девятый: «Чистосердечное раскаяние или явка с повинной, а также активное способствование раскрытию преступления».
– Игорь Анатольевич, я раскаиваюсь, что написал «173 свидетельства», – почему вы меня держите здесь?
– Нет, вы не раскаиваетесь, а уходите от ответственности. Как я докажу своему начальнику, что вы действительна раскаиваетесь? По меньшей мере, нужно от вас заявление.
– И тогда не будет суда?
– Тогда может быть принято решение в соответствии со статьей 50-й, – Кудрявцев переворачивает страницу УК и останавливает указательный палец на третьем абзаце статьи: «Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление и перевоспитание возможно без применения уголовного наказания». – Самое большее, что вам грозит в этом случае, – товарищеский суд.
– Хорошо, я напишу заявление.
Кудрявцев быстро, не отрывая пера от бумаги, как бы сплошной линией, строчит протокол допроса. Дает на подпись. «Гуревич читал рукопись «173 свидетельства» – Филиппов читал «Встречи».
– Игорь Анатольевич, об этом, кажется, не было речи.
– Ну и что? – удивляется Кудрявцев. – Разве вы не давали им свои рукописи для прочтения?
– Но я не говорил, что давал. Читали они или нет, я не помню.
– Вот видите! Вы говорите, что чистосердечно раскаиваетесь, а сами отрицаете факты, вводите следствие в заблуждение.
– С чего вы взяли? Какие факты?
– Такие, что Гуревич, Филиппов и все, кому вы давали свои тексты, допрошены и все признали. Я не должен вам этого говорить, но, пока вы не вывели меня из терпения, слушайте меня внимательно. Суд поверит не вам, а свидетелям, вас будут уличать и тогда уж, будьте уверены, получите на всю катушку.
– Можно взглянуть на их протокол?
Кудрявцев обиделся:
– Если вы мне не верите, то вы их увидите на закрытии дела.
Неудобно стало. Человек хочет мне добра, а я его проверяю. Не доверять ему не было оснований, ведь, как я полагал, он меня еще не обманывал.
– Извините, я не ставлю вас под сомнение. Но хотелось бы ознакомиться со свидетельскими показаниями, может, я что-то забыл и надо вспомнить, чтобы потом не было недоразумений.
– Сейчас я не могу предъявлять протоколы допросов. Важно, чтобы вы сами вспомнили. Я помогу вам.
И он перечисляет моих знакомых, которые признались в том, что читали «173 свидетельства» или «Встречи»: Попов, Гуревич, Филиппов, Пурунджан, Захаров, Величко. А какой им смысл скрывать? За то, что читали, им ничего не будет, а за лжесвидетельство – год лишения свободы. И какой смысл мне запираться? Только наматываю себе срок. Все равно поверят свидетелям.
– Кстати, что было в папке, которую вы оставляли на хранение у Филиппова?
Удар ниже пояса. О папке знали только два человека: я да Коля. Летом прошлого, 1979 года, когда сосед Величко донес участковому, что я антисоветчик, мы уезжали в отпуск, и я не рискнул оставлять экземпляры «173 свидетельств» дома – отнес папку к Коле. Просто положил в дальний угол книжной стенки и сказал, что после отпуска заберу. Коля даже не поинтересовался, что там. Через месяц я забрал папку. И если Кудрявцев спрашивает, он мог узнать об этом только от одного человека – от Коли. А Коля – кремень. Если он начал рассказывать, о других и говорить нечего, значит, следователь не врет: друзья мои дают показания. А я отрицаю. Какими глазами мы будем смотреть друг на друга в суде? Они говорят, вынуждены говорить правду, а я буду спорить и врать. Мы будем уличать друг друга в обмане, перед лицом суда, принародно я скажу, что мои друзья оговаривают меня. Я оскорблю их и все, что нас связывало, поставлю их в положение вдвойне оскорбительное и противное, ибо в этом случае они будут давать не просто показания, а показания против меня. Что они обо мне подумают? Хорош правдолюбец, который, чтоб снять обвинение в клевете, по сути дела, клевещет на своих друзей. Вот потеха для прокурора! Нет, этого нельзя допустить.
Про папку у Филиппова я не вспомнил, но сказал следователю: «Если кто из знакомых говорит, что читал, я отрицать не буду, им лучше знать, специально не давал, но и не прятал рукописи от своих друзей». Относительно Гуревича и Филиппова в дополнении к протоколу написал: «Не помню, не уверен». Сложные чувства боролись во мне.
Сосновский с Барановым советовали то же, что и следователь: немедленно писать заявление, пока не поздно, «не будь дураком, и через несколько дней тебя выпустят». И, правда, обидно было упускать шанс выйти на свободу, очень не хотелось сидеть без толку, и кому какой вред, если раскаюсь? Да и стоят ли «173 свидетельства» того, чтобы калечить из-за них жизнь? Рукопись все равно изъята, утрачена – тем легче от нее отказаться, пожертвовать ей, чтобы получить возможность дальше работать, сделать что-нибудь посущественней.
Я написал заявление на имя Кудрявцева. Честно изложил обстоятельства появления обоих инкриминируемых текстов. Выразил сожаление, что дал повод для обвинения в порочащих государственный строй измышлениях, хотя считаю, что в «173 свидетельствах» изложено пусть субъективное, но искреннее мнение об экономической и политической ситуации в стране, и, если оно получилось слишком эмоциональным и резким, если оно ошибочно, то за это я готов нести ответственность. Но не за клевету, которой в тексте не может быть, так как я высказывал только свои взгляды и убеждения. Да, текст имеет негативный, критический характер. Я специально сформулировал проблемы, от которых, на мой взгляд, зависит нормальная жизнедеятельность общества. При этом я не преследовал никакой иной цели, кроме той, чтобы эти проблемы нам всем сообща обсуждать и решать. Как художнику необходимы светлые и темные краски для реалистического изображения, так и социолог не может обойтись исключительно светлыми тонами в характеристике общественной жизни. Как врач заостряет внимание на болезненных явлениях организма, чтобы их устранить и вылечить, то же самое сделал и я в отношении нашего общественного организма. В советской печати мной опубликовано около сотни статей и брошюр, «173 свидетельства» – единственное в своем роде исключение в моей работе, поэтому перечеркивать из-за него все, что я сделал, лишать меня возможности работать, было бы крайне жестоко и неоправданно. Рукопись не предназначалась для распространения. Написана на проект, а не на утвержденную Конституцию, поэтому содержание рукописи давно устарело. Три года вся машинописная закладка из четырех экземпляров лежала дома – какое же это распространение? Что касается знакомства с рукописью моих друзей, об этом точно могут сказать только они сами. Я не прятал ничего мной написанного. В числе прочих, как опубликованных, так и неопубликованных сочинений, мои знакомые могли видеть инкриминируемые тексты, я этого не отрицаю, но кто из них и что именно видел или не видел – этого я не могу сказать.
Кудрявцев советовал в качестве смягчающего обстоятельства непременно указать тех, кто заказывал мне «173 свидетельства», или под чьим влиянием сформировались у меня такие нехорошие взгляды. Хуже, если будет признано, что я самостоятельно к ним пришел. Хитрая следовательская уловка не мытьем, так катаньем выудить имена и, конечно, прежде всего Попова. Однако каяться, так каяться, логика в этой рекомендации есть, и я написал в заявлении, что некоторые понятия в рукописи усвоены мной под влиянием зарубежного радио. Наличие изъятых конспектов запрещенной литературы я объяснил тем, что брал литературу у Елагина, эмигрировавшего в 1973 г., и Усатова, умершего в январе этого года. И прошу не усматривать в этом криминала. Чтобы бороться с идеологическими противниками, надо их знать. В университете нас учили судить об авторах по первоисточникам. Поэтому на философском факультете мы изучали не только Маркса, но и так называемых реакционных философов, которые у нас не издаются, но которых мы обязаны были знать и получали доступ к их книгам. Мы изучали Ницше, Шопенгауэра, Штирнера, Бердяева, Шпенглера, почему инкриминируется чтение Сахарова и Солженицына? Здесь нет логики. Для философа и социолога знакомство с первоисточниками чуждой марксизму идеологии не только не предосудительно, но является профессиональным долгом, иначе он не может полноценно выполнять свои профессиональные обязанности.
Я сожалею, что написал «173 свидетельства». Впредь буду серьезнее относиться к проблемам социального и идеологического характера… Никак не удавался заключительный пассаж заявления. Вспомнил разговоры в институте социологии о покаянии сотрудника института, модного философа Ю.Н. Давыдова, подписавшего протест против советского вторжения в Чехословакию в августе 1968 г. На закрытом заседании он обещал искупить свою вину: «Если до сих пор я работал 10 часов в сутки, то теперь буду работать 14 часов». Обещанием честно и добросовестно трудиться на благо общества закончил и я свое заявление.
Сокамерники прочитали, сморщились:
– Нет раскаяния. Пишешь так, будто ты прав, а они нет. Повинись, попроси снисхождения. Не жалей эпитетов: гуманное правосудие, больше не буду, чистосердечно признаюсь и глубоко раскаиваюсь. Что ты в самом деле: побольше слез и соплей. Они это любят.
Добавил я про гуманность и раскаяние.
– Мало, сухо, – говорят. – Надо «самое гуманное в мире», глубоко раскаиваюсь».
Эх, взялся за гуж: насовал под конец прилагательных. Стыдища. Отдал заявление дежурному 1 сентября.
А вдогонку, 4 сентября – другое. Узнал, что у дежурного контролера всегда наготове УК и УПК – дает по первому требованию. Профессии зэка начинаешь учиться с кодексов. Жаль, что я раньше об этом не думал. И в тюрьме почти десять дней коту под хвост. Ни слова, ни шага нельзя без знания кодексов, иначе ошибки – всю жизнь потом кровью харкать. У следователя спрашивал – не дает, проси в тюрьме. Ждал библиотекаря и, спасибо, ребята надоумили: у контролера есть. Ах, как я пожалел, что поспешил с покаянным-окаянным заявлением! До сих пор себе простить не могу. В чем я, дурак, винился-раскаивался? Статья 190: «Систематическое распространение – какое же у меня систематическое? Даже если за три года кто и видел рукописи у меня дома – разве это распространение? Вдумался, наконец, в понятие «заведомо ложные» – кто, хоть одним словом, доказал в тексте ложь, а тем более заведомую? Следователь даже не пытался. В чем же я винюсь: в «изготовлении»? Но без этих двух признаков заведомой лжи и систематического распространения – изготовление не может считаться преступлением. Почему меня взяли на работе и отвезли? Это привод, они не имели права, ибо привод закон разрешает лишь в определенных случаях, например, если человек не приходит по повестке или скрывается. И задерживать, оказывается, не имели права, так как для задержания не было законных оснований. Должны были вызвать по повестке, предъявить обвинение и уж потом… И почему в акте, который я отказывался подписать в КПЗ, было «задержан на месте преступления»? Зачем они нарочно сгущают краски? Не для того ли, чтоб на бумаге создать видимость преступления? А я, дурак, то не признаю вину, то признаю, то частично признаю и своим покаянным заявлением помогаю им наводить тень на плетень. Протестовать надо, а не раскаиваться! И 4 сентября я отдаю заявление с протестом против незаконного привода, задержания, ареста и содержания под стражей.
Кудрявцев на следующий день принял меня хмуро: «балуетесь?»
– Вы получили оба заявления?
– Да, но из второго видно, что вы ничего не поняли.
– Что именно?
– Мне надоело вам объяснять. До вас или не доходит, что вы и ваша жена висите на волоске, или еще не осознали, чем это вам грозит. И то и другое плохо. Я хотел вам помочь. Но если вы вспомнили о законе, пусть вас защищает адвокат на суде. Я умываю руки.
– А что вы имеете против закона? Почему нельзя обойтись без нарушений УПК? Почему вы держите меня в тюрьме до суда?
Кудрявцев криво улыбается:
– Какая вам разница? Для вас же лучше: раньше сядете, раньше выйдете. Чем вам не нравится привод? По повестке вам самим надо идти, а вас привезли на «Волге» – неужели хуже?
– Лучше всего, если игра будет по правилам.
– По правилам вы получите максимальный срок! – зло перекосился Кудрявцев. – Какая, по-вашему, разница между 190–1 и 70-й?
– По-моему, символическая.
– Так точно. Получите семь лет, и все будет правильно, вы этого добиваетесь?
– А может, ничего не получу. По закону нет состава преступления и козлом отпущения я не собираюсь быть.
– Суд разберется. Но я вам не завидую, если дойдет до суда. Кстати, экспертиза признала вашу статью злобной клеветой. Установлено, что должны быть еще машинописные экземпляры – где они?
Ого! Давит внаглую. Я сказал, что такое заключение ошибочно и хочу посмотреть выводы экспертизы.
– Скоро я вас ознакомлю, но оспаривать экспертизу бесполезно. – Кудрявцев подает стопку чистых листов. – Пишите свою фамилию. Нормальным почерком, не спешите, заполняйте листы строка за строкой.
– Для чего?
– Графологическая экспертиза на почерк.
Чего ради? Я же не отрицаю, что рукописи мои. Ненужная формалистика. Показуха законности по мелочам. Показуха вместо законности. Пишу размашисто, покрупнее, чтоб быстрее отделаться. Кудрявцев бракует, подает новый лист:
– Пишите своим обычным почерком.
– Все пять листов? Полдня уйдет.
– Ничего, я подожду.
До боли в суставах бессчетное число раз пишу и пишу свою фамилию на пяти стандартных писчих листах. Кудрявцев сложил это странное произведение в папку и спрашивает:
– Кто подписал ваши статьи псевдонимом «Аркадьев Николай»? Там не ваша рука?
Это я не мог вспомнить, потому что подписывал Олег.
– Не хотите помочь следствию? Ну что ж – пеняйте на себя. Мы установим и без вас. Себя не жалеете, хоть бы о жене подумали, ее положение не лучше вашего.
Как сегодня преобразился душка-следователь! Сплошные угрозы. Но разве я не писал покаянного заявления? Будет ли оно учтено как смягчающее обстоятельства в соответствии со статьей 38 УК РСФСР, которую так настойчиво совал мне под нос Кудрявцев прошлый раз?
– C какой стати? – театрально удивляется Кудрявцев. – To, что вы написали, это слова. Вы не раскаиваетесь, а стремитесь уйти от ответственности. Чем вы помогли следствию? Что нового вы сказали к тому, что и без вас известно? Под каким псевдонимом, где печатались ваши статьи за границей?
– За границей только через АПН, под собственным именем. Других статей не было.
– Мы проверим.
Кудрявцев кнопкой вызывает контролера, небрежно кивает:
– Уведите.
Я был расстроен. Сгорал от стыда. Так дешево клюнуть на удочку! Перед кем винился, у кого просил снисхождения! Фактически я признал вину и теперь, сколько бы ни протестовал, ни жаловался, они будут колоть глаза моим покаянным заявлением. Да еще обвинят в двурушничестве. Не слишком ли опрометчиво поверил нахрапистому Кудрявцеву о людях, признавших, якобы, знакомство с моими рукописями? Но перечень его точен. Ни одной фамилии с потолка. И откуда тогда ему стало известно о папке у Филиппова? Сомнения и стыд глодали меня.
Сосновский к тому времени ушел из камеры. Я напустился на Володю Баранова: «Какого черта насоветовали?»
– Может, ты что-то скрываешь из того, что им наверняка известно?
– Ничего я про себя не скрываю, а о других неприлично требовать.
– Следователи КГБ в основном порядочные люди, с ними можно договариваться. Иначе бы им не верили.
– Но мой – из прокуратуры.
– Так тебя прокуратура ведет? Как же ты здесь оказался? – удивляется Володя. – Тебе, старик, надо выходить на здешнего хозяина. Пиши в КГБ.
– Но следователь говорит, что все мои заявления сначала к нему поступают.
– Не беспокойся, если в КГБ, то сразу пойдет по назначению. Но учти, что там шуток не любят. Просишь о помиловке, значит, признайся честно. Если не можешь, лучше ничего не писать – хуже будет.
Как же быть? Балансирую на канате над пропастью. Дело может повернуться и так и этак. Стоять, выжидать нельзя. Идти, но как? Надо идти с акробатической точностью, рассчитать малейшее движение. Какая-то капля может спасти или погубить положение. Я верил, что положение можно спасти. Нужна какая-то инициатива, чтобы выбраться до суда. Какая? Что я должен еще предпринять? Следователь ставит условие: «Давай Попова». Но не могут же они, в самом деле, официально на этом настаивать. Чье это условие: лично его или кто-то диктует? Может действительно выйти на КГБ? Они пока не обнаруживают себя, но нет сомнения: моя судьба в их руках. Какую цену они запросят? Захотят ли встречаться со мной? Что бы там ни было, но ясности будет больше. А может, пока не спешить? Проверят публикации за рубежом, убедятся, что моего там нет, и сменят гнев на милость? Я погряз в нерешительности и ожидании.








