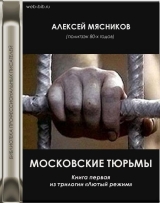
Текст книги "Московские тюрьмы"
Автор книги: Алексей Мясников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 44 страниц)
Сжал с отчаянья уши и голову, не могу больше слышать. Боль стучится ко мне, хотя и своей предостаточно. Застойный камерный дух плотно насыщен нашей болью. Соты, наполненные страданием, – вот что такое тюрьма. Из всех щелей камеры сочится наружу ядовитая, густая, тягучая масса зэковского страдания и травит все вокруг. Оттого мрачны надзиратели и шарахается случайный прохожий, оттого пусты близ тюремные улицы – люди обходят проклятое место, даже птиц не видно, стороной облетает. Дух зэковской камеры источается, проникает на волю, тяжело заражая общество. Кто может быть счастлив рядом с ней? Может ли быть благополучна страна, где есть хотя бы одна тюрьма? А если тюрем много? И те, кто сидит, и кто носит передачи, и те, кто сажает, – по-своему все несчастны. В зэке сконцентрированы пороки и несчастье всего общества. Можно человека заизолировать в тюрьму, но тюрьму от людей, от города не изолируешь. И стоит она большой шишкой на общественном лбу, как упрек, как вопрос: не вы ли, кто на воле, родите преступников? Намного ли вы лучше их? Люди, разумеется, полагают, что они лучше тех, кто в тюрьме. Хотя бы потому, что не пойманы. Но все же боятся. И откуда чувство вины перед обвиненными, жалости перед осужденными? Не оттого ли испокон века традиционно народное сочувствие зэкам? Отвращение к преступлению и жалость к преступнику – отчего так?
Кажется, уже мозговая извилина за извилину. Как голову сберечь, ведь на допросе пригодится? Опять прошу, умоляю дать книгу, любую. Во второй половине дня заступил другой контролер. Он оказался покладистей: «Если найду, принесу», Вечером протягивает в кормушку книжку в самодельном темно-коричневом переплете. Без начала и конца, ни автора, ни названия. Но заворожен с первых строк, удача какая – книга хорошая. Крым времен Гражданской. Что-то знакомое, не содержание, но стиль, авторская интонация удивительно кого-то напоминает. Катаев? Нет, не он. Кто-то родной, близкий. Да кто же мне роднее Паустовского? Кто еще так искренне удивляется чуду жизни и человека в ней, ни на шаг не отходя от суровой жизненной правды? Кто так опишет маяк, строгого смотрителя, шум волн? Кто другой дарит нам столько высокой влюбленности в этот мир? Добрая ирония. Волшебный свет точного, чистого слова. Праздничная ясность каждой строки. Небесная музыка сфер в полунищем крымском бродяге. Ищу подстраничник. Должны быть указаны автор или название. Нахожу: «Черное море». У Паустовского такой повести не помню. Странно, давным-давно прочитал шеститомник и все, что ни попадало, а «Черного моря» не помню. Но нет сомнения – это он. По его волшебству исчезает тюрьма и камера, брожу вместе с ним и его полуголодными, холодными героями – писателями, поэтами, художниками, моряками – по опаленному войной побережью. И умоляю, чтоб наше путешествие не кончалось. Поэтому не спешу. Паустовский уже ушел, а я еще топчусь в этом доме, с этим стариком-татарином, подолгу стою на берегу то штормового, то лучезарного синего-синего моря.
Два дня я растягивал удовольствие. Книга выручила – что бы я без нее делал? И надо же; именно Паустовский, мой любимый писатель. Приходит в самый критический период моей жизни, когда тяжело и никто не может помочь, приходит как раз в тот момент, когда я больше всего в этом нуждался. Не чудо ли? Если случайность, то наверняка из того разряда, которые порождают жизнь, правят судьбами и миром. Если не случайность… Да, тюрьма располагает к мистике.
Спасибо, Константин Георгиевич!
В первой половине следующего дня предложили прогулку. Охотно собрался, надел замшевую куртку. Другой прапорщик, не наш контролер ведет меня по этажам вниз. Вижу сверху, как у стола дежурного машут сигнальными красными и белыми флажками. Прапорщик вталкивает меня в первый попавшийся коридор, сам снаружи. Из любопытства я было высунулся, но он страшно зашипел и задернул вход зелеными шторами. Там еще кого-то ведут, и мы, зэки, ни в коем случае не должны видеть друг друга. Для этого сигнальные флажки, остановки в зашторенных коридорчиках, для этого предусмотрены специальные отстойники, вроде шкафов, куда запирают тебя, пока другого проводят. Строгая изоляция. Скажу, забегая вперед: за все время моего здесь пребывания я не видел ни одного зэка, кроме сокамерников. Внизу от стола дежурного завернули направо, в противоположную сторону от наружных дверей, с которых началось позавчера мое тюремное существование. Прапорщик заглянул за преграждавший путь зеленый занавес, с кем-то поговорил и дал знак следовать за ним дальше.
А вот и тюремный двор. Свежий воздух. Небесная синева в раме крыш следственного корпуса и крыльев тюрьмы. Взгляд вверх не встречает препятствий, так и подмывает с земли. Налетел бы вихрь столбом, закружил бы и вынес. Если бы да кабы. Прогулочные дворики – те же камеры, только без крыши. Через несколько дней их станут затягивать сеткой, даже на прогулке ты в клетке. Но я еще застал открытое небо и не подозревал, что скоро его тоже спрячут от нас за решетку. Не такой мне представлялась прогулка. На картинках или в кино (разумеется, зарубежных) двор как двор, ходят зэки по кругу. Я шел на прогулку с надеждой встретиться со здешними обитателями, кое-что узнать, отвести душу. А попадаю лишь в другую камеру и по-прежнему один. Почему такие дворики в кино не показывают?
Но все-таки хоть признаки чьего-то присутствия. В углу у плевательницы апельсиновые корки, фантики конфет: кто тут был до меня? За стеною, в соседнем дворике покашливает женщина. Кто, откуда, за что? Первая мысль о Тане Великановой – не она ли? Как бы связаться? Но об этом нечего думать: вертухай над головой. Видны окна второго этажа следственного корпуса. Окна зашторены. Но иногда выглянет женская головка или поправит занавеску рукав офицерской рубашки. А тюрьма со двора – средневековый замок. В суровой архитектуре своя изысканность: граненый выступ на всю высоту здания, декоративные элементы окон, мощные стены красного кирпича – впечатляют. Говорят, Екатерина строила офицерскую гауптвахту. Все бы хорошо, если б не бесконечные ряды зарешеченных окон. За каждым живое страдание. Большинство окон закрыто нелепыми деревянными щитами с косыми поперечными планками-«намордниками». Закрашенные стекла, решетки, так еще и «намордники» – света белого не увидишь. К тому же портят фасад. Это уже наш советский, андроповский ампир.
И птица сюда не летит. Редко-редко промелькнет с края крыш воробей и резкой дугою прочь. Будто на тот свет нечаянно залетел. Смотришь на чистое небо – ликует душа, там свобода! А здесь, на земле, тоска еще пуще. Лист заблудший реет над двориком. Похоже, кленовый. Дорог он мне сейчас, как живая душа, неужто мимо? Так и есть – в другой дворик нырнул. Но, словно по ошибке туда попал, взвился из-за стены и на вираже шлепнулся прямо у моих ног. «Здравствуй!» – лежит растопыренной ладонью, будто подает для приветствия. Желтеющий красавец с красноватыми жилками. Деревьев на территории нет, как он попал сюда? Передает привет с воли? Там мои друзья и Наташа – не их ли посланец? Мне бы самому превратиться в лист и улететь с первым порывом ветра. Или кажется мне, что вот-вот залетит сюда птичка и чирикнет наташиным голосом. В возможность этого я почти верю, и положение уже не представляется столь безысходным. Я человек нисколько не суеверный, но заметил: когда угнетает реальность, разыгрывается фантазия. И грезы кажутся тем достовернее, чем кошмарнее действительность, которая воспринимается как страшный сон. И дышится легче. Защитная реакция удрученного сознания.
В дверях лязгает ключ, контролер показывает на выход. Рановато, по-моему, полчаса не прошло, а по правилам положено час. Контролер хмурится, гонит: «Не разговаривать!» Разве поспоришь? У меня часов нет. В вестибюле, когда проходили, увидел круглые настенные часы – следующий раз засеку.
В камере чувствуется какая-то перемена. Вроде все на месте и все-таки что-то не так, а что не пойму. Заметил, наконец: исчез свет в верхней незакрашенной части окна, серая от пыли полоска неба сейчас совсем не видна. Закрасили? Взбираюсь на широкий подоконник: нет, закрыто снаружи. Деревянные планки под углом. Вот оно что – пока я прогуливался, и на мое окно надели «намордник». Не в самое либеральное время попал я в Лефортово: как раз стали тянуть сетки поверх прогулочных двориков, надели «намордники». А мне и без того тошно: вторые сутки сижу здесь один, да столько же в КПЗ. Без книг, без письма, без общения сроду ни дня не оставался. Если завтра никого не подселят, буду писать заявление – откуда-то я знал, что без специального постановления держать одного более трех суток не имеют права. С непривычки информационный голод особенно невыносим, свихнуться можно. К тому же клаустрофобия. Приступами ударяло в голову, что дверь заперта, окно задраено, не видно белого света – я замурован! Кидаюсь в поисках хотя бы светлой щели в наружный мир: то к «глазку», то к фрамуге окна, а когда и это не помогает, барабаню в дверь, требую газету, книгу, бумагу – что угодно, лишь бы разрушить могильное молчание. Откроется на миг кормушка, и я приходил в себя. Похожие страхи в «отстойниках» и «стаканах». Упомяну о них заодно. «Отстойники» – крохотные камеры на одного-двух, где можно только стоять или сидеть. Они здесь вместо предбанника: в них раздеваются, меняют постельное белье, ждут очереди в душ. Они на выходе из тюрьмы в следственный корпус, где приходится ждать приема у следователя. Но особенно трудно поначалу в «стаканах» – узких шкафах, где помещаешься только стоя. Они расставлены на переходах. Тебя закрывают, когда навстречу ведут другого зэка, чтобы не увиделись. «Стакан» не освещается, это гроб стоймя. От помешательства меня спасала краткосрочность пребывания в нем: минута-другая, долго ли пройти человеку? Но в первое время ужасов натерпелся. Потом ко всему привыкаешь. Если не свихнешься, значит привыкнешь – третьего не дано. Да и чего в могиле, какой является тюрьма, гробов бояться? Хочешь выжить – привыкай ко всякой чертовщине; замкнутому пространству, одиночеству или соседу-психопату, стукачу, педерасту, сортиру на чужих глазах. И лучший способ самосохранения – сопротивление. Протест, злость дают ту жизненную силу, которая необходима, чтобы выстоять.
На третьи сутки, так и не дождавшись ни сокамерника, ни следователя, я выпросил у контролера ручку, бумагу и написал на имя начальника тюрьмы заявление, в котором назвал свое одиночное содержание пыткой и потребовал не позднее завтрашнего дня или подселить ко мне или перевести меня к людям, а также пригласить следователя по вопросам, так сказать, материально-технического обеспечения (курево, смена белья, перевод денег, передачи – сказал ли он Наташе, где я нахожусь?). Контролер, молодой парень, делано вскинул брови: «Какая же это одиночка? Камера у вас на троих». Кто третий? Слышал ли контролер анекдот про чемпиона по литроболу Васю Железкина? Он улыбнулся и взял заявление, отобрав при этом и ручку.
А вскоре повели к следователю. Опять ширмочки, «стаканы», первое знакомство со следственным «отстойником», в легком умопомрачении предстаю перед жизнерадостным Кудрявцевым. «Вы по заявлению?» – удивляюсь я молниеносной реакции. «Нет, я сам собирался. Но мне показали заявление», – тянет рот до ушей. Ореховые очи теплы, сегодня он явно в хорошем настроении. Кладет на стол две пачки «Столичных»: «Это вам», – «От Наташи?» – «Нет, от ваших друзей». – «От кого?». Кудрявцев с веселым смущением: «От меня». Спасибо, конечно, но чего, думаю, он расщедрился? Тогда я не знал еще, что следователям выделяют деньги на мелкие расхода для своих подопечных. Да и он, хитрец, преподнес в качестве личного пожертвования, вроде свои потратил. Растрогался, говорю ему: «Зачем вы так? Надо было жене сказать». «Не видел, некогда было». «Но она знает, где я нахожусь?» «Да, я звонил». «Вы скажите, чтобы блок «Явы» вам передала, и я верну вам долг». «Не стоит, такой пустяк», – конфузится Игорь Анатольевич. (В следующую встречу он принес блок сигарет от Наташи, и я вернул ему две пачки. Он взял. Говорят, им дают по трояку в месяц на подследственного. Интересно, сколько он на мне заработал?)
Обещает сегодня же сказать Наташе, что она для меня может сделать: сигареты, белье, передача раз в месяц, деньги на лицевой счет – на 10 рублей в месяц можно выписывать продукты, тетради, бытовую мелочевку в тюремном ларьке. Обещает утрясти вопрос о моем одиночном заточении. Ну, как не спросить благодетеля о главном;
– Игорь Анатольевич, а меня надолго сюда?
– Не думаю, это только от вас зависит.
– Надо Наташу прописать, а то мы жилье потеряем.
– Ну, об этом рано волнуетесь! Я надеюсь, что до этого у нас с вами не дойдет, заговорщицки улыбается.
Раз мы такие друзья, прошу по блату: «Можно Наташе записку написать?» Кудрявцев изображает диалектическую борьбу противоречий: запрещено, но если между нами, по дружбе, пишите быстрее, попробую. Я написал короткую деловую записку без особой уверенности, что она дойдет до Наташи. Но на всякий случай надо было предупредить, что пришлю ей доверенность на отпускные и гонорары. Просил узнать, пойдут ли статьи в «Молодом коммунисте», «Литературке» и «Культпросветработе». Нужно вернуть командировочные, которые я брал в двух редакциях. Сдала ли билеты в Южноуральск? Что намерена делать с путевками в Пицунду? Советую ехать по намеченному маршруту, чтоб успеть на день рождения матери и как-нибудь подготовить ее к случившемуся, а затем все-таки на юг, отдохнуть.
Сокамерники
Сразу по приходе от следователя меня перевели этажом ниже, в камеру № 97. Вваливаюсь с матрацем и не вижу, куда положить. Две койки заняты, на третьей чего только нет: барахло, продукты, книги. Приспосабливаю матрац на краешек этой, третьей, здороваюсь. Два человека нехотя отрываются от шахмат, кисло кивают. Вот они, долгожданные лефортовские обитатели! Нужен я им, как горькая редька, – самим тесно. Тем не менее, встают из-за столика, освобождают кровать, помогают устроиться. Один с бородкой, темным отечным лицом и словно обгорелыми глазницами. Он больше распоряжался. В позе интеллигента, потерпевшего за правду, курит сигарету с фильтром через мундштук. Типом лица, осанкой очень напоминает одного моего коллегу по институту социологии. А вот как зовут, фамилию начисто позабыл. Саша? Смирнов? Смидович? Не помню. Назову Сосновским, надо же как-то, тем более о нем есть что сказать. Второй более приветлив, юморной – Володя Баранов. Он несколько старше Сосновского, лет сорока, лысенький, кругленький, но весел и кажется моложе. Оба евреи.
Они вернулись к шахматам. Я осмотрелся. И глаза на лоб: камера бедных зэков больше походила на продуктовую лавку. Повсюду натыкано: копченая колбаса, сыр, печенье, с отопительной решетки, спинок кроватей свисают полиэтиленовые пакеты с медом и сгущенкой, на полке пачки какао, шоколадные конфеты, орехи, яблоки.
Сели обедать. Ел я да Володя, он все ест, а Сосновский к тюремному почти не притронулся. А надо отдать должное: готовят в Лефортово неплохо, норма выдерживается. Супы не хуже столовских, каша как каша, мяса чуток, но все же есть. Сосновский поморщился на кормушку и стал нарезать свою колбасу. Володя согнувшись, балагурит с раздатчицей – молодой горбоносой прапорщицей в белом халате и наманикюренными барбарисками острых когтей. Он говорит, как хорошо она сегодня выглядит, просто красавица, и уговаривает дать ему порцию Сосновского, только вместо первого два вторых и вместо двух гарниров добавочную порцию мяса. Разговаривать прапорщице не положено, добавки ни в коем случае, при раздаче контролер за ее спиной, она молчит, но нет-нет и подбросит Володе лишний кусочек. Шуточная арифметика, доброе слово и прапорщице приятны. Володя зачем-то лезет под кровать, кричит Сосновскому: «Ба! Об этой коробке совсем забыли». Достает куски колбасы, сыра, пару заплесневелых лимонов. Такую забывчивость я себе и на воле не мог позволить. Красиво живут. От изобилия на меня жор напал. Ребята поглядывают с некоторой завистью. Ну и тюрьма, ну и зэки попались, не еде завидуют, а тому, кто ест с аппетитом. И свое двигают: угощайся, ешь вместе с нами. Им не надо объяснять, что такое КПЗ, первые дни тюрьмы. Но для меня загадка, я ем и глазам не верю: откуда у них все это? «Посидишь с наше, и у тебя все будет», – отшучиваются.
Конечно, мед, сгущенку, шоколадные конфеты, чай в передачах нельзя. Но посылками, оказывается, можно что угодно. Посылки идут не прямо в камеру, а на склад. Начальнику следственного изолятора КГБ подполковнику Поваренкову пишется заявление с просьбой выдать то-то и то-то и, если ты сидишь давно и нет нареканий, то он, как правило, разрешает. Не мелочится. Важно, чтоб те, кто отправляет посылку, знали, как надо затаривать – все жидкое в полиэтиленовые пакеты. В банках-склянках не пропустят. С твердыми и металлическими предметами тут строго. Тетради с ларя – без скрепок. Тюбики с зубной пастой нельзя, только порошок, и тот на контроле истыкают. Посылки еще чем хороши – их тут не взвешивают. Лишь бы написано было, как положено, не больше 5 кг, на почте за трояк любой вес напишут, и закладывай на все десять. Здесь на это сквозь пальцы. Знают, конечно, но не придираются. Было бы все по форме, а блох не ловят. Поэтому отношения с администрацией взаимно корректные. По разрешению Поваренкова чай со склада выдают в неделю по пачке. Ребята не чифирят – пьют по вкусу, большой рублевой пачки индийского чая вполне хватает на двоих. О личности начальника Лефортовской тюрьмы Поваренкова ни в этой камере, ни затем в других, ничего, кроме добрых отзывов, я не слышал. Много ли зэку надо? Чуть-чуть человечности, и люди, находящиеся в нечеловеческих условиях, почтут вас за отца родного. Заметил: что в тюрьме хорошо, зэки связывают с Поваренковым, что плохо – будто не он здесь начальник. Все ругают сетки на двориках, «намордники» на окнах, но я не слышал, чтобы ругали Петра Михайловича, так его звали, кажется. «Была бы моя воля, – вздыхает Володя, – я бы на весь срок в Лефортово остался». Он не новичок, четвертый или пятый раз залетает, знает и тюрьмы и зоны. «Разве здесь лучше, чем в лагере?» – я имею в виду и относительную возможность передвижений, и свежий воздух, и общение. «Никакого сравнения! Что в нашей жизни самое главное? – весело спрашивает Володя и отвечает: – Личный покой и хорошее питание. На зоне этого нет». Легкая у него манера общаться: шутливо по форме, серьезно по существу. Приятный человек. И Сосновский за чаем вроде стал помягче, уже не глядит индюком. После хорошей сигареты с фильтром я чувствовал себя как среди старых добрых знакомых. Вполне интеллигентные люди – за что только таких сажают?
За контрабанду. Володя полгода под следствием. Сосновскому дали шесть лет. Сидит уже два года: полтора здесь же, в Лефортово, потом, после суда и кассации, полгода на зоне, а сейчас вызвали как свидетеля по делу кого-то из его знакомых. Он совершенно уверен, что на зону уже не вернется, прямо отсюда – на «химию». Треть срока позади, контрабанда – статья легкая, по закону его могут освободить условно с направлением на обязательную работу – это и есть «химия». Одной ногой дома. И как будто ему это было обещано. Сосновский с мучительным нетерпением со дня на день ждал решения, бредил «химией» и очень нервничал. Можно его понять.
Сосновский – сын бывшего то ли зама, то ли министра культуры Белоруссии, переведенного на ответственный пост в Москву. По паспорту белорус, на деле еврей, оно и по внешности: жгучий брюнет, убеленный за последние два года ранней проседью. Ему немногим за тридцать, но выглядит неважно: пепел долгого затворничества на пухлом нервном лице. Всего два года назад Сосновский выглядел совершенно иначе. Он процветал. Фотограф, фотограф-художник – подчеркивает Сосновский, он подвизался где-то на киностудии, имел частные заказы, хорошие деньги и связи, но главным делом его жизни была художественная коллекция. Один из видных частных коллекционеров русской классической живописи. Подлинники Репина, Поленова, Малевича официально зарегистрированы в его каталоге. Кроме того, хорошее собрание икон. В своем кругу Сосновский считался экспертом по древней русской живописи и иконографии. Однако он был не только экспертом, но и торговцем. Это его и подвело. Начало своих контрабандных операций он связывает с намерением переселиться за границу. С собой разрешается вывозить ценностей примерно на тысячу рублей. Куда девать коллекцию? Что делать на Западе без денег? Надо сначала завести там приличный банковский счет и переправить наиболее ценные картины – с ними он не хотел расставаться. Иконы пошли на продажу. Друг-эмигрант содержит антикварную лавку в Канаде. Здесь договорились с женой венгерского дипломата. Иконы упаковывали в машину, большие доски резали, жена на дипломатической машине мужа отвозила их в Венгрию, оттуда переправляли в Западный Берлин и в Канаду. Сосновский скупал, доставал иконы. Делались большие деньги. Все было хорошо, пока по чьему-то доносу, Сосновский в этом уверен, на таможне не проверили машину венгерского дипломата. Жена все взяла на себя, муж не знал. Скандала раздувать не стали. Жену выслали, муж остался. Зато на отечественных участников международной торговли иконами завели уголовное дело. Что тут началось! Бывшие закадычные друзья и компаньоны, элита советской культурной интеллигенции с гипертрофированным самомнением и брезгливостью «к низам», потеряли от животного страха и честь и голову: валят друг на друга, всплывают подробности, топят себя и других уже всерьез и надолго. Собственных жен не пожалели, посторонних людей, кому отдавали на хранение. Оказалось, замешаны десятки людей. Я излагаю по рассказу Сосновского и, разумеется, с его слов он был и остался порядочным человеком. Один из всех. До него бы не добрались, если бы не подлость бывших друзей. Но он никого не выдавал и ни на кого не сваливал. А все друзья оказались сволочи. Самое большое потрясение он испытал не когда его арестовали, а когда на закрытии дела прочитал показания своих близких, то, что они про него наговорили, выгораживая себя. Дружба – это обман. Ты хорош, пока у тебя все хорошо. Попал в беду – ты никому не нужен, если и протянет друг руку, то только чтоб подальше от себя отпихнуть. «Я больше не верю ни в какую дружбу, – говорит Сосновский. – Ее не было никогда, нет и не может быть. Каждый продаст, если ему это выгодно. Рассчитывать только на себя – вот мой урок».
– А сам ты молчал на допросах?
– Я говорил только правду.
– Значит, не молчал.
Сосновский вскочил с кровати, забегал по камере.
– Какой смысл? – его аж трясет от злости. – Покрывать тех, кто тебя закладывает? Сидеть за них – за кого? Да я как узнал, что это за люди, с тех пор никого не жалею!
Зашелся в крике, позеленел. Рыльце в пуху, и себе признаться не хочет, хочется чистым быть с нечистой совестью. Трудное положение. Впрочем, черт его знает – как у меня еще обернется.
Сосновский словно мысли угадывает:
– Вот увидишь. Будешь закрывать свое дело – узнаешь цену друзьям. Все расскажут, наврут с три короба, чтобы себя выгородить. Да еще так постараются, чтобы ты подольше не выходил, чтобы в глаза им не плюнуть. Поверь моему опыту: ничего не скрывай, никого не выгораживай. Сам себя не защитишь, тебе никто не поможет. Что ты думаешь, если ты ничего не скажешь, следователь ничего не узнает? Да ему уже все известно. КГБ зря не берет. Это же машина! С кем вы хотите бороться? Вы все у них на ладони. Хлоп! – и от вас мокрое место.
Раскричался будто нарочно, чтоб вся тюрьма слышала. И контролер не стучит почему-то. Обычно голос повысишь и тут же стук, замечание. Наверное, правильный ход мыслей у Сосновского, таким здесь дают трибуну.
– Извини, нервы, – спохватился Сосновский.
– Почему ты решил, что я что-то скрываю?
– A за что ты сюда попал?
Я ему рассказал и добавил, что не публиковал и не распространял.
– Не может быть! – раздражается Сосновский. – Так просто в Лефортово не посадят. Значит что-то скрываешь – то, что им известно. Они тебе не скажут, откуда известно, но молчание тебе дорого обойдется.
Я говорю ему, что вот и следователю так кажется, обвиняет в том, что я выгораживаю Попова. Подозрительное лицо Сосновского озарилось:
– Вот за это тебя и посадили, а говоришь, не скрываешь. Кому нужна твоя писанина? Ты опасен тем, что связан с Поповым. Расскажи о нем все, что знаешь, и тебя никто здесь держать не будет. А не расскажешь – посадят по любому поводу. Не было бы текстов – что-нибудь другое бы нашли.
– Ho это беззаконие.
– Ты в самом деле такой наивный или прикидываешься? – кипятится Сосновский. – Государственная безопасность! Кто в таких делах думает о законе? КГБ может всё. Если ты представляешь опасность для государства, тебя устраняют или изолируют. А как оформить – это дело десятое. Для этого существует прокуратура.
Сосновский привел несколько примеров всемогущества гэбистской машины. Одному из его бывших сокамерников на допросе прокрутили пленку, на которой был записан его разговор пятилетней давности. В Сочи на пляже случайно познакомился с женщиной. Она приглашает к себе, в квартиру. В постели спрашивает, где он работает, чем занимается. Он работал в космической промышленности. Так, шутя-любя, ненароком кое-что выболтал, а уехав из Сочи, напрочь забыл и ту ночь, и эту знакомую. Напомнили – через пять лет! Все это время за ним плотно следили, а он и ухом не вел. Есть под Москвой, – продолжает Сосновский, – излюбленное место встреч деловых людей. Ресторан в Архангельском. Это ни для кого не секрет, поэтому конфиденциальные беседы проводят в перекурах, за пределами ресторана. Одна из таких встреч состоялась в чистом поле, за стогом сена. Два человека, больше ни души. Пришли и разошлись порознь. А вскоре содержание беседы изложили одному из них здесь в Лефортово, на допросе.
Сосновский знает много таких примеров, и все об одном: если попал «под колпак», то запираться бесполезно – КГБ знает всё. Участь твоя, говорит Сосновский, целиком зависит от степени твоей откровенности. КГБ важно знать, что ты в дальнейшем намерен делать, от этого зависит мера наказания.
Раскаиваться и признаваться – вот единственно разумная линия поведения со следователем КГБ. Если они сочтут, что ты уже не опасен, могут закрыть дело и не доводить до суда. Мой случай, уверяет Сосновский, как раз такой. Я должен, пока не поздно, раскаяться и написать заявление о чистосердечном признании. А Попова – чего жалеть? Если им занялись, он обречен. Дам я показания, не дам – ему это не поможет. Мои показания нужны КГБ, чтобы решить, что делать со мной. Так что теперь, действительно, моя судьба зависит только от меня.
Не то же ли говорил мне Кудрявцев? Точь-в-точь.
– Hе лезь на рожон, старик, – присоединяется к Сосновскому Володя Баранов. – Попугают, проверят и выпустят – никакого суда над тобой не будет. Кайся, пиши, порыдай для приличия – ради свободы стоит. Эх, мне бы твое дело, я бы тут не сидел. Какой потолок по твоей статье?
– Три года.
– Тьфу! Три года я бы на параше пропел. А минимум?
– Штраф 100 рублей.
– Чего ты думаешь? На бумагу и пиши явку с повинной: чистосердечно признаюсь, глубоко раскаиваюсь – больше не буду. И ты на свободе! Не валяй-ка дурака.
Володя – это уже серьезней. Четыре судимости, и он не производил впечатление человека, завербованного КГБ. Неужто и правда Олег обречен? Добрый парень – значит добро преступление? Бескорыстная помощь людям, пострадавшим за убеждения, – угроза Советской власти? Ничем он больше не «угрожал», я был в этом уверен, и разве я покривлю душой, если напишу об этом заявление? Может быть, какое-то недоразумение, может быть, тем самым я помогу Олегу? Ну и себе, конечно. Если с него снимут подозрения, то, значит, мне не в чем его «выгораживать» и, значит, сажать меня не за что. Однако Сосновский настораживал. Надо подумать, приглядеться.
Время они в основном убивали за шахматами. Сосновский выигрывал чаще, но не всегда, хотя не было случая, чтобы он признал свое поражение. Увидит, что проигрывает, сразу спор: то ферзь не там стоит, то пешка лишняя, то Володя фигуру сдвинул – лишь бы прекратить партию. Володя дорожит «личным покоем», обычно посмеивается, но в игре он азартный, иногда юмора не хватало и фигуры разлетались по камере. В нарды Сосновский почти не играл, потому что тут Володя был явно сильнее. Сосновский из той породы балованных сынков, которые с детства воспитаны отличниками, быть наверху. Он просто не в состоянии признать за собой какой-либо ошибки или поражения. На несогласие с ним в споре, уже на то, что с ним не соглашаются, а, видите ли, спорят, он всерьез обижался. Как это он, Сосновский, может быть не прав? Разве он глупей или меньше знает? Это исключено. И все же с Володей они живут душа в душу. Володя без претензий. Оба с юмором, хохмят артистически. На прогулке с ними одно удовольствие. Импровизации мистера Сосновского и Пузика валили меня с ног от хохота. Куда там Штепселю с Тарапунькой! У меня же с Сосновским взаимная неприязнь. Я ценил его остроумие, но терпеть не мог гонора. Его стремление во что бы то ни стало держать верх убивало всякую охоту к общению. С ним нельзя было спорить, нельзя было допустить, чтобы чего-то Сосновский не знал или не имел представления. Нет худа без добра: его самореклама помогла мне однажды выудить ключ к тюремной азбуке.
Я рассказал им о перестукивании в прошлой моей камере. Знают ли они, что это такое? «Проще пареной репы», – небрежно бросил Сосновский. Но объяснить отказался под тем предлогом, что ничего интересного в перестукивании нет. Он со многими общался через стену, как-то даже договорился с одной женщиной, после срока, вместе ехать в Париж. Пустое занятие, напрасный риск. Но я хотел бы связаться с политиками, поэтому прошу его научить азбуке.
– Зачем? Диссиденты – совершенно неинтересные люди.
– Ну какое твое дело? Ты знаешь шифр или нет?
Сосновский заерзал. Он очень не хотел говорить, но и не сказать было уже невозможно. Не мог он позволить сомнений в его эрудиции. Пугает, оглядываясь на дверь:
– А ты знаешь, что за это карцер без разговоров?
– Ты боишься?
– Я предупреждаю тебя, – окончательно оскорбился Сосновский. – Хорошо, я расскажу, но с условием, что в нашей камере ты не будешь стучать.
Рисует квадрат, разлинованный на 25 клеток. Каждая клетка – буква. Сверху слева направо: а, б, в и т. д. Алфавит для удобства сокращен на восемь букв: й, ё, ъ, ь, кажется, щ и еще три – точно не помню. Употребляют алфавит из 28 букв, но проще и более распространен из 25. С внешней стороны клетки нумеруются слева направо по порядку с 1 до 5, и так же сверху вниз. Номера означают количество ударов, которые нужно сделать, чтоб обозначить определенную букву. «А» – два удара через паузу, «Б» – один, пауза и два коротких, «В» – один пауза и три коротких и так далее.








