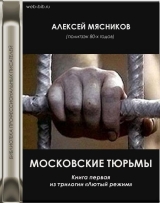
Текст книги "Московские тюрьмы"
Автор книги: Алексей Мясников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 44 страниц)
Однажды Витю куда-то водили. Говорит, к одному из вокзалов, к железнодорожным путям – то ли следственный эксперимент, то ли еще что. Жена узнала, тоже приехала, и ей удалось через кого-то передать блок «Явы». Ночами мы с ним обычно не спали. Я изучал обвинительное заключение, набрасывал последнее слово. Он часами шагал взад и вперед по камере. Удивляюсь, когда он спал? Ведь и днем он лежал очень мало. Видно было, что нервы на взводе, и что самое удивительное – никаких срывов, как всегда, уравновешен и выдержан.
Жили мы мирно, ничем не досаждали друг другу – как награда после нервотрепки предыдущих камер. И вот в одну из ночей с черным окном и сонной тишью, нарушаемой лишь посапыванием спящих ребят, Витя садится с «Явой» за стол:
– Можно трубку?
Даю ему трубку и кисет. Он распечатывает пачку, крошит сигарету. Затем смешивает с табаком из кисета, набивает трубку, закуривает. Что за гурман, думаю, сигареты портит.
Ходит по камере, трубкой попыхивает. Выкурил, возвращает трубку:
– Хочешь попробовать? – и подвигает свою смесь на бумаге.
– Что это?
– Попробуй, может, догадаешься.
Закуриваю по его рецепту. Ничего особенного – табак как табак. Он лукаво посматривает. Меня смех разбирает:
– Валяем мы с тобой дурака, зачем сигареты портишь, ведь табак есть? – Весело почему-то смеюсь, не могу успокоиться. И у него все фиксы наружу, рот до ушей:
– Подействовала.
– Что?
– Анаша.
– Никакого привкуса.
– Хорошая анаша, поначалу на смех тащит.
И правда, с полчаса я не мог сомкнуть губ, смеялся. Ощущение душевной легкости, ясная голова. Первое впечатление от наркотика осталось самое приятное. Но больше не тянуло. Веселила сама мысль о том, что в жизни ничего такого не пробовал, хотя где только по стране не мотался, а в тюрьме, где строжайше запрещено, где пачку чая-то не достанешь, угораздило – курю анашу. Умеют жить коренные обитатели тюрем – ни в чем себе не отказывают. Но это не просто. Не тогда ли я впервые подумал, что зэк – это профессия? Свой язык, свои секреты и навыки, и овладеть этим так, чтобы у тебя что-то было и не уронить репутации – этому, как и каждой профессии, надо учиться. Надо уметь договариваться, торговать с ментами, прятать концы даже от соседа по шконке, а когда, положим, у тебя что-то есть, надо так пользоваться, чтобы не обидеть, не вызвать зависти и раздражения сокамерников. В идеале – у кого что есть, всем поровну. Практически так не всегда получается. Есть мало – всех много. Кто-то рискует, достает, платит деньги, а кто-то палец о палец не ударит – и поровну? В то же время уплетать колбасу, сыр, конфеты на завистливых глазах тех, у кого этого нет, кто давно этого не видал, мало радости. И вот хитрят, ищут уединения, едят тайком, по ночам, делятся с сильными, чтоб остальное без опаски съесть самому.
Витя же делал просто. Раскладывает на столе все, что у него есть, никому не предлагает, сам ни у кого ничего не просит. Но если у него просили, никогда не отказывал. Новому человеку, мне, например, объяснял сразу:
– Считаешь нужным, бери, ешь со мной. Сам я не навязываю.
Оснований есть на «халяву» мало у кого находится. И никто не в обиде, тем более что мы все-таки угощали друг друга, но никто ничего не трогал без разрешения. Подобные правила вырабатываются опытом, им надо учиться, ибо отступление от них чревато серьезными осложнениями. Каждый жест, каждое слово приходится взвешивать. «Петух», «козел», «гребень» – прозвища совершенно недопустимые, равнозначные словам «стукач», «сексот», «пидарас». За это полагается бить, будь это блатной или мент. Смолчишь, испугаешься – тебя забьют, так и станешь тем, кем обозвали. Обычные на воле «пошел на три буквы» и все в этом роде – здесь страшное оскорбление. Между собой мат-перемат, но только не это, ибо подобные выражения применимы лишь к пидарасам и, значит, недопустимы для мужика, на эту тему даже не шутят.
Boобще, жить подолгу с разношерстной публикой в условиях, когда возможны придирки, натянуты нервы, и не давать повода для ссор – трудное и большое искусство. Витя никогда не ругался, был чрезвычайно выдержан и тактичен. Трудная профессия научила его разбираться в людях. И еще он был добр.
Однажды вечером заводят смугловатого парня, туркмена. Володя и Толик сразу с расспросами: кто, как, откуда? Тот бойко затараторил: сидел в общей камере. Подогнали ему «дурь» в сигаретах (Ого, большой плюс парнишке, это не каждый может). Угостил одного, другого, и вот вчера на проверке мент устраивает ему шмон и забирает остатки заряженной «Примы». Кто-то стукнул, ночь продержали одного на сборке, теперь сюда, к нам. Мы ахаем, что же будет – ведь верный карцер, а то и «раскрутка», т. е. новое дело? Витя молчал, лежа на шконаре, никакого внимания. Свободных шконарей нет, туркмен разместился на ночь на лавке у стола. Проходит день. На другую ночь сижу за столом, туркмен с той стороны на своей лежанке сидит, не спится ему, надоедает вопросами. Володя с Толиком вовсю похрапывают. Витя на верхнем шконаре у окна, руки за голову, вроде бы дремлет. Вдруг оттуда голос:
– Подойди-ка сюда, – туркмену.
Тот будто ждал, стремглав к Вите, который приподнял голову и говорит ему тихо:
– Ты молодой еще, я должен предупредить тебя: ты плохо кончишь. Понял меня?
Туркмен затрепетал, страшно заволновался:
– Витя, я знаю, тебя не обманешь… Я не хотел… я боюсь…
– Здесь тебе нечего бояться, надо подумать, чтобы потом не было неприятностей. Выкладывай по порядку.
Оказывается, туркмен продулся в карты. Поставил последнее – золотой зуб и опять проиграл. Надо рвать зуб, он уговаривает своего земляка написать от его, туркмена, имени заявление с просьбой срочно перевести в другую камеру. Так они и сделали. Туркмена тут же убрали, однако должок за ним остался, от него в тюрьме не убежишь. Надо откупаться, либо вырывать зуб. Иначе… В общем, парень напуган, растерян. Положение действительно щекотливое. Чтобы не нести за него ответственность, камера, куда он попадает, должна требовать от него уплаты долга или гнать вон.
– Ну и что ты собираешься делать? – спрашивает Витя.
– Клянусь, рассчитаюсь. Разреши остаться, я жду анашу – как придет, рассчитаюсь.
– Крутись, тебе ничего не остается. Но никогда не обманывай. Пожалеешь, да поздно будет. Учти, я желаю тебе добра.
– Прости, Витя. Дурак, молодой. Больше не буду, клянусь, Витя, – жалобно, со слезой, тараторил туркмен.
– Как ты его расколол? – спрашиваю потом у Вити.
– Сразу было видно, что врет, а раз врет, значит, что-то неладное.
По его мнению, после изъятия «дури» никак не могут просто перевести человека в другую камеру. Это «ЧП». За это сразу карцер, а не сборка. Непременно расследование, затаскают, пока не скажешь, откуда и через кого получил. И, как правило, обвинение в наркомании. Бывало такое в витиной практике и не раз, чего зря говорить?
– Слушай, Витя, а этот, как его, Толик, что за человек?
– Подсадной, кумовский, сам сказал. Сидели-сидели, сам и выложил: знаете, говорит, кто я такой? Я куму подписку дал. Вот ходит, якобы, к следователю, а на самом деле опера вызывают – хочешь, не хочешь докладывай. Потом нам рассказывает, что наплел. Нарочно он не навредит, но ты все-таки поосторожней с ним, кумовья – народ дошлый – выжмут с него, сам не заметит. Я ему подсказываю, что можно говорить, что нельзя. Про чай, например, они знают, но это их не волнует. Им базары давай.
Прикинули мы с Витей, сколько у нас в стране сидит. Мне в 1977 г. один человек, близкий к МВД, назвал 1,7 млн., Дроздов на 1975 г. приводил цифру в 1,5 млн.
– Не может быть! – отрезал Витя. – По следственным изоляторам и «крыткам» (тюрьмы для осужденных – A. M.) похоже, а всех куда больше. Да только в лагерях… – он зашевелил губами, загибая пальцы. – Давай бумагу.
Прикинул, сколько у нас всего лагерей. Он знал все управления – сам из них не вылезал, друзья все оттуда – в общем, знал. И знал, сколько примерно лагерей в управлениях. Всего насчитали семь тысяч.
На каждый лагерь, то бишь зону, положили в среднем по полторы тысячи человек. Вышло около 11 миллионов в лагерях всех режимов, да плюс тюрьмы – «крытки», «химики», поселенцы, ссыльные. Да плюс условные (условно осужденные, условно освобожденные). Вместе с подследственными получается и того больше.
– Это ближе к истине, – подытожил Витя.
Так это или не так, кто знает, ведь официальных данных в полном объеме нет. А как прикинешь – ошарашивает. Да, видно, и не зря говорят, что полстраны отсидело или сидят, – расхожее мнение.
Хитра статистика! Даже закрытая, внутриведомственная – и та обманная. Сколько сидит? – Полтора миллиона, – по секрету отвечает доверенным лицам внутриведомственная статистика для служебного пользования. И многие удовлетворяются. Создается впечатление, что всего в стране полтора миллиона заключенных. Такого впечатления и добиваются, давая частную цифру на общий вопрос. Предположим, вы усомнились: бесспорным расчетом приперли статистику. Думаете, она стушуется? Ничуть… «Я утверждала и утверждаю, что в тюрьмах полтора миллиона!» – с благородным негодованием ответит наша безупречная статистика. Но только тут станет ясно, что речь идет лишь о тюрьмах, а не о всех узниках, коих гораздо больше. Сколько же всех? На этот вопрос даже статистика не дает ответа. Где-то за семью печатями, наверное, есть более полные и конкретные цифры, но только не для широкой публики. Для общества определенной статистики либо вообще нет, либо какая-то бестолочь, чтобы не задавали лишних вопросов. Цифрой заслонить правду, соврать, не обманывая – в этом хитрое искусство статистики. А кого она не обманывает – тот клеветник. Нет данных, значит, не может быть, значит, вопроса такого возникать не должно. Подумаешь, прежде чем усомнишься в нашей статистике.
Попалась на глаза «Московская правда» – статейка на тему дискриминации негров в США. Негры там составляют 12 % населения, а среди заключенных 90 %. Статейка клонила посочувствовать неграм, мы посочувствовали: пусть к нам приезжают, у нас им хорошо. Нет, предпочитают тюрьмы в Америке свободе в Советском Союзе – странные люди. Мы бы охотно поменялись местами, выручили бы их в горькой доле, но ведь не хотят – как тут поможешь? Не помню цифр, но, зная численность черного и белого населения США, можно вывести число черных и белых заключенных, сложить и получить общее число зэков в США. Вышло восемьсот с лишним тысяч. Пусть миллион – есть разница с 11 миллионами в советских лагерях? Есть: 1 к 11, не говоря уже о всех осужденных и подследственных узниках, по расчету бывалого Вити Иванова. Это при том, что у нас еще негров нет. А если только белых сравнивать? В глазах чернеет – бедные советские белые! Слышу, Толик с Володей между собой беседуют:
– Кем лучше: белым в Союзе или негром в Америке?
– Негром в Союзе!
День и ночь Витя метался по камере, нагуливал километры. Можно понять – осудили и держат в следственной. Чем вызван протест прокурора: малым ли сроком или новое дело шьют? Он рвался на пересылку, на Пресню – была бы уверенность, что нет нового дела и следствия. Там легче сидеть, все знакомо. И кормят лучше, и режим помягче. Главное среди своих, строгачей. Игра, общие знакомые, крик в решетку: «Колупай! Фиксатый пришел!» Пресня – мать родная, там не соскучишься. Витя дождался. Чего – не знаю, вызвали с вещами. Уходя сказал мне:
– Придешь на Пресню, спроси Фиксатого. Это я. Меня там знают, – на сухом нервном лице расцветает мягкая улыбка. – Может, встретимся, – последний блеск знаменитой, оказывается, фиксы.
Адвокат
Я еще неделю корпел над обвинительным заключением и последним словом. Следователь Кудрявцев на 16 страницах обвинял меня в клевете на советский государственный строй и в изготовлении и распространении порнографического сочинения. Клевета состояла в том, что я в рукописи «173 свидетельства национального позора, или О чем умалчивает Конституция» опорочил внутреннюю и внешнюю политику КПСС, Конституцию СССР, утверждая, что власть в нашей стране не принадлежит народу, который лишен основных гражданских прав и свобод, что СССР – тоталитарное, деспотическое государство. Мясников не мог не знать, что пишет клевету, т. к. живет в Москве, имеет высшее образование, кандидат философских наук и потому ему должна быть известна забота Советского государства о благосостоянии народа.
Следователь излагает некоторые положения текста и тем самым как бы иллюстрирует клевету, не затрудняя себя какими-либо контраргументами – настолько она, по его мнению, очевидна. Мясников, по свидетельству Маслина, одобряет антисоветскую писанину Сахарова и Солженицына, слушал «Голос» и другие зарубежные радиостанции. Пытался опубликовать свою клеветническую статью в «Континенте». Единственная цитата из текста касалась внешней политики, где я писал, что СССР наращивает наступательную мощь вооруженных сил, участвует в военных действиях в Афганистане, Индокитае, Центральной Америке, Африке. Свинцовой, смердящей тучей нависли мы над народами. Чего мы суемся туда? Чем облагодетельствуем в результате мировой революции? Что несем? Нашу же нищету и боль. Это лживое утверждение следователь опровергает ссылкой на Ленина и миролюбивую политику партии, якобы несовместимую с идеей экспорта революции. Не знаю, что он имел в виду у Ленина, но знаю, что Ленин до последних дней проводил курс на мировую революцию и никогда не стеснялся пропагандировать и делать ее. Пара позднейших тактических уверток вождя мирового пролетариата относительно экспорта ничего не меняют в его внешнеполитическом экстремизме. Что касается заявлений КПСС, то ни для кого не секрет, что они делаются, чтобы скрыть подлинные намерения. Зачем говорить об экспорте, если можно без лишних разговоров оккупировать пол-Европы и протянуть щупальца по всему миру? Если верить партийному словоблудию, у нас не только «экспорта» – ни одного преступника нет – разве не было обещано пожать руку последнему в 1980 году? По программе КПСС, мы уже вступили в фазу коммунизма, всех догнали и перегнали, всего вдоволь – по потребности! Весь юмор в том, что следователь срамит меня ссылками на директивы и закон, в то время, как я о том и пишу, что они не выполняются, что практика осуществляется в вопиющем противоречии с официальными заявлениями, обещаниями и Конституцией. Я про Фому, следователь про Ерему. Ни одной цифры, ни одного факта в опровержение моей заведомой лжи. Сказал «клевета» и точка. Судьи поверят на слово.
Становится понятным, почему зэки называют обвинительное заключение – «объебон». Я не видел другого способа защиты, как защищать свой текст. В отличие от следователя, у меня найдутся аргументы. Скажу все, что о них думаю и знаю. О положении в стране, о характере власти, о бессовестном следствии. Я скажу это в последнем слове. Бог знает, может, оно и в самом деле – последнее? Выскажусь до конца и будь что будет! Чтобы речь была более полной и точной, чтобы не ловили на слове, я заготовил письменный текст – ответил на каждый пункт обвинительного заключения. Аргументировал каждое положение «Свидетельства». Показал на лжесвидетельство Гуревича, опротестовал обман и прочие приемы следователя. Обвинение не доказано, состава преступления по ст. 190 нет.
Тот же вывод и по ст. 228, о которой и речи не было бы, не будь политического обвинения. Каким бы ни было содержание рассказа «Встречи», он написан восемь лет назад, т. е. уже за давностью лет инкриминироваться не может. О том, что я давал его читать, свидетельствуют Гуревич, Величко, Гаврилов, Перов. Однако, Перов, писатель, отрицает наличие порнографии, а показания остальной троицы скомпрометированы настолько, что суд не должен их брать во внимание. Вину отрицаю, обвинение не признаю. Дело сфабриковано.
Исписал две ученические тетради. Начал переписывать набело. Дни, ночи напролет. Тороплюсь – уже две недели со дня получения обвинительного заключения. Успеть бы до суда. Я решил зачитать последнее слово. Длинно – потерпят, я больше терпел, я должен высказать все.
Вдруг часов в 9 вечера вызывают. Что за напасть? Ведут по опустевшим коридорам туда, где следователь принимал. Чего он забыл? Но в кабинете не Кудрявцев, а незнакомый мужчина лет 60. Приветливо улыбается, руку жмет:
– Давайте знакомиться, Алексей Александрович, меня зовут Швейский Владимир Яковлевич – не слышали?
– Нет.
– Я защищал Буковского, Амальрика, если не возражаете, и вас буду защищать. С делом уже ознакомился.
– Но я не просил адвоката, по-моему, он ни к чему.
Швейский посерьезнел:
– Вы можете отказаться. Подумайте. Если вы примете решение участвовать в процессе без адвоката, то мы с вами прощаемся. Если не будете возражать против адвоката и, в частности, против меня, то приступим к делу. Завтра суд. Вы знаете?
– Нет. А почему вы так поздно?
Швейский развел руками:
– Раньше не мог, занят.
– Простите, а кто вас прислал?
– Моим клиентом является ваша супруга, – Швейский выдержал паузу и тихо, скороговоркой, заметил: – По рекомендации Олега Александровича.
Попов! Ну тогда и думать нечего, я согласен!
– Дело для защиты, – начал адвокат, – выглядит удовлетворительно. Защита на подобных процессах имеет, разумеется, чисто символическое значение, для морального престижа, практически шансы выиграть равны нулю. Но для общественного мнения, – Швейский многозначительно посмотрел на меня, – кое-что значит. Несколько портят картину некоторые ваши показания и заявления, обернувшиеся против вас, но вы хорошо сделали, отказавшись от них в акте ознакомления с делом. Сейчас нам важно выработать общую линию защиты. Разбирать ваш текст я не буду и вам не советую. Содержание написанного не играет роли для защиты. Главный вопрос: есть клевета или нет? Клевета – это когда человек лжет себе, когда он знает, что лжет. А ваша статья – это ваши убеждения, не так ли?
– Так.
– Значит, независимо от какой бы то ни было оценки содержания статьи клеветы в ней не может быть, вы не лгали себе, когда писали, состава преступления по статье 190 нет. Договорились? Это ваши убеждения, – подчеркнул Швейский.
Не зря он подчеркивал. На первых допросах я отмахивался от текста: эмоции, нервное возбуждение, минутное настроение, бред, не хочу обсуждать. Открещивался в надежде выйти из-под стражи. А следователь вовсю раздавал эту надежду, ему того и надо было. Доигрался в кошки-мышки. Теперь будут носом тыкать: сам-де говорил. Стыдно.
– Ваш рассказ «Встречи», – продолжает Швейский, – прямо скажу, мне не понравился. Но ведь это личное мнение, не так ли? Оно не может служить критерием оценки художественного произведения.
Он рассказал об одной нашумевшей повести, опубликованной в 53-х годах в «Новом мире», которая вызвала бурные нападки критиков, обвинивших автора в безнравственности и натурализме.
– Прошло несколько лет, и подобные вещи стали восприниматься совершенно спокойно, что значит мода! Сейчас даже не верится, что та повесть могла вызвать бурю. Более того, потом ее стали хвалить. Я это к тому говорю, что мнение рецензента вовсе не означает истину в последней инстанции. Я буду настаивать на комиссионной экспертизе, не возражаете?
У Швейского руки рабочего – натруженные, в грубых морщинах, прочерченных, словно тушью, несмываемой чернотой. Как-то они не вязались с заграничными часами, дорогим модным костюмом. Кирпичное обветренное лицо поседевшего трудяги. Говорит с расстановкой, подбирая слова, внимательно следя за реакцией собеседника из-за стекол роговых очков. Цепкий взгляд морщинистых серых глаз. Кряжистый, крепкий мужчина. Трудно отделаться от впечатления, будто он только что из-за станка. Умылся, переоделся, поужинал и – в тюрьму. Другие – в пивную, а он – сюда, хобби такое. Никак он не был похож на известного, блистательного адвоката, каким он слыл, как я потом убедился. Четкий план защиты, вежливость, пожалуй, и дружелюбие – располагали к нему. До сих пор в этих зарешеченных комнатах, с этим стулом, припаянным к полу, со мной говорили как с преступником, этот был первый, кто говорил по-человечески. Казалось, даже с уважением. И уж точно с желанием не утопить, а – помочь. Он был свой. Странно было видеть его в чужой, враждебной обстановке. У нас оказались общие хорошие знакомые в литературных кругах, он ездил от «ЛГ» в Казахстан по делу Худенко и рассказал мне подробности. На прощание передал привет от Наташи:
– Ее волнения позади. Она просит не беспокоиться о ней.
– Передайте, что я прошу у нее прощения. Спасибо ей за все и скажите, что она совершенно свободна.
– Это обидит ее, она верна вам и держится достойно.
Хороший заряд перед судом. С чувством благодарности к Олегу, Наташе, Швейскому вернулся я в камеру.
Всего только ночь перед решающим испытанием! Как ждал я этого часа! Увижу всех, кто со мной, и всех, кто теперь против меня. Как истосковался по вас, друзья мои! Неужто, правда, завтра увижу? И праздник, и битва – суд! Всю ночь лихорадочно переписывал последнее слово. Черновик – груда заметок, первая заготовка. Но сути дела, я не переписывал, а только начал писать связный текст. И, конечно, ночи не хватило. Она была чересчур коротка.








