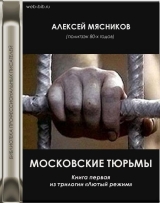
Текст книги "Московские тюрьмы"
Автор книги: Алексей Мясников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 44 страниц)
– Чтоб с завтрашнего дня по подъему вставал.
Беру крышку от параши:
– Еще раз вякнешь…
Он с деланным спокойствием ложится на шконарь и, улыбаясь, цедит сквозь зубы:
– Попробуй, печень отобью.
– Козел вонючий!
– Ты знаешь, что это значит?
– Знаю.
Да, я уже слышал, что козел – самое последнее ругательство, равносильное «стукач», «пидарас» (пишу по принятому произношению). За это полагается бить. Кто смолчит, значит, остается «козел», а это слово ломает зэковскую биографию. Дроздов смолчал. С этого момента мы прекратили отношения. Надолго, дней на десять, до последнего дня. Я не замечал его. Тяжело на душе, нервы натянуты, лучше в одиночке сидеть. Ни я к нему, ни он ко мне – ни словом. Но у него что ни день – вызов, по полдня пропадает, а я, как зверь в клетке, книгами и спасался.
Молчание прервал Дроздов. Приходит с допроса бледнее обычного, мелко его трясет. И ко мне: «Какой сюрприз! К концу допроса заходит подполковник, начальник следственной группы. Вы, говорит, тут ваньку ломаете, а за нашей спиной своему Хозяину пишете. Узнали про мое письмо Картеру! Представляешь: сколько уже прошло, когда Брежнев с Картером в Вене встречались? Года два с половиной? Так я перед встречей отправил из зоны на английском письмо с просьбой меня обменять. Знаю точно: за океан ушло. Подождал с год и думать забыл. И теперь вдруг всплывает. Сначала думал – разыгрывает подполковник. Нет, дословно цитирует последние строки. Как они узнали? Когда? Само ли письмо у них или копия, но содержание им известно. Чего-чего, но с этой стороны не ожидал удара. И момент выбрали – сегодня, не зря, теперь точно добавят».
Как могло открыться содержание письма? В Штаты доставлено надежными людьми, Дроздов в них уверен абсолютно. Ничего не оставалось, кроме одного: где-то там в департаменте есть «наши» люди. Вскрыли письмо или, скорей всего, сняли копию. От этого становилось действительно страшно. Мы проговорили весь день. Лед растаял, я снова сочувствовал и был расположен к этому человеку.
А на следующий день мне приказали: с вещами, Дроздов взволнован больше меня. Он сильно бледнеет, дрожит, когда волнуется. Просит никому из сокамерников не говорить о нем и ни в коем случае не называть его фамилии. В последнюю минуту дал телефоны двух своих московских друзей. По всем вопросам к ним – все могут. Абсолютно надежны, ибо зависят от Дроздова. Одного назвал по имени-отчеству, другой – начальник районного управления внутренних дел. О, этот точно пригодится! Я зашифровал координаты в конспектах «Капитала».
Во время суда через адвоката я сообщил Наташе телефон начальника РУВД. Ее к тому времени прописали в нашей комнате и тут же выписали. С матерью жить невозможно. С работы прогнали. Ей было негде и не на что жить. Чем черт не шутит, может, помогут? Тогда она не рискнула звонить. На первом свидании я все-таки настоял попробовать, хотя бы снять жилье помогли. Она позвонила, ответили, что такой не работает.
Когда я освободился, месяца через два-три позвонил из автомата по второму телефону. На том конце мужчина. Спрашиваю по имени-отчеству. А он меня спрашивает: кто я такой? Так, говорю, знакомый Виктора Михайловича». – «Какой знакомый? Какого Виктора Михайловича?» – заметался голос. Ну, думаю, не туда попал. А чувствую: ждет чего-то голос, только встревожен. «Дроздова», – говорю. «А вы кто?» Вот прицепился, говорить или нет? Сказал. «А-а, так это я» – «Кто ты?» – «Да я, Дроздов!» Вот это номер! По моим подсчетам, ему еще лет пять париться. «Как ты здесь оказался?» – «Так это моя квартира, а Сергей Александрович здесь уже не живет. Где ты, когда встретимся?»
– Почему ты на воле, у тебя все чисто?
– Конечно, – неуверенно отвечает Дроздов и как бы оправдывается: – Помиловка. Давай увидимся.
Встретились на следующий день в метро. Народу тьма, еле нашел: сидит на скамейке. Тот же Дроздов, только жирок набрал, на воле обычно дородней. Зимнее пальто, барская шапка. Солидный вид, но с палкой и хромает. Сломал ногу и чуть не год провалялся. Радушен, даже как будто заискивает. Куда проще, чем иной раз в камере. Ну, пойдем. Куда пойдем? Мне приглашать некуда. Ему через час на работу. Вот возьмет он там четвертной и тогда… впрочем, только не сегодня, к вечеру домой позарез надо.
В общем, вышли мы из метро, поговорили. «Понимаешь, помиловка. Да ты слышал, наверное, человек сорок помиловали». Ничего я не слышал и вообразить не мог, чтобы сорок шпионов помиловали. Говорит, как всегда, недомолвками, с ужимками и лебезит, лебезит – раньше в нем этого не замечал. Понял так его, что освободился через год или раньше после того, как мы расстались. Работает в строительном управлении, между прочим, системы потребсоюза, где и я приткнулся. «Что ж ты, говорит, в такую даль? Мы в Мытищах строим, надо тебя туда перетащить, я подумаю». Я заметил, что странно получается: меня с трешником к Москве не подпускают, а он с изменой живет – как же так? «Ты же знаешь, есть связи, отец. Я ведь говорил тебе, что он генерал-лейтенант, бывший начальник штаба Закавказского округа». Федот да не тот: в Лефортове – папа работал в Ленинградском обкоме. Я смолчал, начал прощупывать: «Где ж ты сидел?». «Там же, под Тулой. Из Лефортово обратно отправили, из зоны ушел по помиловке». А говорил, с пермской спецзоны. Слышал я про тульскую зону – привилегированная. Называет ее коммерческой, сидят там торгаши покрупнее и проворовавшееся начальство, да только не изменники родины. Но молчу.
Хихикает Дроздов: «Здоровье уже не то, была норма – три-четыре бутылки, теперь строго литр – сердечко сдает. Никаких дел, весь в быту, картишки по мелочи, женщины. Эх, тебя не было, позавчера славно позабавились, до сих пор сердце стучит – отойти не могу. Работа – не бей лежачего. Свободный режим, когда хочу, ухожу, триста рэ – куда еще прыгать? Связи старик, с друзьями не пропадешь!» Храни меня бог от таких друзей. Напомнил ему о начальнике РУВД.
– Сидит. Всех пересажали.
Кого всех? Почему сидит? Был ли в природе у него друг такой? Всех друзей пересажали, а его, изменника, выпустили? Не этой ли ценой он выкупил свою помиловку? Зачем давал мне телефон, зачем врал? Какую роль сыграл в моей судьбе? Мне он, может, не повредил, иначе, думаю, что-нибудь всплыло бы, следователь как-нибудь бы проговорился. Но кто его знает? Когда с ним сидел, в голову не приходило, а сейчас сопоставляю. К Дроздову поревели сразу после того, как я отдал заявление с просьбой о встрече с сотрудниками КГБ. Разговоры об Афганистане, Польше, его предложение помочь в продаже информации по моей специальности, и мое «штатникам надо помогать». И затем встреча с Александром Семеновичем. На этом фоне его угроза 64-й не с потолка взята. Я пишу заявление в защиту Попова и на то же примерно время – агрессия Дроздова и наш разрыв. Интересные совпадения. Подлинный характер его измены у меня теперь не вызывает сомнений: он предавал всех, с кем сидел. Надо было с ним повидаться, чтоб убедиться в этом. Больше я ему не звонил.
Непутевый и путевый
Сосновский, Дроздов. Упало подозрение на человека и в следующей камере, туда меня поселили в середине октября. Камера № 48, через две двери от Дроздова. Застаю человека, только что прибывшего с зоны: лежит, съежившись, под зэковской телогрейкой. Плешивый, средненький, лет сорока. Две шконки свободны. Бросаю матрац на ту, что вдоль окна.
– Там дует, лучше сюда, – показывает на шконарь против него.
Благодарю за совет, но стелю у окна, там светлей. Лиловая закраска, решетки, намордник, но в верхней незакрашенной полосе днем что-то пробивается. Все дальше от параши и блике к свету и воздуху, а главное – удобней читать: книга не заслоняет лампочки, Зовут соседа, кажется, Владимир, фамилия Ивонин. Судорожный, бесприютный какой-то. Намаялся этапом. Из Калинина в Москву – два с половиной часа электричкой – его везли двое суток, через Горький. Ни курева, ни грева, а деньги с зоны – когда придут? Поделились моим. Берет как должное, выбирает: это он не ест, это любит и никакой благодарности, мол, закон такой – все поровну. По-моему, так и должно быть, однако должна быть и добрая воля дающего и «спасибо» берущего. У Дроздова кули конфет, колбас, сыра, но я не претендовал и не забывал благодарить, если перепадала конфета. Любой закон лучше воспринимается в согласии с этикетом. Эта мысль так пришлась кстати, что я высказал ее вслух. Ивонин немного сконфузился, но не возразил. Хамство у него в натуре, поэтому и впредь приходилось осаживать. Он обычно не обижался, однако черта эта мешала сойтись, да и неинтересен был.
Инженер из подмосковного Зеленограда. Попался, говорит, на обмене мелкой валюты. Дали три года усиленного режима. Полгода отсидел в зоне в Калининской области. Пристроился чем-то вроде художника или письмоводителя, был допущен к зэковской картотеке, по которой проводят проверку. Там фотография, статья, срок. Статью 190 не помнит, видно на их зоне таких нет. Он, по его словам, равнодушен к политике. Но при мне то и дело ругает Брежнева, власть. Ругается грубо, невпопад, примитивно – совершенно неясно было, зачем он так нервничает? Эти неожиданные взрывы меня несколько настораживали. Стрелять их, такую-то мать, вешать! Войной на них, пожечь до тла! Зачем так шумишь, Володя, что не нравится? Как надо, как должно быть? Он замолчал, дальше бутафорской ругани его социальная активность не простиралась. О зэках на зоне резко отрицательно: «Это не люди, 90 % я бы бульдозерами подавил».
В первые же дни на зоне поставили его дежурить старшим по столовой. Сразу навел порядок: проследил заправку котлов по нормам, отвадил блоть – целая революция. В такое бахвальство и не знающему человеку трудно поверить. Некому больше, будто только его и ждали: вот поселят Ивонина и наведет он порядок на зоне. Одно ясно – он полгода просидел в кабинете отрядника, под крылом администрации. С людьми не сжился. Сейчас я знаю: зэки таких не любят. Администрация берет под опеку только «своих» людей, и делается это не за красивые глазки. Непутевый Ивонин зэк. Видно было, что Ивонин в отчаянии не остановится ни перед чем, напуган и обозлен на людей. Костит всех – один он хороший. Особенно доставалось жене, она-то и была причиной мирового зла. По при бытии на зону полагается свидание. Жена телеграфирует, что пока не может: через неделю едет в санаторий, а из Зеленограда до зоны всего часа три. Скрипит зубами. Никаких вестей. Ему еще раз переносят свидание, он шлет письма, телеграммы. Приходит сухая записка, чтоб не ждал. Ни ее, ни денег, ни посылки, ни передачи. Бандероли табаку не прислала. Она – член партии, депутат, работает в горисполкоме – не может с ним оставаться по принципиальным соображениям. «Я знаю, на чьих она машинах катается, – рычал Ивонин. – Я ей устрою: на десять лет сядет». Он был уверен, что новое дело, по которому его выдернули с зоны и привезли в Лефортово, – ее рук дело. Нашла в квартире спрятанные им ценности и заявила. Назвала его знакомых из секретного института, с которыми он был связан по сбыту ворованной продукции. Но и они хороши.
– Когда меня арестовали, я им передал, чтоб все прекратили. На год, по крайней мере, надо было уйти на дно. Месяц продержались, а потом опять – кабаки, загуляли. А на какие деньги? Менты их выследили.
Ивонин сокрушался, что теперь лет десять схлопочет, не меньше. Но что-то он знал и про жену, которая за его счет шкуру спасает. Если он не выкарабкается, то ее тоже посадит. А нет, так убьет. Сколько бы ни сидел, как вернется – убьет. Она знает его характер, и потому сейчас будет делать все, чтобы упрятать его подальше. Как не беситься! Тошно слушать Ивонина, но как всякого, кому грозит большой срок, жаль его.
А случай с платиной заставляет задуматься. Примечательно то, что друзья Ивонина, арестованные инженеры, по делу которых он вызван из зоны, очевидно талантливые люди. Платина им выдавалась на технические цели. Они разработали новую технологию, позволяющую обходиться без дорогостоящей платины, которую утаивали несколько лет. Это было совершенно незаметно по техническому процессу – ценнейшее изобретение! Но, видимо, награда за него настолько несоизмерима с реальной выгодой, что инженеры решили вознаградить себя сами. Если не мириться с уравниловкой, со скудностью оплаты, то талант – преступление. Даже в технической области, даже в хозяйственной. Сколько таких примеров!
Вспоминаю Худенко. В конце 60-х это имя гремело. Радетели хозрасчета изучали и пропагандировали его опыт. Созывались представительные совещания. Был он и у нас, в институте социологии. В Казахстане Худенко взял плохонький то ли колхоз, то ли совхоз и сделал из него образцовое хозяйство. В конторе оставил лишь троих; он – директор, агроном и бухгалтер. Сократил все рабочие вакансии, фонд зарплаты распределил оставшимся, люди зарабатывали у него по 400–500 рублей. Сразу исчез недостаток рабочей силы. Наоборот, к нему рвались, а он не каждого брал – по выбору. Людей меньше – зарплаты больше – выработка больше и лучше, чем в остальных хозяйствах. Похоже на щекинский метод в промышленности. А кончили трагичнее щекинцев. Если обманутого директора Щекинского комбината выпроводили на пенсию, то Худенко посадили. Сначала опечатали кассу, но надо платить зарплату – вместе с месткомом он срывает печать. Его арестовывают, и в следственной тюрьме он умирает. Мой адвокат Швейский ездил туда от «Литературной газеты». Никакого нарушения законности не было – была лишь нормальная работа и оплата по труду. И это, оказывается, преступление. В социалистическом государстве убивают человека за практическое воплощение основного принципа социализма, утвержденного Конституцией. Не парадокс ли? И вся наша жизнь так. Выгода хозяйственного расчета абсолютно бесспорна. Люди в два раза получают больше, чем раньше, зато в пять раз больше производительность. Все бы хозяйствовали так – было бы у нас больше и хлеба, и молока, и мяса, и никакого дефицита товаров или рабочей силы. Кому от этого плохо? Наверное тому, кто хочет, чтобы люди работали бесплатно. Тому, чей лозунг «пятилетку – в три года», а об оплате умалчивается. Тому, кто трубит о моральных стимулах, о сознании, загребая результаты бесплатного труда. Кто не хочет платить и не терпит самостоятельности производителя, усматривая в малейшем движении к хозяйственной независимости и благосостоянию покушение на власть. Такой работодатель – рабовладелец. Они и съели Худенко.
В ту пору министром сельского хозяйства Казахстана был тов. Месяц, затем его назначили министром сельского хозяйства СССР. На словах он, конечно же, за хозрасчет. Активный запевала экономических экспериментов Брежнева, Андропова и нового владыки. А на деле, убивая таких, как Худенко, убивает всякую попытку реального хозрасчета. Кто поверит словам и псевдореформам такого правительства? Почти 70 лет сплошного вранья и выкрутас до корней обнажили его подлинные намерения. Это не эксперименты – это экскременты поганой власти. Все живое она превращает в дерьмо, в котором захлебывается наша экономика, да и все общество. И ничего другого ждать от нее пока не приходится, разве что новых трупов. Она пожирает наши мозги и жизни. Ей нужны не люди – машины. Она жива, пока мы мертвы. Смердящее зловоние этой власти душит, но уже не обманет нас.
…С неделю без особого удовлетворения друг другом сидели вдвоем с Ивониным. Он был за старшего, а я, хоть и отдавал должное отсиженному им, сохранял независимость. Часто он нервничал, доходило до ругани, но, как и все, что делал Ивонин, ругань его была не настоящая. Его поведение и выходки напоминали переводные картинки: несерьезно и быстро смывается. Настроение в камере менялось ежечасно. Потом я перестал обращать на него внимание.
И тут заводят к нам третьего: высокий, молодцеватый брюнет лет за сорок. Дверь закрыли, он секунду помедлил и решительно шагнул к вешалке: «Рубашкам можно найти другое место». Снял рубашки и повесил свое пальто – жест довольно бесцеремонный. Рубашки были Ивонина. Тут бы ему и проявить характер, но он только нахмурился и промолчал. Поджал хвост. Молодец среди овец, а среди молодца – сам овца. Его сразу стало незаметно. Рявкнет иной раз ни с того ни с сего: просто в воздух, на Брежнева или на одного из нас, но мы, если и удостаиваем ответа, то галантно с иронией. Ивонина нельзя было принимать всерьез. Эдик Леонардов – так звали нового – был неизменно вежлив и выдержан. Мы быстро сошлись, Ивонин отстранился от нас, даже на прогулку ходил один. Если мы шли на прогулку, он оставался в камере. Резкость и бахвальство при Леонардове были невозможны, Ивонин его побаивался, а иначе вести себя не мог. Что-то он все хмурился, досадовал про себя. Однажды, когда Ивонин ушел на прогулку, а мы остались, Эдик сказал: «Ты с ним осторожней – темная лошадка». Что его насторожило – не знаю, но спорить не стал. Леонардову можно было верить.
Он чрезвычайно располагал к себе. С ним было легко. Вначале он показался бесцеремонным, но это не походило на наглость. Рубашки он снял правильно – занял принадлежащее ему место. Это нам следовало помочь ему устроиться, но мы только молча смотрели на него, поэтому он стал располагаться по справедливости. Камера – твой дом, дом каждого из нас, здесь не принято церемониться, тут ценятся жесты простые и правильные. Что правильно, Эдик знал лучше меня и Ивонина с его полгодом на зоне. Мы-то по первому разу, а Эдик – пятый. Пятая ходка, как тут говорят. Однако ничем не выпячивался, держался ровно, далек был от того, чтобы прихвастнуть или подразнить кого-то. Это было ему совершенно несвойственно. Все, что он говорил, не вызывало сомнений, ничему не противоречило в нем. Исключительно цельная натура и добрый, судя по всему, человек. Мата от него не помню.
Леонардов никогда в общепринятом смысле не работал. Его стихия – всякого рода подпольный бизнес, «дела». Где бы ни числился, на работе его видели редко или не видели совсем. О «делах» слишком не распространялся, но из разговоров я понял, что это были всевозможные коммерческие махинации, валюта, контрабанда – делал деньги. Чувствовался размах. Крупный, матерый махинатор. Это представление складывалось не столько из его довольно скупых признаний, сколько из образа жизни и привычек. Главные увлечения – бега и карты. Играл крупно. Но умел не разоряться. Даже когда проигрывал в пух, несколько тысяч всегда лежали дома, это были неприкосновенные деньги – бытовые расходы. На игру добывал от новой операции. Он еврей, но стяжательства ни на грош. Никогда ничего не копил, деньги нужны ему только для игры, В крупной игре он видел смысл и азарт своей жизни. Есть у него то ли жена, то ли сожительница – милая добрая женщина, кажется, главный редактор какого-то отраслевого журнальчика. Его деньги ей не нужны, она сама неплохо зарабатывает и отложенное им на черный день никогда не трогает, совсем не касается, ибо знает их происхождение, да и нужды не испытывает. Понадобилась ей как-то срочно тысяча на дубленку, а Эдик третий день в игре, дома не видно. Знала, где его можно найти, разыскала. «Возьми, – говорит Эдик, – ты же знаешь, в серванте лежат». – «Нет, я сама не могу». Пришлось прервать игру, взять такси и скорее обратно. Понимающий человек знает, какая это жертва для картежника оторваться от игры, но ради этой женщины Эдик готов на все, кроме одного: не может совсем бросить карты. Он очень нежно говорил о ней: никогда себе ничего не купит, в магазин только за едой, странная, по нашим понятиям, женщина. Не то чтобы не ценила красиво одеться или была безразлична, а все ей некогда, думает, что у нее нет вкуса. Может, так и есть, во всяком случае, одевал ее Эдик. Он в барахле дока, и все ее размеры знает наизусть, сам покупал ей все, вплоть до чулков и бюстгальтеров. По тому, как светлело его лицо, видно было, что делал он это с удовольствием. В свободное время – домосед, все больше по хозяйству да с сыном. Ни вино, ни женщины его не интересуют. Одна только страсть – игра. Женщина примирилась с судьбой, каждый раз ждет его с очередного срока. Отними у него эту единственную слабость – и по всем понятиям был бы идеальный муж. Но любила бы она его? Это для меня вопрос. Думаю, что не так бы любила. Не было бы в нем терпкости, того романтического куража, который исходит сейчас от его сильной, полетной фигуры.
В денежных аферах его, сколько могу судить, не было воровства, они не вызывали у меня чувства брезгливости. Это чистый в человеческом плане бизнес, никого из людей Леонардов не обворовывал и не обижал. Кому плохо от того, что кто-то промышляет валютой или контрабандой? Есть спрос – и он удовлетворяет его, кто страдает от этого? Это невыгодно только абстрактному государству, которое не может или не желает обеспечить общественную потребность. Почему нельзя пренебречь таким государством, которое пренебрегает интересами людей? Это, как тут говорят, «не западло».
Пятый раз арестован Леонардов по довольно тяжелым статьям, а я не видел в нем преступника – такой преступник симпатичнее многих законопослушников.
Перед арестом он числился слесарем при каком-то министерстве. Арестовали совершенно неожиданно, он не знал, на что и подумать. Было за что – это он, конечно, знал, но не все же им стало известно, а что именно – не мог сообразить. Известно как начинает следователь: «Слушаю вас». Два месяца молчал Леонардов, каждый день вызов и один и тот же вопрос и тот же ответ: «Что вы хотите слушать?» Следователь не может бесконечно тянуть, у него свои сроки, как-то надо сдвигать с мертвой точки. В конце концов он намекает, о чем бы хотел поговорить. Картина сразу проясняется. «Вот по какому делу, – соображает Леонардов, – там были заняты такие-то люди, на него могли выйти только через них – значит, кого-то взяли и тот раскололся». Выходит, вся эта операция следователю известна, артачиться нет смысла. КГБ зря не берет. Мне говорили об этом в предыдущих камерах. Эдик по собственному опыту держался такого же мнения. Теперь ничего не остается, как бороться за минимальный срок. Первый шаг – чистосердечное признание. КГБ любит откровенность, да и какой следователь не любит, но по сравнению с прокуратурой или ментами у следователя КГБ важное преимущество; он держит слово, с ним можно договариваться и торговаться. Главное, для следователя КГБ – не посадить, а вскрыть канал связи с заграницей и взять у преступника больше денег. По этим параметрам оценивается его работа и ради этого он идет на уступки. Леонардов решил разыграть эту карту. Он знал, что по этому делу с учетом прошлого – ставка 10 лет. Но несколько лет можно выиграть, скостить срок. Не давая никаких показаний, он предлагает следователю письменное чистосердечное признание. Следователь охотно дает стопку бумаги. Кажется, речь шла даже о явке с повинной, это меня удивило: «Какая явка с повинной, если ты уже два месяца под арестом?» Оказывается, такое возможно, если ты не давал показаний, не врал, не отрицал, не путал следствие, но до сих пор молчал, то первое полное признание может быть квалифицировано как явка с повинной, смягчающее обстоятельство. В камере Эдик исписал 58 листов. Ничего, конечно, не скрыл из того, что наверняка уже было известно из показаний расколовшихся соучастников, восстановил доподлинную картину своего участия, точно выделил все эпизоды, даты имена. Рассчитав нанесенный государственный ущерб, свою наживу, глубоко раскаиваясь, обещал все возместить сполна. По существу, он со знанием дела написал на себя обвинительное заключение. Следователю оставалось только подредактировать. Через несколько дней приносит. Следователь протягивает руку к бумагам. «Одну минуту, – говорит Леонардов, – я свое обещание сдержал, теперь за вами слово».
Начинается торг. Ну, если все правильно и ничего не скрыто, следователь соглашается два года скинуть, т. е. получается не более восьми. Только тогда Леонардов вручает свой шедевр.
– Вот увидишь: доведу до шести, – говорит он мне.
– Как?
Он избегает прямого ответа, но дает понять, что откупится. Это значит даст деньги сверх арифметики расчетной наживы. Возможно, придется что-то продать, влезть в большие долги, но он был уверен, что на покупку двух лет свободы деньги найдутся. Через 8 месяцев на свердловской пересылке я встретил старичка из Лефортово. Он знал Леонардова и сказал, что тому действительно дали 6 лет. Старичок тоже отозвался о нем хорошо.
Эдик в Лефортово не впервой, и на этот раз сидел уже порядочно. С политическими не соприкасался, но среди прочих неплохо знал, кто здесь сидит и что происходит. Снова говорили о «рыбниках», о темном деле армян, обвиненных во взрывах в московском метро и приговоренных к расстрелу, об ограблении Ереванского банка и надписях в лефортовской душевой: «Прости брат!»; помню, я внимательно высматривал в душе эту надпись, хотя и знал, что ее уже не может быть, что она никак не могла сохраниться, а самих братьев-грабителей увезли, по слухам, в Бутырку дожидаться в камере смертников исполнения высшей меры. Подтвердились нехорошие сомнения о Сосновском. Когда тот обвинял в предательстве своих друзей, он больше всего ругал некоего своего близкого друга, который сидел где-то здесь, в Лефортово. Эдик хорошо знал этого человека, и как только я упомянул Сосновского, он не сдержался, лицо его скривилось от злобы: «Какой подонок! Ведь он сам всех вложил. Не только двух друзей, но и жен, даже на свою жену наплел. Продал Гарта, а сейчас, значит, сваливает на него, ну и мерзавец!». Эдик, оказывается, сидел вместе с Гартом и знает всю подноготную их дела. Никакого дела могло бы не быть, если бы еще до ареста Сосновский не струсил и в качестве свидетеля не наговорил бы лишнего. Он сдал, по крайней мере, человек 15 и так зарапортовался, что сам угодил в тюрьму и других потащил. Одни оказались на скамье подсудимых, другие проходили на суде свидетелями – друзья, любовницы, жены – и всех Сосновский поливал грязью. Гарт сидел рядом с Сосновским, он отказывался от показаний, ничего не сказал ни следователю, ни суду про Сосновского. Но на суде, когда жена Сосновского добавила на всех и своей грязи, Гарт не выдержал и достаточно громко при всех сказал Сосновскому: «Я е… твою жену. Это было тогда-то и там-то, спроси ее – она подтвердит». Вот почему Сосновский возненавидел Гарта и мстит сейчас, как только может. О личности и поведении Гарта Эдик отзывается с восхищением: «Держит стойку!». Гарт – кандидат наук, старший научный сотрудник института международного рабочего движения. По «блату» еще во время следствия специальным прокурорским постановлением ему устроили месяца три одиночки. Но Гарт, по словам Эдика, был молодцом: с веселой злостью переносил удары и не ломался, а только креп духом, становился еще злей и веселей.
Ежедневно медсестра приносила Эдику сердечные капли. Он протягивал в кормушку ложку и пока сестра отсчитывала капли, забавлял ее добрыми шутками. Но однажды возник скандал: вместо обычной сестры, совершавшей у нас обход, заявилась другая, о которой я уже слышал краем уха. Всю жизнь, говорят, торчит в этой тюрьме и славится утробной ненавистью к нашему брату. Ее прозвали Эльза Кох – в честь знаменитой изуверши из гитлеровского концлагеря. Она отклонила протянутую Эдиком ложку и потребовала кружку. Он сказал, что кружка занята, в ней чай:
– Ничего не знаю, положено в кружку.
– Чего вы выдумываете, мне все время капают в ложку!
– Есть инструкция.
– Но поймите, остается сильный запах, из чего я буду пить чай?
– Прекратите уговаривать! Я сказала: кружку! Или вообще не получите лекарства.
– Да какая вам разница?
– Кружку!
– Нет, в ложку! – психанул Эдик.
Кормушка захлопнулась. Таким Леонардова я еще не видел: красный, разъяренный, барабанит в дверь. Просит контролера позвать дежурного офицера. Тот пришел. Эдик поставил его в известность, что сестра отказалась выдать лекарство, и он будет жаловаться. Минут через 10 дежурный офицер приходит в камеру вместе с Эльзой. Она говорит, что есть инструкция, Эдик говорит, что нет. Дело было в воскресенье, большое начальство отсутствовало, и дежурный офицер принял соломоново решение:
– Сейчас я прошу вас принять лекарство в кружку, а завтра вы обратитесь к начальнику за разъяснением.
Эдик принимает почетный компромисс:
– Хорошо, но только потому, что вы лично об этом просите, а завтра я запишусь на прием к Поваренкову.
Он выплеснул чай и подал кружку и долго не мог успокоиться: «Всегда она так, садистка! – говорил Эдик. – Ей удовольствие назло зекам». Если бы он подал кружку, она потребовала бы ложку. Часто жаловались на нее, люди отвечали ей ненавистью. После какого-то крупного конфликта ее отстранили от обхода камер, но она продолжала работать в медпункте. Ее не увольняли, поговаривают, что она пользуется чьей-то высокой протекцией. Запомнился облик ее: пожилая, сдобная, внешне довольно благообразная дама с ухоженным, красивым когда-то лицом. Держится просто, но с достоинством. Эдик, горячился, а она спокойно и твердо стоит на своем. Лишь зная о ней, угадываешь в наружном покое холеного лица цинизм и холодное презрение. С каким наслаждением эта пристойная на вид тетушка дала бы не корвалолу, а яду, заколола бы отравленным шприцем, мучила и издевалась, будь ее воля, и притом с абсолютной невозмутимостью, разве легкий румянец выдал бы внутреннее удовольствие от чужого страдания; и как страшны должны быть боль и мучения жертвы, чтобы девичий румянец выступил на нежных щеках. Обыкновенное издевательство, скажем, порка, мордобой вряд ли всколыхнут ее чувства. Вот что может скрываться за благополучным фасадом доброй тетушки. Невозмутимость ее от презрения. Презрение так велико, что она не удостаивает показать даже ненависть, что она вообще что-либо может чувствовать при виде такой твари, как ты. Если уж нельзя досадить, то ты для нее ноль, вещь абсолютно безразличная – какие могут быть чувства? Лишь на секунду мелькнуло бритвенное лезвие в серых, красивых еще глазах. Тип, созданный для медицинских пыток и потаенных спецзаданий.
Наверное, этого нельзя сказать об основной части здешнего медперсонала. Меня водили на второй этаж к зубному врачу. Я боялся – впервые приходилось рвать зуб, а был наслышан, как это больно, видел, как корчатся люди. Но увидел врача и успокоился. Симпатичная, уверенная в себе женщина решительно усадила в кресло, спросила, замораживать или нет, четко и безболезненно воткнула в десну иглу, взяла щипцы и рванула. Зуб совсем прогнил, корень остался. Щипцы заскрежетали вглубь десны, как по дереву. А она перешучивается с контролером, словно пироги печет, И мне передалось, что зуб мой – совершенный пустяк, и было досадно, что два месяца трусил, терпел ненужную боль, которая в камере становится гулкой, преувеличенной и потому особенно раздражает. Обращение этой женщины по-медицински грубовато, она выговорила мне за запах чеснока, который я прикладывал ночью, чтобы заглушить боль, но доверие к ее профессионализму было полным и от других я слышал добрые отзывы о ней. Кроме больного зуба, у меня весь верхний и нижний ряд почему-то стачиваются у основания. Одна врачиха советует порошок, другая – пасту, в академической поликлинике назначили электрические процедуры, и все, кажется, без толку. Лефортовская врачиха сказала: «Болезнь века. Как следует не изучена. Но не беспокойтесь, с этими зубами проживете долго». На том бы и делу конец, ведь это не академическая поликлиника. Однако она назначает притирания. Несколько дней я ходил к ней лишь за тем, чтобы она, стоя передо мной, терла каким-то порошком мои зубы. Мне стало неловко, и я перестал ходить. Впоследствии лагерные врачи тоже предлагали эту же процедуру, но порошок давали с собой, и я тер сам, пока не надоедало. А вот лефортовская брала труд на себя. По-моему, это нечто такое, что выше профессионализма и врачебного долга.








