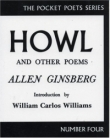Текст книги "Бремя колокольчиков (СИ)"
Автор книги: Алексей Марков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
– Но мы же если уйдём, то – вместе, правда?
– Ксюшенька... Ну, как тебе сказать... Это сейчас тебе кажется, что надо со мной... Ты просто других не знаешь... Я для тебя оказался мостиком, но мостик не нужно брать с собой.
– Ты так говоришь, потому что я тебе не нравлюсь!
– Да нет... Нравишься, даже очень... Но потом... ты тяготиться мной будешь. Да и зачем всё это? Да и поп с инокиней – неправильно это...
– Ну, ты же сам говорил, что в настоящих отношениях и с Богом, и с людьми – нет шаблонов! Что шаблон – это смерть!
– Шаблон... Да ты посмотри на меня! Маленький лысеющий еврей да к тому же ещё и православный поп! Ну зачем тебе, молодой, умной и красивой такое чудо?!
– Ты просто боишься! Ты... ты – как они!
– Не знаю. Может, ты и права...
Они посидели молча. Минут через десять он подошёл и дал ей ещё раз воды. Она медленно отпила. Ещё посидели. Отец Глеб подошёл к окну.
– Не знаю... Но и тем более, зачем тебе? Я тебе помог, чем смог. Надо самой теперь... – сказал он, глядя в темноту.
– Это я тебе помогла! – сказала Ксения перед тем, как захлопнуть за собой дверь. [183]
Но понятиям
Наутро все, что имело смысл,
Перестало его иметь,
И в сером небе вопрос повис Без ответа, как ни ответь.
И нам не о чем больше думать,
И некуда больше смотреть.
Умка и Броневик, «Встань и ходи»
– Кажись всё... Ничего не оставил нужного... – осмотрел опустошённую наполовину келью протодьякон Николай.
– А музыку забирать не будешь? Нормальный аппарат же... -
– Да брось, отец Сергий! Старьё!
– Ну... я не знаю, на дачу хоть отвезёшь.
– Слышь, ты уж блажишь, как Глебушка. Батянь, понимаешь, у меня теперь всё упаковано!
– Эх, жаль, что оно так всё вышло... Добро было жиги нам, братиям вкупе... пока Глеба не выкинули... и Вячеслав ещё служил... Да, не думал, что про то время, как про лучшее вспоминать буду. А теперь и ты уходишь... А помнишь, как Глеб тебя подстебал? Ты тогда с похмелья на службу не вышел, а он тебя тяжко болящим помянул...
– М-да... – усмехнулся Николай, – я его потом месяц так поминал! Потом начали за упокой друг друга поминать: я его новопреставленным, а он меня – приснопамятным...
– Но последнее-то слово за ним все-таки было! На Троицкую родительскую[184], когда канон читается о всяко погибших: и рыбами съеденных, и в огне сгоревших, и прочие ужасы кошмарные... Он тогда прямо на панихиде на весь храм: «Жабой удушенного протодьякона Николая»... Потом ещё настоятель разборку как всегда устроил...
– Лихие 90-е! Иначе не скажешь! Тогда дисциплинку промеж нас ещё не навели. Ну, а теперь что тут делать? Глеб... Вот у меня, тоже с женой не вышло, но нормальный вариант нашёл же! Девка молодая, симпатичная, сексуальная, дочь управленца, вся из себя образованная-интеллигентная. Ну ты видел... И меня папаша её на хорошее место определил! В такую фирму не всякого возьмут ещё! Как люди жить будем, а послужить на праздник я куда– нибудь съезжу, если захочу...
– Ну, всё же у тебя теперь второй брак – по канону тебе служить нельзя... Не, я понимаю, Коль, не смотри на меня так... И вообще... А Глеб в монастыре спасается...
– Ага! От кого он в этом сраном бабьем монастыре спасается? Не, я грешник, факт! Но это же тоже фигня, и ты сам знаешь! Зачем только пургу эту несёшь?
– Ну, а что ему было делать? – отступал отец Сергий под натиском уходящего из церкви протодьякона.
– Конечно, Глебушке до меня далеко! Перед ним бабы штабелями не ложатся, но уж чего-нибудь мог бы найти... Типа он же умный и со страданием на морде! А это иные романтические натуры тоже любят... Хоть бы, блин, послушницу какую нормальную увёл, что ли?... А так сейчас, поди, в грязищи по колено сопли жуёт. И сам не знает, зачем и кому это нужно[185]... Как у Вертинского в песне.
Протодьякон был не далёк от истины. Отец Глеб в этот момент был и вправду в грязи по колено, но на хорошем джипе монастырского спонсора Владимира, который вызвался подвезти его до деревни причастить умирающего.
Спонсор был из братков, здоровый русский парень. Обычно он в монастыре не исповедовался. Духовником всей их бригады был благочинный из города. Но как-то подошёл Владимир на исповедь к отцу Глебу, решив причаститься на праздник. Перечислив грехи, благотворитель обители по известному ему обыкновению наклонил голову перед аналоем. Однако священник не торопился накрывать её епитрахилью. Пауза затягивалась, и Владимир напомнил о себе:
– Батюшка, молитву разрешительную прочтите.
– Да это понятно, прочту, куда я денусь. Вот я прочту: «Прощаю и разрешаю», а Бог скажет: «Не прощаю и не разрешаю», причём и вам, и мне... Мы вот с вами в это всё играем, а Он-то видит и сердце, и дела наши... Я понимаю: время, обстоятельства, все кругом такие и иначе выжить трудно. И сам я приспосабливаюсь, и совсем не образец для подражания... Но ведь всё равно выходит, что мы только играем в Его правду, а не живём по ней...
Спонсор после этого у Глеба никогда не исповедовался, но стал относиться к нему с неким интересом и даже покровительством. И, когда однажды игуменья обратилась к нему, не поможет ли он решить с владыкой вопрос, чтоб другого священника назначили, Владимир почесал короткий ёжик на голове и ответил: «Не, не надо его менять, пусть молится здесь...»
– Не надо меня ждать, я и сам обратно дойду...
– Да бросьте, батюшка, по такой грязищи? Подожду уж... – ответил отцу Глебу благотворитель, когда подвёз его к избе.
Запах в комнате был характерный: мочи и лекарств. В углу на кровати лежал измождённый старик, кожа да кости.
– Вот, батюшка, мы его не кормили, ну да папа и так четвёртый день не ест. Вы уж сделайте, что надо. Анатолием его звать – сказала женщина, убирая со стола грязную скатерть.
– Он причащался когда до этого?
– Что вы! Времена-то советские были...
– Да уж двадцать лет, как не советские.
– Ну... всё равно. Мужик – и в церковь... Много вы таких видали? А он у нас скромный... Всю жизнь – тише воды, никому не перечил... Но против-то Бога не был...
– Понятно... Он хоть в сознании?
– Да вроде был... Ща разбужу его попробую... Пап! Па-а-ап, просыпайся, батюшка пришёл, сейчас тебе всё сделает.
– Доктор? – проскрипел старик.
– Нет, не доктор. Этот уже к тебе не ходит. Батюшка это! Ба-тюш-ка. Причастит тебя или что там надо... Чтоб ты не мучался так...
– А я не знаю... а что надо от меня?
– Анатолий, меня Глебом зовут, я – священник. Прежде всего, вы в Бога верите? Вообще, вам это надо?
Хозяйка посмотрела на священника с удивлением.
– Батюшка, ну, что вы вопросы-то такие задаёте... Вы сделайте, что положено...
– Так если он неверующий, не хочет ничего, то зачем его всем этим насиловать? Не на пользу это никому...
– Не зна-а-а-ю... – отозвался Анатолий, – раньше верить не положено было... В монастыре склад был... А сейчас всё по-другому...
– Поймите, мы сейчас не про положено или нет. Ваш жизненный путь, что греха таить, подходит к концу... Вот, если вы верите в Творца, что Он есть, что Он добрый... Вы можете постараться сейчас подготовиться к переходу туда, к Нему... Но это только если есть вера... Без неё пустой ритуал никому не нужен...
– Жизнь у меня тяжёлая была, батюшка. Война, колхоз... нас раскулачили, когда я ещё ребёнком был... Если бы я думал, во что я верю, что... чувствую... я не выжил бы... – проскрипел старик.
– Пап, ну скажи, что веришь, и всё тут! – снова вмешалась хозяйка.
– Погодите, не надо так. Вообще... давайте-ка я пока один с ним поговорю. Поисповедую, если он захочет...
Они говорили долго. Глеб понимал, насколько тяжело человеку принять какое-то своё, личное решение. Анатолий много рассказывал, вспоминал редкие радости и многие скорби. Жизнь приучила его никогда и не помышлять о том, что он имеет право хоть что-то решать...
– Послушание – превыше всего... – не выдержав, прокомментировал священник.
–Что?
– Да нет, извините... Это я про себя, к слову... Анатолий, дорогой мой, я вас очень понимаю, и я уважаю то, что вы никогда не показывали...не
проявляли, как рассказываете... Но главное, что в вас есть – ваша свободная воля! Никакой веры без неё не может быть, ну... Там – не колхоз, и Бог – не председатель, не НКВДэшник. Ему наша... ваша воля и желание важны, – уже сам не понимая зачем всё это затеял выпалил отец Глеб.
– Хочу, хочу верить! Господи, помоги! – заплакал старик...
– Что-то вы долго, батюшка... – сказал, открывая дверь автомобиля монастырский благодетель Владимир.
– Извините, так вышло... Я уж думал – не дождётесь.
– Да ладно! Во славу Божию! Не бабками же одними грехи замаливать. В монастырь? Обратно?
– Да, в колхоз...
– Куда?
– Да это я так, Владимир... в монастырь, конечно...
Где-то на середине обратной дороги, выворачивая из очередной канавы, спонсор вопросительно глянул на священника.
– Отец Глеб, я всё спросить хотел... между нами... по-мужски... А у вас правда с этой Гликерией, ну, которая из монастыря ушла, что-то было?
Глеб отвернулся и стал смотреть в боковое стекло.
– Да даже было б, говорить бы не стал...
– Понима-а-а-а-ю... – ухмыльнулся, внимательно глядя на священника благотворитель.
Голый завтрак для чемпионов
Сколь раз свой взгляд нужно кверху поднять Чтоб увидеть небесный свет?
Чтобы крики страданий тебе понять Сколько нужно ушей, ответь?
И сколько должно быть могил на свете Чтоб смогла насытиться смерть?
Ветер, один лишь ветер В чистом поле тебе ответит.
Bob Dylan [186] [187] , «Blowin’in the wind».
1 97
– Последнюю пачку книг Воннегута у меня прям из раздевалки в семинарии спёрли, – вспоминал отец Валентин.
– Да, я тогда ещё возмущался: «Зачем ты эту дрянь в святые стены бурсы[188] пронёс», – сказал батюшка Сергий, – а тут препод наш любимый отец Лука сказал, что он бы Воннегута и Берроуза[189] в семинарскую программу ввёл... вместо общего богословия. Мы так и не поняли, шутил он или нет, но мне эти книги мозг сильно подорвали... Где сейчас отец Лука, интересно?
– Куда-то сослали... То ли в монастырь, то ли на приход дальний... – сказал отец Серафим.
– У нас на приходе батёк был, вроде отца Луки. – продолжил разговор отец Сергий – Такой же приколист... Нормальный парень в общем... Да помнить ты его должен, Валь, – отец Глеб. Сейчас в женском монастыре служит. Тоже съели...
– Глеба? В женский монастырь? Ну, это ваще жесть! По мне так лучше под запрет! Конечно, помню, отличный парень! Думающий такой батюшка. Ну и да... приколист. Ты знаешь, как он меня развёл однажды?
–Нет.
– Сижу я у себя на приходе в Америке. Рождество только что отслужили. Вдруг – звонок! Какой-то чувак с акцентом говорит: «Здраствуйтэ! Это из администрейшн президент Буш вас беспокоит. Мы знаем, что вы очень хороший художник и хотели заказывать для наш президент икону! На ней должен быть наш президент на коне, бьющий копьём Садам Хуссейн, как святой Георгий...» Тогда как раз только по ящику их америкосскому про меня репортаж показали: как я служу, с новыми и старыми эмигрантами общаюсь и
иконы пишу. Ну, думаю, вона как сработало. Молчу. Ведь и не откажешь, и как такую фигню писать? Этот в трубке мне ещё что-то про уникальность моего таланта и, что они бы очень хотели, чтоб во время военной операции в Ираке у президента была бы такая икона... Я вообще в ступор впал, все предохранители перегорели... А потом слышу: «Да ладно, отче, не парься! Это я, отец Глеб, помнишь? У отца Сергия встречались. С Рождеством тебя!»... М-да... женский монастырь... Жалко парня.
Бывшие однокашники, отцы Сергий, Валентин и Серафим, встретились на патриаршей службе на Бутовском полигоне[190]. Стояла ужасная жара. Патриарх с епископами расположились в тени под навесом, а духовенство парилось в облачениях прямо под палящим солнцем.
Многим священникам становилось плохо. Один пожилой батюшка начал даже терять сознание. К нему подошёл известный своей лютостью московский благочинный, сделавший в патриархии хорошую карьеру при прежнем патриархе Алексии, и начал шипеть на старика, чтоб тот встал прямо и не притворялся, а если не может отстоять патриаршую службу, значит и вовсе служить не может, и ему подыщут замену.
Отцы Сергий и Валентин стояли рядом и разговаривали, понятно, замечание сделали и им.
– М-да... Отвык я от этого всего на Западе. Ты посмотри, какие все смурные стоят. Все всего боятся: начальства, собратьев, себя самих... Ну, как это? Ведь всем от этого плохо! Что это за церковь такая?
– Привыкай, батяня! Был бы ты и сам таким, вернулся бы из Америцы своей настоятелем. А тебя пихнули пятым попом к настоятелю алкоголику и педерасту... Ладно, давай не здесь... Когда эта байда закончится, пойдём в кафе – посидим втроём с Серафимчиком. Видишь, вон он в первых рядах отрабатывает...
Теперь трое священников сидели в ирландском пабе. Двадцать лет назад они, трое москвичей, учились в одной провинциальной семинарии. Сергей был старше, он перед этим уже успел отслужить офицером в армии. Володя, будущий отец Серафим, был бойким, но не шибко грамотным подмосковным мальчиком. А Валентин – из столичной интеллигенции происходил. В московскую семинарию он сдал экзамены на отлично, но его не взяли из-за нехорошей статьи в военном билете.
После семинарии их дороги разошлись. Сергий стал священником московского храма, где и служил до сих пор. Валентин отучился в академии, занялся серьёзно иконописью, потом смог получить место настоятеля русского храма в Америке. Но вот теперь его отозвали обратно...
Лучше всего сложилась судьба у отца Серафима, хотя поначалу, когда его, молодого монаха, назначили настоятелем развалин огромного храма в глухом подмосковном углу, казалось, что ему-то как раз повезло меньше других. Но очень скоро в этом медвежьем и экологически чистом углу стали появляться шикарные коттеджи: строились крутые и прочие чиновники с предпринимателями. Отец Серафим быстро нашёл с ними общий язык, и дело закрутилось. Сейчас он ездил на Лексусе, отдыхал на Канарах и готовился стать епископом.
– Эх, братцы, вот куплю себе епархию и заберу вас с собой! Правда, ближнюю к Москве не обещаю. У меня столько денег пока нет...
201
– Эх, Симчик, раньше ты таким циником не был. Помнится, симонию осуждал даже, – уколол отец Валентин.
– Эх, дорогой, все ваши беды от того, что вы так и не повзрослели и не отделили веру от бизнеса. У бизнеса свои законы и, если хочешь жить нормально, надо им следовать. А вера... Знаешь, я, когда служу, верю, но это ж не значит, что я всегда верить должен. Когда я по бабам иду, это совершенно не нужно. А не ходил бы я по бабам – так у меня бы давно крыша поехала и я на людях бы отыгрывался. А так я с иудеями – как иудей, с бандитами – как бандит, с антисемитами – как антисемит, ну и так далее, по Апостолу102... И всегда позитивен! Вот это и есть мой символ веры20Ъ
– М-да, оно конечно хорошо, позитивным быть, но как-то ты уж чересчур... Да и как без скорбей?... Разве у тебя их нет?... Знаю, что есть... это хотя бы честно... – сбивчиво заключил отец Сергий после небольшой паузы.
– Вот, ты зовёшь нас в свою будущую епархию. Конечно, вряд ли я или Серёга поедем, – начал отец Валентин, – если только нас, как Глеба, в женский монастырь не сошлют... Но, предположим, мы поехали, а в епархии новой ситуация так складывается, что тебе нас сдать надо. Ну, карта так легла... Сам знаешь, как это бывает. Сдашь или нет?
– О, брат, какие ты вопросы задаёшь... У америкосов, что ль, так говорить научился? Ладно, Валь, не обижайся! Это я любя. Но ты ж и впрямь как-то по– пионерски рассуждаешь... В системе надо уметь не подставляться! Тогда и карта нормально ляжет, это – первое! Второе – своих я не сдаю... до тех пор, пока они сами себя не сдают... А далее – смотри пункт первый.
– Ты извини, Сим, но я ещё один тебе наивный вопрос задам. А причём тут Христос, Евангелие, то, во что мы в бурсе верили? Ну, даже если ты кроме как на службе не веришь, всё равно, должна же быть связь?... Это я не только тебе, себе тоже этот вопрос задаю...
– Эх, Валя! – вмешался отец Сергий, – Глеб тоже всё вопросы такие задавал, и чем это кончилось? Личная вера или неверие... не всегда одно от другого и отличишь-то... это всё – личное спасение, а остальное – бизнес... [191] [192] [193]
Может, не так уж грубо, как Серафим говорит. Да и вообще, я за большее соответствие заповедям... Но по-другому-то не выходит. Не знаю уж, как там в заграницах, но здесь – так! – резюмировал отец Сергий. – Помнишь, у Воннегута в Завтраке для чемпионов[194]: «Чёрный арестант, которому подошло бы надгробие. Он привыкал ко всему, к чему нужно было привыкнуть». Вот и мы такие же чёрные арестанты... Хоть всё вроде и ничего, и эль ирландский пьём...
– Ну да. «Тюрьма на упаковках не упоминалась и молочая тюремная продукция выходила под маркой Королева прерий...», - продолжил цитату из книги их молодости отец Валентин. – М-да... К нашей системке марка такая тоже вполне...
Матер инское сер дце
Театр начинается с виселиц Не потеряй номерка
Юрий Наумов, «Театр Станиславского»
Наверное, это и есть счастье. Переполненный храм, солнце так красиво бьёт лучами через древние окна-бойницы. Твой сын – архиерей, как красив он в этих ярких праздничных облачениях! А все эти мальчики со свечами вокруг него словно ангелы! Вот он говорит немного нараспев, но с назидательностью, то возвышая голос, то снижая до проникновенного, а весь храм затих и внимает как-будто и не дыша:
– Такие ниши святыни, не от мира сего, не от греха! Русь Святая – Нищая духом, но богатая Богом, не понять, нет, не понять им, отступившим в плотские наслаждения и разврат всем этим человекоугодникам, забывшим Бога, что есть истинная духовность наша! Духовные скрепы – это не просто слова...
«Слава Тебе Господи! Смог он с Твоей помощью преодолеть всё, стать таким, Твоим служителем!» – загорелась в материнском сердце молитва, а память вернула её в тот вечер двадцать с лишним лет назад...
Что он сказал, было невыносимо, казалось, минуту назад, когда она рвала на себе волосы, пыталась бить его, выла, она была сама ненависть, прожигающий огнь. Теперь его заплаканное лицо было таким красивым, невозможно родным.
Она опустилась на стул, четырнадцатилетний сын так и стоял перед ней молча, понурившись.
– Ма, но ты же сама говорила, что б я тебе, только тебе всегда правду говорил...
Это её и остудило, да, она его так научила говорить матери всегда правду, кому угодно, что угодно, да, жизнь тяжела и кругом много злых людей, а они всегда вместе и мать всегда примет.
Она многое поняла не сразу, смотрела на друзей и соседей и на хотела так жить, без любви, в ненависти и злобе. Она верила, что Бог не создал их такими, но разве можно было комсомолке говорить о Боге? Она решилась всего два раза. Первый – с подругой в техникуме, через неделю вся группа показывала на неё пальцем, а комсорг даже хотела собрать по поводу собрание, но как-то начальство на одобрило. Второй – с ним, с жениным отцом, в какую-то из тех ночей, что они были близки. Она чувствовала, что нет никого роднее, так рядом... «Два – одна плоть», да, но и один дух, навсегда, перед Богом. Она ему так и сказала, потому что верила, что он чувствует так же. Он ухмыльнулся, так,что она почувствовала – это конец, а потом он встал и закурил... Через неделю они увиделись в последний раз...
Женю, нынешнего епископа Афанасия, она растила одна, мать так и жила в их маленьком провинциальном городке, а она, Валя, по лимиту осталась в
Москве. Общага, пелёнки, в общем, «Москва слезам не верит», только никакой карьеры и прочей поздней романтики. Но была церковь, она начала ходить туда, сначала в близлежащую, но там всегда было не пробиться, а батюшки были все какие-то невнимательные, а то и грубые, без духовной неспешности. А когда она хотела покрестить Женю, то от неё потребовали паспорт отца.
– Но... У него нет отца, я одна...
– Как это? Нет отца? – усмехнулась сухенькая женщина в очках, что оформляла крестины,– На нет и крещения нет, так по закону...тоже мне...
С тех пор Валентина стала ходить в другой храм, Николокузнецкий, что в центре. Народу там было много тоже, но храм попросторнее, а главное отношение и батюшки были другими. Её сына окрестили не оформляя, священник все понял и пошёл навстречу. Она стала ходить туда сначала раз в месяц, а потом и каждую неделю. Для неё открылась совсем другая жизнь, всё советское казалось глупым и нелепым, лишённым настоящей основы, впрочем, и прежние свои мечты и фантазии она вспоминала с грустью или даже раздражением, ну какая любовь может быть без Бога, да и вообще, всё это чувственное, греховное...
– Да, сын, я сама тебя так научила, и ты правильно сделал, что сказал мне всё, – ответила она наконец собравшись с духом,– Теперь тебе надо пойти на исповедь к батюшка и всё ему рассказать. Ты знаешь его, он строгий, но он все видит и понимает. Тут без Божьей помощи не обойтись...
Владыка Афанасий решил давать крест сам, не всем,конечно, первым, здесь спонсоры стояли и прочие важные лица, кого поздравить, просфорку дать, улыбнуться. Уже хотел уходить, а тут мать подошла с заплаканными и счастливыми глазами, смешная старушка. Он дал ей поцеловать крест и ушёл в алтарь. В голове пронеслись воспоминания.
Тот вечер, он решился сказать маме, что не говорил никому... Ему нравятся мальчики... Потом по её совету исповедь у духовника, он не хотел говорить, но мать стояла сзади и он понимал, что не сможет соврать ей...
Священник, расспросил обо всём, давно ли, как это у него, молчал, казалось, невыносимо долго. И наконец сказал:
– Женя, есть такие люди, это как быть искалеченным... Твой крест – быть одному, значит этого Бог от тебя хочет. Начинай ездить в монастыри, там, может, найдёшь своё место, и никому кроме как батюшке на исповеди не рассказывай об этом...
И он не рассказывал, и по монастырям с матерью ездить стал, было то их в советские годы всего ничего.
Был один монах, который как-то особо с пониманием отнёсся к Жене, к нему он старался попасть каждый раз, как бывал в обители. Лет 17 ему уже было, и монах тот позвал его в келью... Потом другой раз, и ещё... Он ему рассказал, что таких как он немало, и что ни мать, ни мирские священники не поймут его, а он– понимает, потому что сам такой... И традиция эта древняя, чтобы монахи любили друг друга, да и среди апостолов не так все просто было, как в Евангелии описано, потому как нельзя открыто говорить, но есть изустные предания...
Тот монах, уже посвятивший Женю не только в теории мужской любви, представил его другу архиерею, тому Женя очень понравился, он взял его к себе в келейники... Дальше жизнь закрутилась, заочная учёба в семинарии, поездки с архиереем, обеды, праздники. Как-то один, казалось, мелькавший на архиерейских приёмах человек, неожиданно подошёл к Жене на улице, заговорил с ним о том, что служба Богу это очень хорошо, но неплохо бы служить и Отечеству. Женя перепугался, а вдруг его вот так в армию забрать хотят, но у него справка... собеседник улыбнулся, он не об этом, пусть Женя не пугается, Отечеству по-разному служат...
Теперь, 30 лет спустя, он усталый от службы ещё не старый перспективный архиерей идёт в алтарь, вот парнишечка семинарист этот... Как же он ему по сердцу... Нет, епископ Афанасий почти никогда не прибегал к насилию, это лишнее, но если парень внутри свой или расположен... Секретарь обещал прощупать, но как-то всё ничего, надо б поторопить его...
Валентина стояла в стороне и видела со спины ушедшего в алтарь сына– архиерея. Показалось? Пронзило как-то, когда она крест целовала, что ухмыльнулся он совсем как его отец тогда, сорок лет назад, когда она поняла, что больше ничего не будет... Искушение бесовское какое-то...
Отпуск в лучах заходящего солнца
Всегда на посту.
Голова в облаках.
Повторяет слова, звучащие громко в ушах.
Но его никогда не слышат,
И слова его никому не нужны.
Но ему всё равно.
The Beatles, «Fool on the hill» [195] .
Он подходил к своему дому. Вот и подъезд. Почти полгода здесь не был, так что ему показались приятными и этот затхлый воздух, и дребезжащий звук старенького лифта.
Свете Глеб позвонил заранее, предупредил, что приедет. Она была доброжелательна. Теперь отношения как-то почти наладились, то есть, их как бы не было, но в этом отсутствии отношений была уже не отчуждённость, а ровное спокойствие. Её устраивало, что несколько раз в год он приезжает, привозит какие-то деньги, общается с детьми, в чём-то помогает. А он видел их недолго, и раздражение не успевало накапливаться, прежние же претензии и обиды остались в прошлом.
– Заходи. Как добрался? – спросила, впуская мужа, Светлана.
– Нормально.
– Ребята не пришли ещё. На занятиях...
– Ну и ладно. Надеюсь, я тебе не помешал?
– Слушай, прекрати, договорились же...
– А разве лучше было бы, если я б этого не спросил?
Он улыбнулся. Она в ответ. Такого давно уже не было...
Потом он разбирал вещи. Она рассказывала о детях и всяких проблемах. С работой у неё опять не ладилось, впрочем, и с детьми-подростками, тоже. Он обещал поговорить с отбившимся от рук сыном. Она уверяла, что Глеб для него – не авторитет, но пусть уж попробует, ведь чем чёрт не шутит, когда речь идёт о разговоре с попом. Посмеялись. Ещё поговорили о детях, о ценах и окружающей озлобленности сограждан, о том, что всё не слава Богу и в церкви, и в миру.
– Свет, знаешь... А если я вернусь в Москву?... Совсем...
– Тебя снова выгнали?
– Нет...пока... Просто с этим монастырём женским совсем я уже смысла не вижу... – продолжал Глеб, встав со стула и подойдя к окну. – И им я не нужен, ну а мне давно всё это театр абсурда больше напоминает. А со временем всё только ухудшается...
– Прогнать, понятно, не прогоню – это и твой дом... Но как-то не хочется, чтоб ты сюда вот так взял и приехал... лёг здесь и всё...
– Служить в Москву меня не пустят, это ясно... Куда-нибудь устроюсь в Подмосковье, если удастся. Ну, или какую-то светскую работу найду...
– Да где ж тут найдёшь её в нашем возрасте? Кому мы нужны? Детям своим и то – не очень...
– Знаешь... Я не об этом, даже. Что-то наверняка найдётся. Пристраиваются люди... Москва, всё же... Я про то, как нам с тобой...
– Не знаю... – сказала Света, помолчав и покрутив в руке старую заколку. – Я боюсь... Сейчас всё так привычно уже, гладко что ли... А при всей нервотрёпке, если ещё и между нами начнётся... я не выдержу... Да и детям не знаю, что лучше... Вроде и не хватает порой слова отцовского, но и тесно у нас... Да и они уже сами по себе становятся... Но, с другой стороны, я всё же не феминистка, скажем так... Глебушка, давай подождём, подумаем ещё. Я тебя услышала.
На следующий день он поехал загород, навестить Клавдию, уже совсем пожилую некогда регентшу хора московского храма, в котором Глеб алтарничал ещё до священства.
Несмотря на возраст, Клавдия не потеряла талант острого ума и колючего слова. В последнее время даже поползли слухи, что она старица , на что та только и отвечала: «Дура я из брянского лесу, и вы-то не умнее, раз в этакой крапиве вы розу углядели».
Про брянские леса не так просто говорилось. В войну девочкой она пряталась там, когда сгорела её деревня. Партизаны сильно досаждали фашистам, и полицаи из местных чуть не расстреляли её вместе с другими, которых взяли в заложники. Какой-то немецкий офицер тогда увёл её и спрятал в своём доме. Потом были многие скитания. Она встретила партизан, которые не приняли малолетку, но отвели в село, где добрые и совершенно нищие люди её приютили.
Это была верующая, некогда многодетная семья, лишившаяся во время репрессий, голода и войны почти всех своих сыновей и дочерей. Тогда-то Клава и укрепилась в вере настолько, что ни изгнание из института за религиозные взгляды, которые она и не думала скрывать, ни угрозы, ни жизнь по чужим углам и вечное понукание начальниками и партработниками не могли заставить её стать хотя бы скрытной.
Она лично знала многих легендарных отцов и епископов тех лет, которые возвращались из лагерей и ссылок. А в хрущёвское гонение она и сама чуть не угодила за решётку. Она тогда работала в детском саду и перед едой, не стесняясь, молилась. Некоторые дети стали ей подражать. Некоторые, особо бдительные родители, обнаружили это и донесли, куда следует.
Внешне грубая и, как говорила она сама, малограмотная, Клавдия несла настоящую, яркую, хоть и грубоватую по форме, глубокую, совершенно не [196] показную культуру всей своей сутью. Недавно только стало известно, что она монахиня, постриженная одним известным на всю Россию батюшкой, отсидевшим в сталинские времена немалый срок. Пострижена она была с именем София.
– Бери шоколадку, отец Глеб, она вкусная! – угощала гостя Клавдия– София. – Я ж тебе рассказывала, как шоколад я первый раз увидела? Немец один дал. Протягивает какую-то коричневую гадость, как я подумала, и улыбается, а я заплакала, решила – издевается, фашист. В советской деревне-то и сахар редкость был до войны, а конфет мы и вовсе не видели. А он, поди ж ты, решил, что это я такая партизанка матёрая, что и сладость у врага не возьму...
– Да, рассказывали когда-то... я уж и забыл... Вот, матушка, помнится ещё вы меня отругали, когда в сане первый раз увидели... Я-то похвастаться хотел, а вы меня так осадили...
– Ох, уж помню! Приходит такой фанфарон, де, смотрите! Я теперь батюшка! Ну, а у меня ж между глазами и языком расстояние-то невелико!
– Да, вы тогда сказали, что зря я рясу надел, что ничего сам не понимаю, пень с соплёй, а туда же – учить! Что и сам пропасть могу, и других увлечь...
– Ну, отец Глеб, чего в сердцах не скажешь-то?
–... а я вот теперь думаю, что, и впрямь, не пора бы мне уже отойти от этого... Монастырь, вы знаете, этот... Другого места мне и не светит... Но не в этом дело даже... не о том я... Я ведь и вправду – пень с соплёй, теперь-то вижу, что и сам ничего не могу, и других только запутать... или соблазнить... вольно или нет. Пустозвон я. Когда в городе служил, казалось, что где-то как-то могу пользу приносить, а монастырь, какой бы ни был, всё мне показал... Так не пора ли всё это закончить?
– Эк, ты, батюшка, завернул. Ну, пень, да, был. Сейчас пророс маленько... Дерьма, извини уж дуру деревенскую, и пота понюхал, так что-то соображать стал. Ты – бит, а за таких сколько небитых дают? Вона сколько их кругом, что за славой в церковь пришли, и плюнуть-то негде, сколь их стало! Уж грешным делом думаю, не отвернулся ли от нас Господь, когда все эти строительства и возрождения начались. Что уж мы возрождаем, и не знаю, здания? Но было у нас столько зданий и при царе, и куда это делось всё? Здания без сердец Богу преданных – ничто, пустышка... Ну да ты сам всё это знаешь. А про себя-то – не думай! Не орёл, конечно, но и такая птица сгодится. Тяжело, понимаю, в монастыре-то в современном. Одни, монахи-то, и жизни не знают: только рот свой при зевке крестят целыми днями да учат, как семейным жить по-монашески, ничего ни в той, ни в этой жизни не смысля. А другие, послушники и челядь всякая, горбатятся на них... А женский – так и вовсе каторга. Часто и не поймёшь – в дурдом я приехала или в обитель святую... Меня тут звали в один такой, вроде вашего. Говорит игуменья: «Будете наши помыслы ежедневно принимать!» А сама-то советская вся насквозь, и не вымоешь такое из мозгов, хоть ты пачку этого Тайду туда высыпь и святой водой размешай. Я ей и говорю: «Вы, матушка, простите, невелика загадка в ваших помыслах. Вон они у вас у всех на лицах написаны, и что толку в них