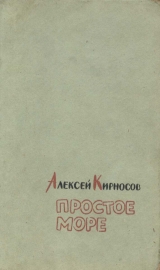
Текст книги "Простое море"
Автор книги: Алексей Кирносов
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Врешь! – не выдержал Васильев.
– Я сначала сам не поверил, потом пригляделся к 6ерегам – именно так. Он вместо того, чтобы банки с востока обойти, полез между ними напрямик. А там ведь промера не было со времен Петра Великого.
– Не было между банками промера, – подтвердил Васильев. – Какой идиот туда сунется? Эти банки даже рыбацкие боты обходят.
– Вот именно это я тогда и подумал... Осел я всем корпусом на радиолокационную станцию, молчу, дышу жабрами, жду, когда ударимся. А он, собака, по рубке ходит, посвистывает, рулевого подправляет, и все – как будто так и надо. Наконец банки остались позади. Я к нему подхожу – ослаб, ругаться не могу, только спрашиваю жалобно: «Зачем вы так пошли, Николай Николаевич?» А он, черт полосатый, улыбается мне прямо в лицо: «Из спортивных соображений!»
– И ты его после этого не выгнал? – спросил Васильев.
– Нет. Слова ему не сказал. Все как-то не верилось, что это было. Захочешь начать разговор...
– М-да... Старпом у тебя дурак, а ты – так дважды.
– Молчи, удельный князь. Какой умник полез бы сейчас на брюхе за твоей ржавой лоханкой? Вот то-то... Смотри, мотобот отвалил от катера...
Вскоре мотобот был уже у борта. Старпом поднялся на палубу и, увидев второго помощника, крикнул:
– Грузи трос в мотобот, Володя!
– Какая там картина? – спросил капитан.
– Очень жалобная, – сказал Коля Бобров. – Люди голодные, курить нечего, на пресную воду навалились, как на пиво...
– Вы мне про катер расскажите.
– Ничего страшного. Носом сидит очень плотно, но корма вся на плаву. Надо дергать. Надежда есть.
Матрасы подцепили стрелой бухту троса, вывалили ее за борт и спустили в мотобот.
– Надо еще подойти метров на пятьдесят, – сказал стартом. —Я сейчас на ходу промерю ручным лотом и вам просигналю, можно двигаться или нет.
– Давайте, действуйте, – сказал капитан и, хлопнув Васильева ладонью по спине, тихо добавил: – А ты говоришь– дурак...
Мотобот отошел от борта и двинулся к катеру малым ходом. Старпом сам мерил глубину ручным лотом. После промера «Градус» приспустился еще на пятьдесят метров ближе к катеру. Теперь завести трос было уже нетрудно. Мотобот дотащил трос до катера, и, когда он был закреплен, Сергей Николаевич дал ход вперед, постепенно доведя его до полного. За кормой кипела вода. Трос вырвался из воды и натянулся. Боцман стоял у брашпиля, готовый подбирать якорцепь по сигналу капитана. Судно дрожало, казалось – оно стремится встать на дыбы. В стороне покачивался лежавший в дрейфе мотобот. Вдруг «Градус» рванулся вперед, и капитан, предчувствовавший этот момент, сразу дал «стоп» и скомандовал:
– Вира якорь!
Боцман повернул вправо штурвал брашпиля, и якорцепь, лязгая на звездочке, поползла из воды в канатный ящик.
Васильев подошел сзади к капитану, сжал его плечи и сказал на ухо:
– Ну, спасибо, Сергей. Выручил.
8
«... Милая Катюша, никак не могу довести это письмо до какого-нибудь конца. Потому не отсылаю. Не отсылаю еще и по другой причине: иногда мне кажется, что я пишу это письмо больше для самого себя, чем для тебя. Я не знаток в этом вопросе, но думаю, что так не пишут женщине, которую знали всего пять дней. Такой женщине пишут вежливо, умно, касаясь только общих вопросов человеческого бытия и не раскрывая душу, может быть, ей и не нужную. Но и это еще не все, что я думаю. А почему я обязан писать тебе так, как полагается? А откуда я вообще знаю, как полагается? А верно ли, что я был знаком с тобой только пять дней? Может быть, я именно о тебе думал предыдущие пять лет, а теперь вот еще полгода думаю... Разве это укладывается в рамку пятидневной встречи? Только со стороны это выглядело вагонной интрижкой. B действительности видишь, во что это превращается... Я не выдумываю тебя. Ты нужна мне такая, как есть, – а я знаю, какая ты. Не знаю, почему знаю, но знаю – и все.
Я помню все, что было между нами, от первого пожатия руки и до последнего. Помню наши прогулки в Красноярске и в Новосибирске, помню последний вечер перед Пермью... Мне уже тогда было как-то не по себе оттого, что ты смешаешься с толпой на вокзале и навеки уйдешь из моей жизни. Помнишь, как ты засмеялась, когда я попросил у тебя адрес? Ты сказала, что я забуду тебя и никогда даже не напишу тебе письма. Пишу, как видишь... Да и не только пишу! Дня три тому назад мы выходили из Усть-Салмы. Я смотрел на море, делал то, что полагалось, а видел тебя на вагонной площадке, открывшую дверь и высунувшуюся всем телом на ветер. И потянуло меня к тебе, как никогда. Я не знаю, что со мной творилось, но только я сделал недопустимое: повел судно между двумя лежащими рядом каменистыми банками. Судя по карте, пройти между ними и ни на что не напороться можно было только случайно. Когда слева и справа запенились буруны – я успокоился. Не помню, что и как я делал, что думал, только я был совершенно спокоен. Я что-то соображал, командовал рулевому, разглядывал покрытые пеной камни, попросил радиста поймать что-нибудь веселенькое. Когда камни остались позади (наверное, ты обо мне думала в тот момент – иначе бы я не прошел!), я с удивлением заметил, что в рубке стоит капитан. Когда он зашел – я не видел. Он был необычно бледен и только спросил меня:
– Зачем вы так пошли?
Что я маг ответить? Брякнул первое, что пришло на ум:
– Из спортивных соображений.
Больше у нас с ним разговоров об этом случае не было. Не могу сказать – почувствовал он что-нибудь или просто был здорово ошарашен, но – спасибо ему. Другой бы мне дыру в голове просверлил по этому поводу, а то бы и выгнал.
Капитан у нас молодец. Я с ним уже много ругался и буду, вероятно, ругаться еще больше, но мы друг друга любим. Он – человек с чертиком в душе. Знаешь, что это такое? Бывает у некоторых вечно бьющаяся жилка. Эти люди беспокойны, чудаковаты, удивительны – мимо них не проходишь равнодушно, и они мимо равнодушно не проходят. Они делают жизнь, а увальни-потребители только загораживают им дорогу, тянут мир назад и всё поедают. Я, наверное, ересь пишу? Ну и пусть, ты поймешь...
А вообще, моя жизнь течет довольно размеренно. Команду я вроде понял. Они меня тоже. Пока обе стороны довольны. Только доктор и буфетчица на меня шипят при каждом удобном случае. Один – пьяница, другая – неряха. И то и другое я воспринимаю как личное оскорбление. Ну и обращаюсь с ними соответственно. Доктор хоть молча шипит – он человек воспитанный, а буфетчица Настя плачется в каждую жилетку, что я, мол, ей жизнь заел и требую чего-то невозможного. Хоть бы ей кто-нибудь объяснил, что такое чистота и для чего она надобна...
Катюша, не хочется ли тебе приехать сюда? А впрочем, не стоит. Куда я тебя дену?..»
9
– Вы меня вызывали? – спросил старпом, зайдя в каюту капитана. Сергей Николаевич показал рукой на кресло.
– Садитесь. Я вас вот о чем хотел спросить: где доктор достал водку? Кажется, здесь нет никаких ларьков. И время достаточно позднее...
Старпом развел руками.
– Не представляю. То, что водка была на судне, – маловероятно. Выпросил, должно быть, у местного жителя...
– А теперь скажите вот что: долго мы с вами будем это терпеть? Вы только взгляните на него... – Капитан поднялся с дивана и приоткрыл иллюминатор.
Доктор стоял около трапа и что-то втолковывал вахтенному матросу, жестикулируя одной рукой. Другой рукой он держался за стойку трапа. Время от времени матрос отпихивал от себя наваливающуюся на него фигуру доктора, отворачивался от него, но доктор ловил матроса за руку и снова пытался заставить его слушать себя.
– Весьма неприглядно... – произнес Коля Бобров и закрыл иллюминатор.
– А что делать? – спросил Сергей Николаевич.
– Думаю, что сейчас толковать с ним бесполезно. Подождем, когда проспится. Надо только убрать его с палубы.
– Нет уж. Ждать я не намерен. Завтра будет соответствующая сцена раскаяния, а на первой же стоянке повторится то же самое. Надо попробовать поговорить с ним сейчас. Может быть, он скажет что-нибудь вразумительное о том, как он понимает свое дальнейшее пребывание на судне.
– Парадокс, – покачал головой Коля Бобров.
– Вызовите его сюда.
Старпом приподнялся и нажал кнопку звонка. Через полминуты на пороге каюты появился вахтенный матрос.
– Пригласите сюда Иллариона Кирилловича, – сказал старпом.
Вахтенный ухмыльнулся.
– Ничего, ничего – пусть приходит как есть! – почти крикнул капитан. – Помогите ему добраться.
Вахтенный вышел.
– Все-таки – лицо командного состава, – заметил старпом. – Поэтому он имеет право на деликатное с ним обхождение.
– Свинья он, и вся тут деликатность, – вздохнул капитан. – Если человек настолько растерял всякую волю, достоинство, мужество – ему надо... – Капитан остановился, подбирая слово.
– Taк что же ему надо? – спросил старпом. – Дайте рецепт.
– Работать надо, вот что, – зло сказал капитан. – А если совсем уже опустился, не можешь работать – тогда раздевайся до трусов, беги на корму и прыгай за борт.
Зашел доктор, затворил за собой дверь и стал опершись плечом о шкаф. Прошла минута в молчании. Доктор смотрел то на капитана, то на старпома.
– Вы меня звали? – наконец спросил он.
– Да, – сказал Сергей Николаевич. – Садитесь.
– Спасибо, – произнес доктор, нетвёрдыми шагами прошел к дивану и рухнул на него.
– Так как это называется?.. – приглушенным голосом начал Сергей Николаевич.
– Что именно? – спросил доктор, пытаясь глядеть на капитана в упор.
– Ваше состояние... – пояснил старпом.
– Какое состояние? – снова спросил доктор.
– В котором вы сейчас находитесь, —сказал старпом.
– Сейчас нерабочее время. Никто не запрещает пить в нерабочее время. Я взял и выпил. Мне так захотелось.
Капитан брезгливо сморщился.
– На судне вообще запрещается появляться в пьяном виде, – сказал старпом. – Кстати, вы были пьяны еще утром, то есть в рабочее время. Как вы это объясните?
Доктор молчал.
– Где вы добыли эту водку? – спросил капитан.
– Это неважно, – сказал доктор. Потом он еще раз повторил: – Это неважно. Это никого не касается.
– Это всех нас касается... – произнес старпом.
Наступила тяжелая, тупая тишина. Только часто дышал доктор да старпом постукивал ногтями по ручке кресла. Наконец капитан резко повернулся к доктору и спросил, пытаясь заглянуть ему в глаза, которые тот старательно отводил в сторону:
– По какой причине вы так пьете, Илларион Кириллович? Что у вас случилось?
Доктор подался назад и прижался к спинке дивана. Улыбка сползла с его лица, веки опустились.
– Зачем это вам? Вы хотите еще и насмеяться надо мной?
– Никому не доставит радости над вами смеяться, —сказал старпом. – Вам хотят помочь выбраться из ямы. Поймите, что так дальше жить нельзя. Наказывать вас надоело – у вас и так уже четыре выговора. Bce за пьянство и связанные с ним прогулы. Этих выговоров вполне достаточно, чтобы уволить вас. А терпеть ваше поведение уж нет никаких сил...
– Я понимаю, – сказал доктор. – Я хорошо понимаю. Меня терпеть трудно... Что ж, гоните!
– Да выгнать вас проще всего! – крикнул капитан. – Только куда вы после этого денетесь?
– С голоду не умру, смею вас уверить...
– С голоду не умрете, так от пьянства под забором околеете! – снова крикнул Сергей Николаевич. – У вас кроме водки остались какие-нибудь интересы в жизни?
Доктор молчал.
– Молчите? Ни черта у вас не осталось... – Вы представляете, какую мы вынуждены будем дать вам характеристику при увольнении? – спросил старпом.
– Уж какую вы мне дадите характеристику – я представляю, – сказал доктор. – У вас ко мне личная антипатия. Не знаю только, какой я мог подать к этому повод...
– Вы еще не знаете... – поморщился капитан. – Вы все прекрасно знаете! Вы знаете, сколько старпому приходилось с вами работать: и уговаривать, и наказывать, и возиться с вами... И все – как в стенку лбом. Вы лицо командного состава, а вам нельзя поручить ни дежурства по судну, ни общественной работы, ни черта лысого! У вас повариха уже два месяца не проходила осмотра на бациллоносительство – вы хоть это знаете?
– Некогда послать...
– Ах, вечно эти объяснения, – махнул рукой капитан. – Ну, старший помощник, что будем делать?
Старпом пожал плечами.
– Балласта у нас и так достаточно. Непьющего причем.
– Ну, а вы как думаете? Скажите откровенно, что с вами делать? – обратился капитан к Иллариону Кирилловичу. Тот молчал. – Ну скажите: вы можете взять себя в руки или все уже потеряно? – снова спросил Сергей Николаевич. – Что вам мешает? Что заставляет вас пить? Почему вы так бесповоротно летите в пропасть?
Доктор откинул голову на спинку дивана и плотно сжал челюсти. Он прижал ладонь к глазам, и вдруг часто задергалась его интеллигентная бородка, горло, плечи... Капитан отвернулся к столу. Стартом достал записную книжку и уперся в нее глазами. Наверху радист включил трансляцию, и каюта наполнилась механическими звуками фокстрота. Капитан резко вывернул ручку динамика. Доктор опустил руку. Глаза у него стали большие, красные и сухие.
– Можно, я еще раз попытаюсь? – тихо спросил он.
– Можно, – так же тихо сказал Сергей Николаевич. – Только этот раз будет уже последним. Идите спать. Не шатайтесь по палубе – это противно.
– Я пойду, – произнес доктор и поднялся. – Мне очень тяжело, Сергей Николаевич. Тяжело еще и потому, что я понимаю, какие доставляю вам неприятности. Попытайтесь меня если не понять, то хотя бы простить в душе...
– Идите, идите, – сказал капитан. – Вы сами попытайтесь себя понять.
10
Перед рассветом «Градус» вышел из Усть-Салмы. Жизнь текла привычным чередом – вахта, приборка, завтрак, судовые работы... Боцман собрал матросов на палубе у носового трюма и в десятый раз растолковывал, как снимаются буи и вехи. Васька Ломакин, матрос своенравный и недисциплинированный (не бывавший еще на военной службе), слушал боцмана со скучающим видом. Он плавал на «Градусе» третью навигацию, и вся эта нехитрая, хоть и трудоемкая, техника была ему знакома, как употребление ложки. Когда боцман полезет на буй снимать фонарь – он, конечно, позовет с собой его, Ваську, потому что ему не надо ничего объяснять, показывать – мол, подержи это, отверни то, отдай скобу, вытяни сигнальный конец... Васька сам знает, в каком порядке что делать. Он и ведет-то себя немножко нахально, потому что уверен в собственной незаменимости. Ему простят то, за что, скажем, Витьке Писаренко вкатают выговор, да еще заставят три дня гальюны драить.
Витька слушает боцмана со вниманием, стараясь основательно усвоить смысл механики этого дела. Ему тоже хочется побывать на всхлипывающем, болтающемся, как ванька-встанька, буе, и он иногда бешено завидует Ваське. Но завидуй не завидуй, а если опыта и сноровки не хватает – ничего не попишешь. Приходится оставаться на палубе, работать с тросами и растаскивать по палубе металлические, обросшие тиной горшки вех, грязные, ржавые якорные цепи и чугунные лепешки якорей.
Абрам Блюменфельд тоже слушает боцмана, но до него мало что доходит из этих объяснений. Мысли Абрама сейчас далеко – на тихой улице, где за непроницаемыми кустами сирени и дикого боярышника укрылся почерневший от старости одноэтажный домишко. В этом трогательном домике живет медсестра Маруся из городской больницы, а чувства Абрама к ней запечатлены у него на плече в виде проткнутого кинжалом синего туза. Маруся ничего еще не знает о существовании туза, – ее отношения с Абрамом развиваются неторопливо и целомудренно, как в толстом благополучном романе. Весной они ходили вместе в кино и в музей. Летом, в те редкие дни, когда Абрам бывал в городе, они гуляли в паркe. Осенью стали снова ходить в кино, в музей и один раз пошли на концерт московского артиста Аркадия Алмазова. Прельстились яркой афишей. Иногда Абрам позволял себе многозначительно вздыхать, прощаясь с Марусей – чтобы мaмa не заметила – в двух кварталах от дома. Но разве девчонка в восемнадцать лет может понять, что значат вздохи двадцатилетнего мужчины, что значат вздохи матроса!.. А лезть на буй Абрам не стремился. Там ему нечего было делать – разве только ферму разломать на брусочки. Его могучие руки нужны были на палубе. А здесь работа простая, да и второй помощник всегда покажет, что и как делать.
Еще на трюме сидели Александр Черемухин и Юра Галкин – два рулевых, привлеченных по авральному случаю к палубной матросской работе. 0ба они тоже слушали боцмана внимательно. Юра слушал потому, что ему хотелось работать как можно лучше, и, кроме того, он очень уважал боцмана Ваню Хлебова как человека и верил ему. А Черемухин уважал в Ване Хлебове только боцмана, непосредственного начальника палубной команды. Он считал Хлебова человеком серым и ограниченным и в душе решил, что Ваня так и помрет боцманом, хотя вслух этого не высказывал – во избежание неприятностей. Несмотря на свои девятнадцать лет, Черемухин уже не любил ссориться с начальниками. Внутренне он оправдывал себя тем, что ему нужна хорошая характеристика для поступления в институт. Институт он себе еще не выбрал, но уже точно знал, что через год, набрав достаточный рабочий стаж, он в какой-нибудь институт поступит. На «Градусе» Черемухин уважал только капитана и немного – второго помощника. Все остальные виделись ему людьми незначительными. Даже умный, интеллигентный доктор Илларион Кириллович не вызывал в нем уважительных чувств – слишком уж он был слаб и жалок. Черемухин не любил слабых и считал, что мудро поступали те народы, которые бросали в пропасти хилых младенцев. Но он давно уже понял, что за такие взгляды больно бьют.
Наконец боцман кончил занятие, сказал, что клинья, которыми вехи заклинены в бакенах, надо не разбрасывать по палубе, а складывать в определенное место, и распустил команду. Боцман решил зайти ко второму порасспросить о некоторых общих вопросах и уже направился в сторону кормовой надстройки, но второй помощник в этот момент сам вышел на палубу.
– Как дела, Ваня? – дружелюбно спросил Владимир Михайлович.
– Все в порядке, пьяных нет, – ответил боцман традиционной шуткой. – Мы сначала будем вехи снимать или буи?
– Буи, надо полагать. Оказалось, нам четыре буя снимать придется. Еще Плещеевская банка прибавилась. Как раз за два захода и отбуксируем их в Усть-Caлмy.
– На весь день занятие, – прикинул боцман.
– Думаю, что и на вечер. А с завтрашнего дня вехами займемся.
– Значит, к субботе будем дома?
– Сегодня у нас среда?
– С утра была.
– Как ты скучно остришь, боцман... Если сегодня мы с буями разделаемся, то на вехи потребуется еще два дня... а то и с половиной. Потом еще надо будет выгрузить вехи в Усть-Салме, перетаскать их на склад...
– Это недолго.
– Все равно – время. Так что при самых благоприятных условиях мы с этим разочтемся в субботу к обеду. А в практической жизни, дорогой боцман, условия никогда не бывают самыми благоприятными.
– В субботу, значит, дома не будем, – уточнил Ваня Хлебов.
– Мое мнение, что не будем. Во всяком случае – в ближайшую субботу. По этому поводу советую тебе уделить Насте побольше внимания, – подмигнул второй помощник.
– A ну ее в болото, – скривился боцман. – Лезет, нe знаю чего. Губы красит, а от самой черт знает чем пахнет... Когда к первому бую подойдем?
– Минут через сорок. Приготовь побольше кранцев нa левом борту – волнишка разгуливается, колотить будет...
Тихо, незаметно подошел доктор.
– Я хотел обратиться к вам с небольшой просьбой, – сказал он помощнику.
– А, Илларион Кириллович! Мое почтение. Как голова? Не побаливает?
– Очень худо, – пожаловался доктор. – Так у меня к вам...
– Слышно, вас капитан вчера прошвабрил?
– Немножко. Я хотел у вас попросить...
– Это он в отместку за то, что вы ему зуб не вылечили.
– Ему зуб рвать надо. Я смотрел. А он мне такую, с позволения сказать, сложную операцию не доверяет. Так я хочу попросить у вас на время одного матроса.
– Пожалуйста, сколько угодно.
– Мне нужен матрос Черемухин. Он, как вы осведомлены, неплохо рисует, а я намерен выпустить сегодня стенгазету, посвященную задачам нынешнего плавания и вообще... Ведь мы, выражаясь торжественно, закрываем навигацию.
– Эх, доктор, для нас это торжественное закрытие навигации выразится в промокшей, испачканной грунтом робе, четырнадцатичасовой вахте в собачью погоду, двух-трех увечьях, одной аварии и тем, в частности, что лично вас капитан выгонит, не дожидаясь прихода в базу. Так что, чем мастерить газету, лучше постирайте бельишко, пока горячая вода под руками.
– Вы лирик, я понимаю, – нахмурился Илларион Кириллович, – но у меня сейчас болит голова, и я не способен наслаждаться вашими элегиями. Дайте мне матроса Черемухина, и я перестану вас беспокоить.
– Похмелье – пренеприятнейшая вещь. – Помощник взял доктора за пуговицу. – Особенно для человека с высшим медицинским образованием, который понимает, как это мерзко – напиваться до потери всякой сознательности... И зачем вам выпускать стенгазету? Ну как вы понимаете это слово: стенгазета? Для какой надобности она существует?
– Перестаньте, Владимир Михайлович. – Доктор отобрал пуговицу. – Я с вами серьезно говорю.
– И я тоже. Для чего вы собрались выпустить стенгазету?
– Не «для чего», а «для кого». Я хочу, чтобы люди видели, что они уже сделали и что еще предстоит сделать. Надо дать оценку работы каждого человека, рассказать, кто работает хорошо, кто – плохо, да мало ли еще чего...
– Это все слова, как говорил товарищ Гамлет. Стенгазета вам, дорогой доктор, нужна для того, чтобы не выглядеть совсем бездельником в глазах команды, – это раз. Чтобы доказать капитану, что вы всерьез собрались исправиться, – это два. Продолжать?
– Какой вы злой циник...
Доктор повернулся и пошел обратно к кормовым помещениям.
– Подождите, Илларион Кириллович! – позвал второй помощник. – Я дам вам матроса, только сейчас это невозможно сделать.
Доктор остановился. Владимир Михайлович подошел к нему.
– Буквально через десять минут мы начнем работать – видите, вон там впереди буй болтается. Если Черемухин в это время займется рисованием вашего агитлистка, отношение к нему команды будет – сами понимаете, какое. Подождите часа два. Подцепим буй, пойдем в Салму – тогда берите своего Черемухина. А если вам пока что нема чего робыть – заставьте Настю вымыть камбуз и раздаточную, взгрейте артельщика за то, что у него грязища в провизионке, проверьте санитарное состояние носовых кают, попросите второго механика наладить вентиляцию в четырехместном кубрике—мало ли дел у доктора на судне. Надо только интересоваться делом, а не собственными переживаниями. Мне бы ваши заботы...
– А второй механик меня послушается, если я его попрошу?
– Не послушается – идите к капитану, настаивайте, добивайтесь. Эх, бить вас некому... А без битья – какое ученье...
– Спасибо, Владимир Михайлович. Вы прекрасно справляетесь с этой обязанностью, – доктор улыбнулся. – Серьезно, спасибо!
11
«Градус» медленно тащился к Усть-Салме, волоча за собой на буксире два больших морских буя. Эти буи отнимали у него ровно половину скорости. Матросы пошли отдыхать, а Черемухина доктор уговорил рисовать стенгазету. Доктор тоже в некотором роде начальство – и Черемухин согласился. Он сидел в салоне, разложив перед собой лист ватмана, и при помощи плакатного пера и разноцветной туши выводил славянской вязью заголовок «На курсе». Потом надо было нарисовать слева «Градус» в профиль, а справа – спасательный круг анфас. На круге следовало написать «№ 7». Сам доктор ходил по судну и собирал заметки. Старпом, потея и чертыхаясь, сочинял в рубке передовую статью. Витька Писаренко, свекольно покраснев, сунул доктору стихи и взял с него клятву, что он поместит их в газете под псевдонимом Моряк и никому не скажет, кто написал. Доктор дал клятву и прочел стихи на палубе, спрятавшись от ветра за носовую надстройку.
Идут корабли,
а где-то вдали
осталась моя земля.
Чужая страна.
Чужая волна
грызет борта корабля. Скорей бы, скорей
из этих морей
уйти к родным берегам!
И след за кормой
дорогой домой
все время кажется нам.
Прочитав стихи, доктор улыбнулся, а потом загрустил и долго еще стоял за надстройкой, не замечая того, что он без шинели, а ветер становится все сильней и холодней. Он думал о том, что нестриженый Витька Писаренко, с исцарапанными руками, бывший ученик шестого класса, «убоявшийся бездны премудрости», все же стремится к чему-то, придумывает себе судьбу, мечтает, слагает стихи... Может быть, боцман учит французский язык – никто не поручится, что это не так. Капитан Сергей Николаевич изобретает какой-то прибор для определения скорости судна относительно дна. Черемухин рисует. Даже старик-артельщик держит дома токарный станок и точит на нем какую-то ненужную ему в хозяйстве посуду. А чем увлекается, к примеру, Вася Ломакин? Тоже, надо думать, о чем-то фантазирует... Доктор стал думать о себе. Ветер вышиб из глаз слезинки. Доктор встряхнулся и пошел в салон.
Вокруг Черемухина уже собрались любопытствующие. С двух сторон животами на столе лежали Настя и Юра Галкин. Через плечо художника глядел на его работу Владимир Михайлович. Черемухин уже написал аккуратный желто-синий заголовок, вымыл измазанные тушью руки и приступил к изображению «Градуса». Настя жмурилась от удовольствия, глядя, как быстро и уверенно бегает по ватману остро отточенный карандаш. На бумаге возник корпус, надстройки, мачты, шлюпки, флагшток и даже миниатюрные иллюминаторы на бортах.
– И надо же иметь такой талант! – громким шепотом восклицала восхищенная Настя. – Такой художник, а рулевым работает...
– Не пугайся, он тут долго не проработает, – сказал Владимир Михайлович.
– Почему вы так думаете? – спросил Черемухин, не поднимая головы.
– А мне и думать нечего, я твои планы знаю, – засмеялся Владимир Михайлавич.
Черемухин промолчал, поболтал кисточкой в стакане и стал раскрашивать тушью «Градус» и прилегающее море.
– Тебе надо стаж наработать, – сказал, подождав, Владимир Михайлович, – чтобы чисто в институт проскочить. Теперь такие времена, что в институты без рабочего стажа только гениев да жуликов берут... Впрочем, ты поступаешь правильно. Я одобряю. Учись, мой сын. Науки сокращают... Что они сокращают, не помнишь?
– «...Опыты быстротекущей жизни», – напомнил Юра Галкин.
– Вот именно. Пушкин был не дурак в этом отношении. В десять лет понял, что без образования далеко не пойдешь. А человеку всегда хочется пройтись подальше. Ты это запомни, Черемухин. Посадят на одно место и скажут: сиди тут и твори историю за девятьсот восемьдесят рублей в месяц. Каково тогда-то, а? А где-то люди живут, творят настоящее дело, любят, пишут симфонии...
B салон забежал Преполивановский.
– Доктор, вам старпом передовую прислал, – сказал он, подавая Иллариону Кирилловичу исписанный лист. Владимир Михайлович перехватил лист, уселся в кресло и стал читать, хмурясь и шевеля губами.
– Вот что значит черствость души, – вздохнул он. —Неужели он и женщинам таким суконным стилем пишет? Вы только послушайте, Илларион Кириллович: «Наступил самый ответственный период осенне-зимней навигации. Вступая в него, экипаж нашего судна должен с полной ответственностью отнестись к задачам, поставленным перед нами...» Гм... Язык сохнет... « ...Наряду с дисциплинированными и серьезно относящимися к своему делу матросами, мы имеем и такие явления, как товарищ Ломакин, который грубит командному составу и особенно боцману, не приходит вовремя с берега, или такие явления, как буфетчица Кубланова, которую никак нельзя приучить к опрятности и выполнению судовых правил... » Оказывается, Настя, ты – явление? Ха-ха. Слушай, явление, у тебя там не осталось компота от обеда?
– Какое я ему явление? – возмутилась Настя. – Я на него в судовой комитет пожалуюсь. Пусть нас наконец разберут. Шагу ступить не дает спокойно: то ему не так, это ему не эдак...
– Ты не обходи вопрос насчет компота, – напомнил помощник.
– Компот, кажется, есть. Пойду посмотрю.
Настя сходила на камбуз и вернулась с двумя стаканами компота. Один стакан она подала помощнику, а другой тихо поставила на стол около левой руки Черемухина.
– Спасибо, – сказал Черемухин и выпил компот залпом.
– Какое у тебя щедрое сердце, Настя, – съязвил помощник. – Ну, я пошел наверх. Вроде скоро швартовка...
12
Поздним вечером «Градус» привел в Усть-Салму еще два буя. Их отцепили и оттащили к берегу за причал. Через несколько дней вызванный из ближнего колхоза трактор вытащит их на сушу. Стрелой выгрузили на причал ржавые якорные цепи и четыре пятисоткилограммовые «лягушки», на которых в море держались буи. Матросы отнесли промокшие, испачканные глиной ватники в освобожденную от запчастей сушилку. Потом кое-как прибрали палубу и пошли спать. Времени для отдыха оставалось немного.
Капитан и старпом спустились с мостика и вместе вошли в коридор кормовых кают.
– Заходите, – пригласил Сергей Николаевич, открыв дверь своей каюты. Коля Бобров прошел в каюту и сел на «гостевое место» – уютное кожаное кресло. Сразу стало тепло, бездумно, приятно... Сергей Николаевич снял китель, рубаху и скрылся за занавеской, отделяющей умывальник от каюты. Тонко зазвенела струя воды.
– Четырнадцать часов мы с вами сегодня отстояли, – сказал Коля Бобров. – Я уже отвык от такой работы.
– Еще денька два так поработаем – снова привыкнете. – отозвался капитан из-за занавески.
– Полдела вроде сделали?
– Не говорите, Николай Николаевич. С этими вешками иногда бывает столько возни, что похуже любого буя. И погода портится. Ветер через вест уже перевалил, на норд заходит, усиливается. И на волне эту вешку зацепить крайне трудно... Вы обратили внимание, как на барографе кривая вниз пошла?
– Обратил. По-моему, не слишком резко.
– Не резко, но уверенно. Это плохой признак. Так что надо торопиться. Завтра попробуем до света выйти, часов в семь. И ночевать будем в море... Тридцать металлических вех возьмем на палубу?
– Возьмем и сорок, если понадобится.
– При волнении?
– Владимир Михайлович закрепит. Он в этом отношении голова...
– Завтра и послезавтра надо с этим делом управиться. Я поговорил с Васильевым – он согласился с входного фарватера деревянные вехи катером снять. Так что с фарватера нам останется снять только четыре металлические вехи. Мы их выдернем на обратном пути.
Капитан вышел из-за занавески, надел коричневую байковую куртку и сел к столу.
– Не организовать ли нам чайку на сон грядущий? – спросил он.
– Мудрая мысль, – согласился старпом. – Опять только с Настей видеться придется...
– Она на вас уже пожаловалась, что вы ее в газете явлением обозвали.
– Устно или письменно пожаловалась? – усмехнулся Коля Бобров.
– Пока устно, но в очень резкой форме. Я ей попытался растолковать смысл ваших обвинений. Сказал также, что целиком солидарен со старшим помощником. Она, бедняга, заплакала и ушла.







