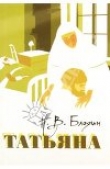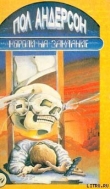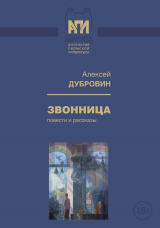
Текст книги "Звонница (Повести и рассказы)"
Автор книги: Алексей Дубровин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Кому скажи, не поверят
Надо ли говорить, что все фамилии лиц, причастных к космосу, были закрыты. Куда ехали пермяки, знал лишь ограниченный круг. Фотоаппараты брать с собой не разрешалось, записные книжки тоже. Записи вести строго запрещалось. С кем работали, отдыхали – рассказать? Ни-ни… А как хотелось чисто по-человечески хоть что-то оставить на память. Олег Сарачев не раз видел, как простым солдатам и офицерам на Байконуре Гагарин давал автограф.
В 1968 году после удачного старта Сарачев оказался за одним столом с Юрием Алексеевичем. Отмечали запуск.
– И надо же, вспомнил: есть с собой малюсенькая записная книжка. Как кто-то подтолкнул, – рассказывает корреспонденту «“Комсомолки” в Перми» Олег Семенович. – Громко так говорю: “Скажи кому, не поверят, что Гагарина видел”. Юрий Алексеевич живо откликнулся: “Где расписаться?” Получил я самый дорогой для меня автограф. Через двадцать три дня Юрий Алексеевич погиб…
Бремя славы нес легко
Александр Небогатиков, заместитель начальника отдела эксплуатации, видел Гагарина в 1966 году на космодроме.
– Среди других в толпе военных Гагарин сразу бросился в глаза, – делится воспоминаниями с «“Комсомолкой” в Перми» Александр Иванович. – Возле Гагарина постоянно водоворот. Один отошел, другой подходит. Третий уже идет. А на лице первого космонавта ни тени усталости и раздражения. Он был создан нести бремя славы. Вчера, да и сегодня мир вспоминает русских по гагаринской улыбке.
Он всех нас позвал в космос
Пермячка Галина Смагина – пилот 1-го класса. Освоила несколько типов реактивных самолетов, летала на Ту-134 Пермского авиаотряда. В 1961-м оканчивала техникум, когда услышала о старте Гагарина. Вспоминает:
– Нам казалось, что со стартом Гагарина космос стал нашим домом. Я, как и многие, просилась в отряд космонавтов. Верила: полечу! Сколько нас было по стране, готовых хоть дворниками работать на космодроме. Но для меня это оказался праздник несостоявшейся мечты.
“Здравствуйте, я – Юра Гагарин”
Корреспондент «“КП” в Перми» не удержался от соблазна узнать, а есть ли в Прикамье тезки первого космонавта? Как им живется с таким именем? Оказывается, есть. “Полных” Гагариных в области три человека. В Перми проживают несколько Юриев Гагариных. Разговорился с одним из них.
– Меня действительно зовут Юрий Гагарин. Работаю оператором на “Пермнефтегазпереработке”. В космосе не был… Как к имени-фамилии отношусь? Вообще-то привык! Люди часто удивляются. Между нами говоря, приятно носить фамилию первого космонавта. Горжусь ею. Для меня, уверен, и для многих тоже фамилия Гагарин самая-самая… Повезло мне.
Я соглашаюсь: повезло».
Опубликовано в газете «Комсомольская правда в Перми» 11 апреля 2001 г.
* * *
Война безжалостно ударила по нашему роду даже не кувалдой, а каким-то огромным крупповским молотом. Дед по отцу – Дубровин Петр Егорович, 1911 года рождения, – как записано в «Донесении о безвозвратных потерях» Министерства обороны РФ, «рядовой, выбыл между 22 июня 1941 года и 1 сентября 1941 года», числясь на период гибели в 22-й армии 112-й стрелковой дивизии. Следует отметить, что значительная часть призванных в 112-ю стрелковую дивизию состояла из числа жителей Молотовской области.
Не вернулись с войны родственники: Шистеров Афонасий Петрович, рядовой 119-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии, погиб 29 марта 1945 года и похоронен в городе Нойштадте (Германия); Шистеров Евлампий Петрович, рядовой, пропал без вести в 1941 году; Шистеров Иван Иванович, младший лейтенант 906-го стрелкового полка, погиб в бою 28 января 1942 года, и другие.
Дед по материнской линии – Шистеров Пимен Петрович, 1905 года рождения, – от призыва на фронт в годы Великой Отечественной войны был освобожден в связи с потерей слуха. Но успел отслужить в Монголии в 1939 году, о чем имеется запись в его трудовой книжке. Монголия тех лет оставалась ареной боестолкновений с японцами. Дед с честью выполнил свой воинский долг, а затем и гражданский. Умер в 1948 году, простудившись на работах в лютые январские морозы.
Никто из родных от службы не увильнул, каждый отдал свой долг Родине.
ПРО ТО, КАК ДЕД ОТСЛУЖИЛ В РККА
«Дед наш, Пимен Петрович Шистеров, родился в 1905 году в деревне Уварово Очёрской волости Оханского уезда. Трудовая книжка содержит запись о том, что до поступления молотобойцем на Очёрский завод бурового оборудования в 1938 году его трудовой стаж насчитывал десять лет. На деле дед с малолетства работал, то есть знал цену копеечке.
В июне 1939 года призвали Пимена Петровича в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию – РККА. Отправили в конную кавалерию, в часть, стоявшую в степях Монголии. Одели, обули, дали лошадь, винтовку. Неспокойно было в тех краях. Постоянные стычки с Японией, провокации на всей линии границы, диверсионные вылазки японцев в Китае, в той же Монголии. Да еще вдобавок пылили летние степные бураны, а вокруг лежала незнакомая местность. Все в совокупности заставляло держать ушки на макушке.
В один из дней дед с табуном лошадей своей части попал в буран. Ни земли, ни неба не видать. Где свои, где друзья-монголы, непонятно. Пропал дед без вести. День нет, два. Пробовали искать, а где искать, если на сотни километров вокруг одни степи. Как потом он рассказал нашей бабушке Ирине, посчитали его погибшим. А дед к табуну вплотную в буран прибился, да так и пережидал. За лошадей отвечал, а они, понятное дело, на месте не стояли, отошли от расположения части.
Куда возвращаться, дед не знал. Пошел с табуном бескрайними степями под звездным небом ночами и под палящим солнцем днем. Голодный, изредка он находил колодцы. Двигался сутки за сутками. По рассказам бабушки, почти месяц дед провел в одиночку с табуном, пока не вышел на монгольскую юрту. Залопотали монголы, забегали, напоили его, накормили. Позднее помогли добраться до наших войск. В части деда встречали как героя. Надо же, сам выжил и лошадей всех сохранил. Можно сказать, с того света вернулся.
Демобилизовали Пимена Петровича в октябре того же 1939 года. Моя мама, Зоя Пименовна Дубровина (Шистерова), рассказывала: «Смотрели с сестрами в окно. Увидели, кто-то в буденовке и в длинной шинели идет по плотине. А мама у нас только взглянула: “Девки! Да ведь это отец вернулся!” И бегом встречать».
Буденовку деда я не нашел среди его вещей. Говорят, долго лежала в сундуке. Рассказ о его кочевье по Монголии запомнил. Странным мне казалось в детстве, что дед неделями в какой-то степи никого не встретил – столько машин в Киприно и обратно ездит!»
Опубликовано в сборнике «Радуга дорог» в 2006 г.
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
«Многого мы уже никогда не услышим о Великой Отечественной войне. Даже если события, с ней связанные, происходили где-то рядом. Знаем точно, что она мешала землю с кровью не только на фронтах. Лозунг того времени “Все для фронта! Все для победы!” был единым по всему тылу. Из всех близлежащих деревень в Очёр на завод бурового оборудования ГГУ переезжали работать сотни местных крестьян. Неделями трудились на заводе, в редкие выходные возвращались домой, в деревни. Так и наш дед Пимен Петрович Шистеров со старшей дочерью Клавдией был принят на завод, но устроили их в разные цеха. На выходной день они возвращались в Уварово. Летом – на лодке, зимой – пешком. Жили в Очёре на постое в одном из домов.
Работа на заводе не признавала скидок на возраст, на незнание производственных тонкостей. Смена для всех одиннадцать часов. Выполняя планы, забывали о личной безопасности. Из цеха производства корпусов мин то один, то другой рабочий попадали в больницу. Не фронт, но все как на поле боя. Дневная смена, ночная смена. Снова и снова, месяц за месяцем. Паек хлеба на сутки величиной с кусок хозяйственного мыла. Деду в одну из смен оторвало руку, и он, обезумев, безруким побежал по цеху. У Клавдии отрезало на станке пальцы на одной из рук. После Победы вручили обоим по медали “За доблестный труд”. Вот и вся память. Сколько их, покалеченных военным производством, кто считал? Дед недолго прожил после войны, умер в 1948 году от воспаления легких. Пенсии его жене, моей бабушке, поскольку дочери подросли, никакой не дали.
На все запросы в соответствующие инстанции приходил один ответ: это не к нам, пишите в… Трудно было найти правду, а спорить с государством боялись. Так и жили многие деревенские вдовы потихоньку, положив на алтарь Отечества самое дорогое».
Опубликовано в сборнике «Радуга дорог» в 2006 г.
* * *
1979 год. Март. В газетах опубликован приказ о призыве на действительную военную службу. В день рождения получил я от начальника цеха Очёрского машиностроительного завода подарок – повестку в армию. Кто-то из моих ровесников тоже постригся «под ноль» и собрался в неизвестность (призыв на срочную службу не давал никакой ясности о перспективах места, грядущих трудностях), кто-то решил остаться дома «по здоровью». Выбор определил наше будущее.
Воинский эшелон почти трое суток тащил вагоны с новобранцами через казахские степи, узбекские равнины, таджикские долины. Неправда, что весь юг страны гористый. Правда в другом: граница СССР в те времена пролегала по самым высоким пикам Памира и Тянь-Шаня. В Киргизии я впервые увидел, как спускается с гор зима: позавчера белая полоса проходила на высоте двух километров, вчера – на отметке в километр восемьсот, сегодня – подобралась к нам, в погранотряд, расположенный в километре шестистах метрах над уровнем моря.
Парни в зеленых фуражках перекрывали среди заоблачных вершин тропы наркокурьерам, и не раз в адрес пограничников раздавались угрозы от местных, входивших в банды с закордонными соучастниками. Беспокоили в то время и китайцы.
Именно на границе сделаны мной первые попытки набросать строчки о друзьях-товарищах. Не сочинить, а рассказать о буднях, какими они были. Перечитываю в свой адрес письма Николая Ивановича Рязанова, известного очёрского журналиста, редактора местной газеты, который по-мужски поддержал солдата, подставил плечо, в результате чего тяга к публицистике только усилилась.
С гор звезды на небе кажутся ярче. В горах люди познаются быстрее.
РАННИМ УТРОМ
«Утро еще только занималось, а к шлагбауму у въезда в пограничную зону одна за другой подъезжали машины. Курсантов[6]6
В Пржевальской школе сержантского состава военнослужащие назывались курсантами. – Прим. авт.
[Закрыть] Александра Шубенкова и Михаила Богданова это не удивляло. Они понимали, что для сельских тружеников осень – страдная пора. Перегоняются с высокогорных пастбищ стада и отары, на зимовьях заготавливаются корма, потому и поток машин, въезжающих в пограничную зону, увеличивается с каждым днем.
Удачное время выбрано для стажировки курсантов. Лучшей возможности испытать себя в трудностях, проверить на практике полученные знания и навыки не найти.
– Пограничный наряд. Прошу предъявить документы, – остановившись возле очередной автомашины, представился Александр.
Как и в первые дни стажировки, он произнес эти слова с той отчетливостью, в которой слышится глубокое понимание личной ответственности за порученное дело. Осознание ее не покидало курсанта ни на минуту.
В кабине автомашины сидели трое. Документы двоих подозрений не вызвали, да и у третьего вроде бы все было нормально. Вроде бы… Но если сличить фотографию в паспорте с внешностью его владельца, заметны расхождения. Уловив сомнения Александра, Михаил поспешил на пост, чтобы вызвать прапорщика А. Мартыненко.
Александр остался один, и мнимый владелец паспорта попытался по-своему исправить положение.
– У меня еще одна справка, – сказал он, выпрыгивая из кабины. – Вот, возьмите.
Предъявленный документ не имел никакого отношения к тем, которые дают право на въезд в пограничную зону, но в нем были завернуты деньги.
– Мы можем ехать? – с нагловатой улыбкой на лице поинтересовался неизвестный.
– Ошибаетесь. Справку и деньги заберите. Они отношения к делу не имеют, – холодно ответил Александр. – А паспорт пока останется у меня. Вы задержаны за нарушение правил пограничного режима, – пояснил он в ответ на недоуменный взгляд нарушителя. – Свои возражения вместе с объяснениями можете изложить в протоколе задержания. Прошу пройти в помещение поста».
Опубликовано в газете войск Краснознаменного Восточного пограничного округа «Часовой Родины», г. Алма-Ата, 27 сентября 1980 г.
* * *
Имя Александра Николаевича Спешилова давно известно жителям Прикамья. Человек-легенда. Улица Спешилова встречает гостей краевой столицы на северном въезде в Пермь.
Первый председатель Пермской литературной группы, один из первых членов Союза писателей СССР, один из первых редакторов художественной прозы, один из первых руководителей Пермского книжного издательства… Можно продолжить перечислять многие заслуги уникальной личности с уточнением «первый». По-настоящему взрослую бескомпромиссную жизнь Александр Николаевич начинал бойцом Красной гвардии. Трижды был ранен, едва не потерял зрение. Сумел бежать из плена, будучи приговоренным к расстрелу. Награжден в 1967 году медалью «За боевые заслуги». Посвященные А. Н. Спешилову произведения расскажут больше, чем мне удалось передать в короткой заметке.
И все же…
ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
«5 октября 2009 года исполнилось 110 лет со дня рождения первого председателя Пермской литературной группы Александра Николаевича Спешилова.
…Свою первую частушку будущий писатель сочинил в тринадцать лет. Когда исполнил, получил и первое представление о “благодарности” слушателей. Хозяин баржи, на которой плыл юный автор слов, вышвырнул с нее котомки сочинителя и высадил на берег его самого. Топая вдоль Камы, парень пришел к выводу о необыкновенной силе обычных строчек. Потом было написано первое стихотворение про каторжный труд в Набережных Челнах, опубликованное в газете в 1916 году.
По воспоминаниям дочери Александра Николаевича Елены Александровны Спешиловой, в деревне Тупицы, откуда отец родом, не было своей школы, и приходилось пареньку в морозы, распутицу и под ливнями по грязи шагать в соседнее село Слудка, чтобы обучаться грамоте. Учился он только на пятерки, и однажды полученная четверка за диктант стала для него большим горем (тетрадь с той самой оценкой хранится в Пермском краевом музее).
Размышления героев произведений Спешилова основаны на первосвященстве честности и труда. В “Бурлаках”, например, лямка не сползает с плеча совсем еще маленького Саши, который батрачит не только затем, чтобы выжить. Бурлачество через самый его ужасающий характер видится герою смыслом уживания с миром, с семьей, с самим собой. Борец по натуре, Александр Николаевич Спешилов тонко, по-особенному даровито привнес в литературу XX века заразительность борьбы за человеческое “я”, в которой наивысшим успехом считалось сделать счастливыми других. При этом он не политизировал свои литературные работы, несмотря на преданность идеям, за которые дрался на Гражданской войне. Был несколько раз ранен (до смертного часа в его теле сидело три пули: в голове, руке и ноге).
По воспоминаниям дочери, практически всегда, когда отец бывал вне дома, возле него собиралась толпа. Он что-то рассказывал, оставаясь очень коммуникабельным. Потом приводил домой совершенно неизвестного человека и кричал с порога жене: “Шурочка, это такой интересный человек, покорми его!”
В Очёре долгую жизнь прожили родственники Александра Николаевича по его жене – Ежова Мария Петровна и Носов Леонид Алексеевич. С какой задушевной любовью вспоминали его и всю его семью! Он нередко приезжал в Очёр повидаться с родственниками, поговорить с очёрцами. Привозил с собой поэтов Бориса Ширшова, Александра Михайлова и других. В Очёре писатель рассказывал о своих встречах с Маяковским, Есениным, делился тем, с каким трудом дается осуществление творческих замыслов. Так, вспоминая о повести “Первый маршрут Иры Сулимовой”, признался, что написал книгу быстро, но до этого три года жил среди геологов в тайге.
В 1939 году Александра Николаевича назначили редактором художественной литературы во вновь организованное областное книжное издательство. В марте 1941 года Спешилов был избран первым ответственным секретарем Молотовского отделения Союза писателей СССР.
Он жил с распахнутой душой, а нередко и с распахнутой дверью. У него на квартире спали эвакуированные в Пермь московские литературные знаменитости. Тут же он встречался с собирателем фольклора В. Н. Серебренниковым, принимал начинающих писателей. Бросая все, мог сорваться и ехать в самую глухую пермскую деревню по письму. При всей своей загруженности писатель был доступен простым людям. Он дал путевку в жизнь новым талантам, оставаясь земным, скромным, до конца дней верным старой дружбе».
Опубликовано в газете «Звезда» 25 сентября 2009 г.
* * *
Наше повествование о военных судьбах людей не закончилось. Талант заразителен. В своих произведениях писатель А. Н. Спешилов рассказал о той правде жизни, которая сделала его всенародно любимым. Брошенное им зерно литературного творчества проросло, захватив жителей глубинки, друзей, знакомых и родных.
Дочь писателя Елена Александровна Спешилова, автор ряда краеведческих изданий, передала мне брошюрный экземпляр воспоминаний фронтовика о Великой Отечественной войне. Увидев на обложке фамилию, не мог не спросить: «Родственник?» – «Да, – ответила Елена Александровна. – Написал, но при жизни так и не увидел опубликованных воспоминаний. Они стоят того, чтобы близкие друзья автора, родственники и просто неравнодушные люди не забыли увиденного и пережитого войсковым разведчиком Михаилом Александровичем Спешиловым». Записи оказались завораживающе интересными. Но прежде несколько слов об авторе.
Михаил Александрович Спешилов родился 16 ноября 1920 года в деревне Плотниково Ильинского района Пермской области в семье речника (по местному прозванию – «бурлака»). Немало ему довелось испытать в своей жизни, но самым главным испытанием стала Великая Отечественная война, которую Михаил Александрович прошел от начала и до конца. Итогом размышлений войскового разведчика, подполковника-фронтовика стала рукопись «На пути к победе».
НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
Воспоминания фронтовика Михаила Александровича Спешилова
«По окончании техникума в мае 1939 года я работал заведующим библиотекой в селе Чернушка, но уже в ноябре меня призвали в армию.
Службу начал проходить в Забайкалье, в полковой школе. Вскоре как имеющий среднее образование был переведен во вновь сформированное Тюменское пехотное училище. Помещений никаких не было, жили в палатках. Особенно запомнились баня и старшина Бойко. Он, несмотря на мороз, педантично выдерживал нас, курсантов, пятьдесят минут в палатке с печкой, где была баня, говоря: “Я вам так шкуру отделаю, что сто лет будете носить без износа!” Надо сказать, что цели своей он добился, с тех пор я никогда не болел простудами, разве что обморожения случались.
Сначала отставал по физподготовке. После обеда все спали, а нас, отстающих, заставляли тренироваться на перекладине, брусьях. Через полгода тренировок отставание было ликвидировано.
Во время войны с Финляндией из курсантов был сформирован лыжный эскадрон, который выполнял задания в тылу противника. Потери были большие. Сам я участия в боях не принимал, так как заменял заболевшего повара.
В мае-июне 1941 года мы сдали государственные экзамены и находились в лагерях, ожидая приказа наркома обороны о присвоении нам первичного офицерского звания “лейтенант”. Неожиданно 22 июня было объявлено общее построение. Начальник училища сообщил нам о вероломном нападении фашистской Германии. Сразу же все стали рваться на фронт, так как считали, что война закончится быстро. Аргумент: “Посмотри на карту, какой Советский Союз и какая Германия?” С удивлением и тревогой прослушивали сводки по радио, где сообщалось, что наши войска отступают, сдавая врагу города и села.
Вскоре пришел приказ наркома, но, к нашему негодованию, многие из нас поехали в тыл, в запасные полки, готовить пополнение для действующей армии. Эта участь постигла и меня. Получил назначение в город Пугачев, в 72-й запасной полк.
Прибыв в полк, принял взвод и начал его обучение. Большинство призывников было из запаса, 1900–1910 годов рождения, многие принимали участие в боевых действиях (имеются в виду Халхин-Гол, финская кампания и другие военные конфликты). На занятиях солдаты говорили мне: “Что ты суетишься, лейтенант? Мы уже по три войны прошли, а винтовка все та же, образца 1891-го дробь 30-го года, системы Мосина!” Материальное обеспечение занятий было скудным, почти никаких пособий, не хватало винтовок для занятий, делали деревянные. Из дерева были и гранаты.
В конце сентября с одним из эшелонов пополнения убыл на фронт в должности командира маршевой роты из 280 человек. Состав эшелона: 1500 человек солдат, офицеров – 10, сержантов – 20. Задача офицеров – сдать пополнение фронту и вернуться в часть.
В районе станции Сухоничи эшелон был остановлен и разгружен. Очень усталый полковник поставил офицерам задачу – немедленно организовать оборону участка силами маршевых рот. Мы тогда не знали, что вражеские группировки прорвали фронт и двинулись к Москве, выполняя операцию “Тайфун” по захвату столицы. Лопат для рытья окопов не было, пришлось прибегнуть к помощи местных жителей, которые и снабдили нас “инженерным имуществом”.
Рядом с моим наблюдательным пунктом проходила дорога, по которой непрерывным потоком шли и ехали беженцы, раненые. Под вечер кто-то из отходящего потока крикнул: “Ждете немцев, а они перед вами!” Действительно, я увидел вражеского солдата, перебегающего через железнодорожную насыпь. Передал команду: “Впереди противник! Без команды огня не открывать!” Начал считать перебегающих и насчитал семнадцать. Но вот у кого-то из бойцов не выдержали нервы, раздался выстрел. Вся рота открыла огонь, в том числе и четыре пулемета. Через пять минут огонь прекратился – кончились патроны, двадцать две тысячи штук! Наступила мертвая тишина. Выждав, вражеские разведчики начали перебегать через насыпь обратно. Перебежавших снова было семнадцать. Все целехоньки!
Вскоре в расположение роты прибыл комендант участка обороны – капитан пограничных войск, “зеленая фуражка”. Разобравшись в обстановке, приказал: “Немедленно всю роту отвести назад, на километр, выкопать за ночь окопы и тщательно замаскировать, особенно от обнаружения с воздуха”. За ночь приказ был выполнен. На рассвете появились вражеские бомбардировщики и сравняли наши старые окопы с землей. Из оставленного там охранения в составе отделения приполз один раненый сержант, остальные погибли.
Спустя некоторое время появилась пехота врага. Мы впервые видели этих гитлеровских молодчиков, шедших в атаку во весь рост, с засученными рукавами, без касок, поливающих огнем из автоматов. Наша система огня не была обнаружена, боеприпасов нам привезли, и по сигналу рота открыла огонь. Бросалось в глаза: несмотря на потери, вражеские солдаты шли вперед. Нам же внушали, что фашисты – трусы и панически убегают в случае опасности. Наш огонь заставил пехоту залечь. На наши окопы обрушился ливень мин, но спасла матушка-земля. Скоро пошел дождь, и остаток дня прошел спокойно.
Вскоре по прибытии в 121-ю отдельную стрелковую бригаду на должность командира роты я был вызван в разведотдел бригады к полковнику Верёвкину. Срочно комплектовались четыре группы парашютистов для оказания помощи кавалерийскому корпусу, выходившему из окружения в полосе обороны нашей армии. Состав группы – три человека. Я был старшим в своей группе, со мной были девушка-радистка и сержант Брайко, здоровый детина с радиостанцией за спиной. Задача: разыскать штаб кавалерийского корпуса, выходящего из окружения, установить радиосвязь, помочь вывести кавалеристов на маршруты выхода (их было два).
Через сутки ночью наши группы выпрыгнули из самолета в районе нахождения кавалеристов. У меня была неприятность: в момент раскрытия парашюта от удара с ног слетели валенки, и я приземлился в носках на снежное поле. Спасло то, что снежный покров был небольшой. На поле лежало много трупов. С одного из них я снял сапоги и надел на себя. Потом разыскал свою группу. На сборы ушло часа три. Но все были живы, приземлились удачно. Сориентировались по компасу и пошли на запад. На рассвете у опушки леса были остановлены негромким окриком: “Стой! Кто идет?” Это были кавалеристы. Встретили нас тепло. За время выхода из окружения они съели лошадей и страдали от холода в летнем обмундировании. Нас проводили в штаб, радистка вышла на связь. Работа закипела, через несколько дней, разгромив слабые гарнизоны на маршрутах, конники соединились со своими. Потери были минимальные. После выполнения задания вернулся в свою бригаду.
К слову сказать, одну группу парашютистов из четырех так и не нашли, где-то, очевидно, погибла.
Северо-Западный фронт
Наша 121-я отдельная стрелковая бригада была переброшена из-под Москвы в составе 1-й ударной армии к месту боев под Старую Руссу по железной дороге. В середине марта мы сменили стоявшую в обороне 44-ю морскую стрелковую бригаду и начали подготовку к наступлению в направлении сильного опорного пункта противника. Если ночью вступил в бой батальон численностью более тысячи человек, то вечером с наступлением темноты нас собралось в живых всего восемьдесят два: офицеров – три, сержантов – двенадцать, бойцов – шестьдесят семь. Половина раненых замерзла в снегу.
Из остатков батальона и расформированных его тылов была сформирована рота в сто пятьдесят человек. Вскоре заболел и умер командир батальона капитан Найдин, мне приказали исполнять его обязанности. В это время произошел случай, оставивший неизгладимый след в моей душе.
Морозным мартовским утром я обходил боевой порядок своего батальона вместе с ординарцем. Мы выходили по тропинке к санной дороге из леса. Место было открытое. Вдруг раздался приглушенный щелчок. Оглянулся и увидел сбоку двух фашистов в маскхалатах. Один из гитлеровцев и целился в меня из пистолета. Мой пистолет был за пазухой полушубка, я быстро выхватил оружие и выстрелил в противника – тот упал. Второй стал поднимать руки, но ординарец срезал его из автомата. Я подошел к упавшему, это был молодой красивый парень, пуля попала ему в горло, и он, захлебываясь кровью, мучительно умирал. Смазка его пистолета замерзла на морозе – это спасло мне жизнь. Оба немца заблудились и вышли в наше расположение случайно.
После этого у меня начались страшные сны: предо мной бьется в конвульсиях еще живое тело, его предсмертный хрип не забудется никогда, даже водка не помогает заглушить во сне запах теплой крови.
В середине апреля в военные действия властно ворвалась весна с ее половодьем. В условиях лесисто-болотистой местности зимние дороги растаяли, и на протяжении месяца снабжение продовольствием и боеприпасами прекратилось. Невозможно было эвакуировать раненых. Надвигался голод. Сначала спасали лошади. Бойцы загоняли их на минные поля, так как подорвавшуюся лошадь можно было списать на мясо. Кое-где выкапывали погибших зимой лошадей – все шло в котел.
В это время с немецкой стороны начала работать громкоговорящая установка с агитационной целью – склонить бойцов к сдаче в плен. Агитация носила оскорбительный характер. Например: “…доблестные немецкие танкисты пьют воду из Москвы-реки, а вы сидите в болоте, как мокрые лягушки”. И тому подобное. В эти дни у меня произошло ЧП, поставившее под угрозу мою жизнь и честь.
Однажды утром мне докладывает командир роты, что ночью прямым попаданием снаряда уничтожен пулеметный взвод. Состоял этот взвод из трех человек: командир – старшина сверхсрочной службы Поляков – и два бойца. Вооружение – пулемет “максим”. Командир роты показал мне какие-то части пулемета и холмики, где якобы похоронены погибшие. В душе я не верил его сбивчивым объяснениям, видно было, что он и сам не разобрался в случившемся. Скрепя сердце, я написал в донесении об этой потере за ночь.
Вскоре был наказан за свою доверчивость. В наступившей ночи по громкоговорящей установке стали выступать бойцы, перебежавшие накануне к немцам, с призывом: “Сдавайтесь в плен, немцы кормят хорошо, досыта…” Было ясно, что они убили своего командира и стали предателями. Утром я был вызван в штаб бригады, и комиссар бригады Торгашев за ложь в донесении сорвал с меня кубари лейтенанта, превратив в рядового: “Должен с винтовкой в руках искупить свою вину!” Меня перевели в разведроту. Так в одночасье кончилась моя офицерская карьера. Сильное переживание усугублялось личным мотивом. Мой отец Александр Иванович, участник Первой мировой войны, очень гордился, что его сын выучился на офицера. Как я ему объясню случившееся?
В ближайшие дни мы вместе с таким же разжалованным лейтенантом Тюнькиным (родом рязанец) вызвались на очень рискованное задание. Утром с рассветом мы вдвоем, одетые в телогрейки, с высоко поднятыми вверх руками брели по болоту в сторону немецкой обороны. В сжатых ладонях рук были гранаты-лимонки со снятыми чеками-предохранителями. Гитлеровцы, увидев нас, вылезли из окопов и стали кричать: «Иван, иди сюда!» Один принес фотоаппарат. Мы молча брели по воде. Когда до немцев осталось метров пятьдесят, мы переглянулись, побросали гранаты и бросились удирать. Позади раздались взрывы, истошные вопли раненых. Ошеломленные случившимся враги открыли огонь с опозданием, и нам удалось уйти невредимыми. Свою задачу мы выполнили: сдача в плен прекратилась, так как немцы перестали подпускать наших дезертиров близко к окопам – расстреливали из пулеметов.
Начал участвовать в разведывательных поисках с задачей – достать языка (пленного). Запомнился первый пленный. В одном из ночных поисков обнаружили в окопе дежурного наблюдателя. Когда подползли и скомандовали “Хенде хох!” (“Руки вверх!”), то он, к нашему удивлению, бросился не к оружию, а к голубому огоньку, где над плитками сухого спирта стоял котелок с овсом. Забрав котелок, гитлеровец подал нам руку, мы вытащили его из окопа и привели в свое расположение бригады. Пленный дал ценные сведения об обороне своего батальона. Также стало ясно: у немцев свирепствует голод.
Вспоминается и такой момент. К первому мая наши саперы закончили строительство моста через реку Ловать. Однажды утром смотрим: над мостом красный флаг. Думали, что это наши к празднику вывесили, – оказалось, фашистский. Немцы захватили мост. С разрушением его было много мороки. Артиллеристы не могли попасть, летчики промахивались. Только пуская вниз по течению плоты с зарядами, удалось его подорвать.
Основываясь на своих наблюдениях и выводах, решил днем провести захват вражеского ДЗОТа на берегу Ловати. На захват уговорил пойти своего друга Тюнькина и еще одного бойца. Все получилось, как я рассчитал. Мы после обеда проползли под заграждениями, встали во весь рост и пошли к ДЗОТу. Никто на нас не обращал внимания – у входа в укрепление сидел немец и варил в каске белье от вшей, мы без шума пленили его. Внутри на нарах спали четыре немца, мы забрали оружие и пленили их тоже. По условному сигналу к нам подошло подкрепление. Пленных отвели, а амбразуру ДЗОТа стали переделывать в сторону противника. Несколько раз звонил телефон, но мы не трогали трубку. В сумерках взяли в плен пришедшего проверять свое подразделение обер-лейтенанта и двух связистов. Это была редкая удача – восемь пленных за один день!