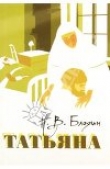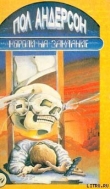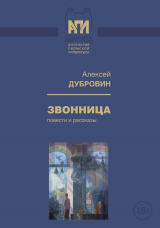
Текст книги "Звонница (Повести и рассказы)"
Автор книги: Алексей Дубровин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Пермь 2014 г.
«И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ…»
Документальная повесть
Предисловие
В документальную повесть помещены очерки о войне, о детях военной поры, о защитниках Отечества разных периодов его истории. Главные действующие лица – совершенно разные люди, но их объединяет одно – любовь к родной земле.
Поначалу мне казалось, что достаточно будет собрать воедино несколько публикаций и ничего трактовать не надо. Неожиданно поймал себя на мысли о незавершенности сюжетов при такой подаче материалов. Войди они в книгу без предисловий, без коротких размышлений о судьбе героев повествований, незатронутыми останутся причины и мотивы, побудившие взяться за перо, не узнает читатель отдельных последствий будничной журналистской деятельности.
Родники памяти
Героев своих репортажей я хотел бы сравнить со звездами на небосклоне, подарившими свет вечных, а не сиюминутных ценностей, и указавшими всем нам тем самым смысл человеческого существования.
* * *
Возвращаясь электричкой из города Верещагино в Пермь, разговорился с попутчицей. Вера Семеновна Соколовская рассказала об отце, да так захватывающе поведала, что двухчасовой путь «уложился» в минуты. Более того, я не выдержал и через неделю поехал обратно. Отправился в Аликино, что недалеко от станции Верещагино. Захотелось лично познакомиться с легендой. В долгой задушевной беседе с фронтовиком Семеном Андреевичем Соколовским поразился той глубине любви и преданности Родине, которую можно встретить именно в глубинке. Родился очерк о патриоте русской земли.
Пожалуй, лучшей наградой за появившуюся публикацию в «Комсомольской правде» стал звонок Веры Семеновны, которая нашла меня через полгода после появления очерка. Не скрывая радости, сообщила, что об отце прочитали его родственники, потерявшие Семена Андреевича почти тридцать лет назад, и через несколько дней после выхода публикации в аникинском доме путевого обходчика состоялась счастливая встреча. Вспоминали в разговорах и газету «Комсомольская правда». Не правда ли, удивительная цепь случайностей! Или что-то в жизни задано невидимым перстом?
САМОЕ СТРАШНОЕ – ХОРОНИТЬ ДРУЗЕЙ
«Антон Соколовский отслужил вместо родного брата в царской армии четыре года и подался из Белоруссии на Урал. В сивинские места, в деревню Машково. Землю пахать, семью поднимать. Сыну Андрею выпало лихо: взяли в 1914 году на империалистическую войну. Только за год до этого родился Семка. Видать, на роду каждому из Соколовских написано было понюхать пороху. Семен подрос. Малолеткой удивлялся длинным обозам, что потянулись через родные края. Сначала – в одну сторону, потом – в обратную. “Должно быть, бьют Колчака под Глазовом”, – шептались взрослые.
В екатерининской школе все образование – три класса. А дальше – поле, пришла пора родителям помогать. Когда Семену исполнилось двадцать четыре года, его призвали на военную службу. Обучили под Ленинградом с пушками обращаться. Предоставили возможность окончить семь классов. В 1939 году красноармеец Соколовский весь положенный срок отслужил. Не успел приехать домой, как начался новый призыв.
В вагоне ребята рассуждали: “Гитлер разошелся. Наверно, в Польшу везут, Германия рядом”. О Финляндии никто и не вспомнил.
“Привезли нас под Петрозаводск на станцию Лодейное Поле. Зачем? Никто не знает. Жили в домиках карелов, когда пришла весть о начале войны с финнами. Командиры так и сказали: “Утром начнем, вечером войну победоносно закончим”. Командирам, конечно, поверили. Да не тут-то было! Дальше артподготовки дело не пошло, поскольку вся территория, где планировались атаки, оказалась заминирована. Везде у финнов была натянута колючая проволока. У финских солдат автоматы, а нам оставалось из винтовок стрелять, когда случался ближний бой. Приходилось по лесу из пушек колошматить, даром снаряды изводить. Финны не дураки, засели в гуще и бьют.
Кое-как овладели городом Сальме, откуда финны отступили, спалив город. Как-то все получалось бестолково, из-за чего мы попали в окружение. Зима. Есть было нечего. За полгода так никто и не помог выйти из окружения. Всех лошадей поели. Если бы не подписали руководители СССР мирный договор с Финляндией, кто знает, чем бы все закончилось. Вот тебе и утром начнем… Награды за ту войну, понятно, не рассыпали. Слава Богу, домой живым вернулся”.
Семен Андреевич продолжает: “В 1940-м осенью приехал я домой. Летом 1941 года снова призвали на войну. Определили артиллерийским разведчиком. В мои обязанности входило ползти вместе со связистом поближе к немцам и высматривать, что у них там, где и как. Потом начинал корректировать наш огонь. Снаряды ложились когда в цель, а когда и рядом с нашими головами. Самое пекло случилось под Сталинградом в 1942-м.
К передней линии обороны немцев еще доползти надо. Их снайперы исправно долбили. Один такой мне в руку попал, но в госпиталь я не поехал. Сделали перевязку, остался на передовой. Однако госпиталя не миновал, когда ранило на Орловско-Курской дуге. Лечился в Миллерово, а потом снова отправился на фронт. Назначили меня командиром пехотного взвода, а был я в то время в звании старшего сержанта. Во взводе служили ребята из запаса, с которыми можно было идти хоть в огонь, хоть в воду. Но много призывали и необстрелянных. Иногда нас, командиров взводов, перед атакой предупреждали: у кого люди обратно побегут, струсят, то заградотряды их расстреляют. Так что оставались мы своим бойцам и командирами, и политруками. В каше войны и приказы случались всякие, а спрашивали с нас, комвзводов.
Как-то надо было моему взводу занять немецкие окопы и блиндажи. Нас – восемнадцать человек. Взять-то взяли, а как удержать? Подмоги не прислали. Связь перебита. Немецкие снайперы как сычи высматривали. Отдал команду: “Головы из окопов зря не высовывать. Выстрел сделать и тут же позицию менять”. И точно, как только кто из наших пальнет, снайперские пули почем зря бруствер ерошить начинают.
Не успели соединиться с основными силами, как вызвал меня командир полка. Приказ – найти потерянную роту. Кругом минные поля, а саперов взводу не дали. Пошли мы впятером. Двоих я выслал вперед дозорными. Они наткнулись на мину, разбросало их в разные стороны. Я почувствовал удар выше колена, но даже и не понял сначала, что ранен. Штаны ватные от крови набухли. Как дальше идти? Пришлось вернуться. Нелегко было воевать, а возвращаться, не выполнив задания, и того труднее. Мы ко всему готовы были, лишь бы задание выполнить. Ранения и гибель людей оправдали то наше возвращение.
В 1943 году война для меня закончилась. Приехал домой с медалью “За отвагу”. Не думали мы тогда о наградах. О ребятах думали, как им жизнь сохранить и приказ выполнить. Невозможно было привыкнуть к одному: вчера с другом сидели, дом вспоминали, родных… А сегодня друга уже нет, схоронили. По прошествии лет думаю: настоящими героями были все, кто на смерть шел”.
С Верой, дочерью фронтовика, мы разговорились случайно в электричке. Произошло это за неделю до моей встречи с Семеном Андреевичем. Поразили тогда ее слова: “Вы видали идеальных отцов? Мой – такой! Я не преувеличиваю. В свои восемьдесят восемь он не знает, что такое покой. С мамой прожили они сорок лет душа в душу, шестерых детей подняли. Песни часто пели. Как он красиво поет! Отработал на железной дороге всю послевоенную жизнь. Старые раны ноют, а он на работу торопится. Сейчас козу держит. О войне вспоминает, чаще о Сталинграде. Политикой не особенно интересуется. Все только удивляется, как такую страну развалили. Немец и тот не смог… Мечта? Есть у него мечта – дожить до ста лет”.
Я уезжал из Аникино днем. Морозило. В доме Семена Андреевича еще не горел огонь в печи, которую он протапливает ежедневно углем. В кожу рук этот уголь въелся, наверно, навсегда. Льгот от государства ветеран никаких не ждал и не ждет. О себе никогда не хлопотал и не собирается. Поздравление от “Комсомолки” с праздником 23 Февраля принял. О жизни своей нелегкой, как смог, без прикрас рассказал».
Опубликовано в газете «Комсомольская правда в Перми» 23 февраля 2001 г.
* * *
Бухгалтер, коллекционер памятных конвертов, собиратель марок, человек с мягким голосом, не выкуривший за свою жизнь ни одной папиросы, – что может быть общего у настоящего интеллигента с бойцом Красной армии?
О Леониде Алексеевиче Носове я решил написать, когда проходил срочную службу в пограничных войсках. Мы подружились, когда я еще бегал на уроки в школу по очёрским улицам и проулкам. Пришла пора службы. Тянь-Шань, Киргизия… Там я неожиданно сильно заскучал по этому человеку, хотя мы с ним не были даже далекими родственниками. Странно, не правда ли?.. В годы нашей дружбы его возраст приближался к восьмидесяти, а мне было всего ничего, но подкупала глубина мыслей собеседника, увлеченность коллекционированием, поражали его знания в области русской классической и советской литературы, а главное – привлекала сердечность в общении. О, интеллигент из провинции мог дать сто очков вперед многим столичным интеллектуалам! Неслучайно Леонида Алексеевича высоко ценил известный на Урале писатель Александр Николаевич Спешилов.
ЛЕОНИД НОСОВ, ВЕТЕРАН 30-Й ДИВИЗИИ
«Среди писем, что приходят в редакцию накануне Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, есть одно из Киргизии. Четкий, красивый почерк принадлежал, как мы узнали из письма, нашему земляку, военнослужащему Алексею Дубровину.
“Служу в пограничных войсках, – пишет он. – Прибыл на заставу весной прошлого года по комсомольской путевке. Страна готовится отмечать 62-ю годовщину своих Вооруженных Сил. Взяться за перо меня побудило желание рассказать об одном человеке. Живет он в Очёре, и его, я уверен, знают многие жители города. Это Леонид Алексеевич Носов – ветеран труда, страстный филателист, собиратель красочных открыток и книг по искусству.
Мало кому известно, что Леонид Алексеевич еще и участник Гражданской войны и в составе легендарной 30-й дивизии дошел до Новониколаевска. После разгрома Колчака полки 30-й дивизии были переброшены на штурм перекопских укреплений и участвовали в освобождении Крыма от остатков врангелевских войск. Все это время Леонид Алексеевич оставался членом дивизионного суда, которому приходилось вершить советское правосудие на освобождаемой от белогвардейцев земле. Работа считалась ответственной, ибо всякая необъективность при рассмотрении дел и вынесении приговоров могла повредить авторитету советской власти.
Как-то раз Леонид Алексеевич рассказал мне о памятной встрече с В. К. Блюхером. Случилось это при следующих обстоятельствах.
С подходом зимой 1919 года колчаковских войск к Очёру состав Павловского ревкома, где работал Леонид Носов, был в спешном порядке эвакуирован в село Полозово Сарапульского уезда (ныне оно входит в состав Болынесосновского района Пермского края). Туда же прибыли и многие советские государственные учреждения из Сарапула. На одном из собраний Леонида Алексеевича, тогда двадцатидвухлетнего, в ладно сидящей военной форме, заприметил уездный военком. Навел о Носове справки, а затем пригласил на беседу. Узнав, что Леонид Алексеевич во время империалистической войны был в составе дивизиона 105-миллиметровых гаубиц, воскликнул:
– Так вы артиллерист?! Да знаете ли вы, как артиллеристы нужны сейчас Красной армии! Я призываю вас на военную службу, и вы, товарищ Носов, завтра же выезжайте в распоряжение командования Вятского укрепленного района…
Добравшись с немалыми трудностями до Вятки, Леонид Алексеевич явился по указанному в командировочном удостоверении адресу. Как положено, доложил о прибытии дежурному, вручил ему свои личные документы. Внимательно просмотрев их, дежурный сказал “подождите” и скрылся за дверью какого-то кабинета. Через несколько минут вернулся и пригласил Носова:
– Пройдите. С вами хочет поговорить товарищ Блюхер.
Большая комната, массивный дубовый стол, на котором стояли телефоны, карта Вятского укрепленного района, висевшая в простенке между сводчатыми окнами, вдоль стены – мягкие стулья. Пройдя в центр кабинета, прибывший остановился по стойке “смирно” и представился.
Блюхер, коренастый, плотно сбитый, с жестким бобриком волос и аккуратно подбритой щеточкой усов, пригласил Носова сесть на стул. Потом достал портсигар, вынул себе папиросу и протянул Носову:
– Закуривайте.
– Благодарю, я некурящий, – ответил тот.
– Похвально, похвально… Так вы артиллерист? Нам очень нужны такие люди для формируемой Третьей армии. Вы не будете возражать, если мы используем вас в этом качестве?
– Готов служить там, где я нужнее всего, – ответил Леонид Алексеевич.
– Ну вот и прекрасно, – улыбнулся военачальник. – Вот вам записка. С ней вы явитесь в штаб армии, а там все уладится окончательно. Желаю удачи.
В особом артиллерийском дивизионе, куда прибыл Носов, оказалось много очёрцев и павловчан. Многие знали Леонида Алексеевича и были рады столь неожиданной встрече. Официально числясь в составе дивизиона, Носов как один из очень немногих грамотных тогда бойцов был вскоре назначен членом военного суда 30-й дивизии. Освобождение Урала, Сибири, а позднее Крыма, тысячи трудных верст… Перед штурмом Перекопа командование артдивизионом принял будущий маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, ставший одним из прославленных полководцев Великой Отечественной войны, Леонид Александрович Говоров.
Там, на юге, сыпняк свалил очёрца, и тот после долгого выздоровления был освобожден от дальнейшей военной службы. В 1975 году Леониду Алексеевичу Носову вручили нагрудный знак ветерана 30-й Иркутско-Пинской имени ВЦИК дивизии. От всей души поздравляю фронтовика с наступающим праздником – Днем Советской Армии, желаю ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!”».
Опубликовано в газете «Знамя труда», г. Очёр Пермской области, 9 февраля 1980 г.
* * *
Вопрос «Что делает нас людьми?» риторический. И все же… Что? Или кто? Родители? Окружение? Обстоятельства? Думается, что из детей мы превращаемся в людей с почти сформировавшимся мировоззрением в школе. Учителя принимают нас в первый класс птенцами, не умеющими самостоятельно летать, а школьный двор мы покидаем, расправив молодые крылья.
Не сочти за бахвальство, уважаемый читатель, но у меня особо трепетное отношение к одной из книг. Она издана под моей фамилией, однако, по сути, это коллективный труд многих авторов. Сборник очерков «Свет очёрских лампад» выделяется среди других изданий дыханием той действительности, которую пережили тысячи школьников и учителей страны. И военная пора здесь занимает особое место.
Часто беру в руки книгу и перечитываю размышления, посвященные человеческой воле, силе характера, печалям и радостям. Страницы сборника отражают длинный период времени: от начала осознания себя «я в школе» до той поры, которую в народе называют «седой мудростью». Один из очерков перед вами. С нами уже нет великолепной Елены Михайловны Карасевой, но остались ее воспоминания…
ГОСПОДИ, КУДА Я ЕДУ?
«В городе Очёре живет удивительная женщина, которую помнят и любят многие, кому судьбой выпало учить французский язык в школах поселка, а позднее города. Карасева Елена Михайловна родилась в 1919 году в Перми. Ее небольшой рассказ о своей учительской судьбе интересен конкретикой о событиях давно минувших дней.
“Я родилась в поселке Левшино, возле Перми, в 1919 году. Папа заведовал нефтебазой на реке Чусовой. После ее закрытия мы поселились в микрорайоне Кислотном, где я и окончила в 1937 году семь классов школы. С восьмого по десятый классы училась в пермской школе № 17. После ее окончания уехала в Ленинград и поступила в институт иностранных языков. Мой выбор этого города был определен тем, что там уже учился в академии художеств мой брат Владимир, который умер позднее в блокадном Ленинграде.
Заканчивались годы учебы, когда началась Великая Отечественная война. При распределении попросилась в Пермскую область, и мое пожелание было удовлетворено, поскольку в институт пришло письмо из Очёра от Пантюшкина Ф. Ф. Но к Ленинграду уже подходили немецкие войска. Мы, выпускницы, устроились в призывные комиссии при военкоматах по набору ополченцев. Зарплату нам назначили двенадцать рублей, и с утра до вечера мы работали со списками отправлявшихся на фронт ленинградцев. Видела, как строились наши ополченцы и колоннами уходили под песню “Смело мы в бой пойдем”. Близился конец лета. Началась массовая эвакуация.
В то время уехать из Ленинграда стало практически невозможно, а мне к 15 августа надо быть в Очёре. Отправляли эшелоны с эвакуированными, и нас пропустили к посадке в “телячьи” вагоны только потому, что на руках были дипломы и направления на работу. Ехали мы только ночами. Днем состав стоял. Помню, мы гуляли в лесу, около железной дороги. Возле Вологды поезд бомбили, но какой-то мужик закрыл дверь на засов, и мы всю бомбежку просидели в вагоне. Так или иначе через семь дней нас привезли в Пермь. Потом я добиралась до Верещагино. Оттуда почти ночью на грузовой машине поехала в Очёр.
“Господи, куда я еду?” – с искренним страхом в душе размышляла про себя. Привезли меня в Очёр, высадили прямо в центре. Теперь бы еще школу найти. Увидела, идет мимо мужчина в белом костюме, в белых туфлях, белой шляпе и на мой вопрос, куда мне пройти, показал рукой направление. Его внешний вид как-то успокаивающе подействовал на меня, подумала: “Надо же, как в Ленинграде”. Пришла в здание первой средней школы, что располагалась в “графской конторе”. Дерюшев Константин Григорьевич принял меня, велел оставаться на ночь в школе. Идти мне, действительно, было некуда, так и просидела за столом до утра.
Утром начался педсовет. Распределили всех учителей на работы по колхозам. Потихоньку все вошло в свою колею. Со своим предметом (французский язык) я получила по четыре часа в день на шесть классов. А насчитывалось этих классов много, по буквам доходило до “ж”.
Жизнь учителя той поры мало чем отличалась от жизни других очерцев. В чем-то нам было тяжелее. Подсобных хозяйств не вели. Родители в Перми голодали, ходили по рынкам с обменом личных вещей на продукты. Приезжали они и в Очёр, где мы тоже пытались что-нибудь выменять в деревнях из вещей на съестное, но сделать это было крайне трудно. Мы, учителя, поддерживали друг друга как могли.
В очёрской семилетке работал учителем французского Бери Людвиг Францевич. Русский язык он знал плохо, в Россию приехал еще в 1910 году в поисках работы. Жил в Перми, преподавал в гимназии французский язык. Потом был репрессирован. После отбытия срока оказался в Очёре. Как-то мой муж, Ложкин Максим Алексеевич, покрасил пол в комнате Людвига Францевича, за что тот в благодарность принес нам лейку. Надо сказать, Бери был заядлым садоводом. Мы долго не брали эту лейку, но с большим трудом он нам все же ее вручил. Через несколько дней Бери пришел и попросил эту лейку обратно, объясняя, что его хозяйка «заела» за нее. По предмету Людвиг Францевич иногда меня заменял, когда, например, я Наташу родила, в 1944 году. К нему на уроки специально ходила местная партийная элита, он очень неплохо преподавал. Не выговаривал русскую букву “х”, в результате чего речь его была несколько комична: “Кодил колкоз”.
Когда он умер и мы собрались на кладбище, над могилой Бери долго стоял Филипп Михайлович Малков и все качал головой, видимо, горько сожалея, что приехал человек неизвестно откуда и похоронен не на родине. Они очень дружили, оба были интереснейшими людьми.
Большой актрисой среди нас, учителей, была Четина Анна Ивановна. Вела черчение и рисование, ходила в синей блузе и получила прозвище Синица. Любила ставить в школе спектакли, сама в них играла. Великолепно вела свой предмет Девяткова Нина Александровна. Математику ребята знали, а учительницу искренне уважали. Историю в школе вел Ложкин Максим Алексеевич. Этого учителя и его предмет ребята любили. Вообще-то нагрузка в ту пору была приличная. В нашу среднюю первую ходили дети из Зареки[4]4
Зарека – бытовавшее у местных жителей название южного берега реки Очёр и его поселений; ныне микрорайон города Очёра.
[Закрыть], Лужково, Морозове, других ближних деревень. Но надо отдать им должное, учились они с желанием. Дети были ответственны, трудолюбивы, у них была особая закалка. Такого опыта жизни у других поколений нет. Приедем мы в лес заготовлять дрова. Смотришь, тут падает подрубленное дерево, там трещит. Думаешь, только бы не пришибло кого. Слава богу, обошлось. Потом эти сваленные стволы пилили вручную. Мне приятно было слышать, как искренне удивлялись и дети, и учителя: “Елена Михайловна нас поразила, работала наравне со всеми”. Думали, видимо, если “француженка”, то белоручка.
Уходили на фронт учителя, ученики старших классов. Забрали со школьной скамьи Рязанова Н. И., у Бурдиной Елены – брата, у Дерюшева К. Г. – сына Льва, который погиб на фронте. О событиях на войне, о героизме советских людей я часто рассказывала ребятам. Помню, о подвиге Зои Космодемьянской рассказываю, зал полный. Смерть комсомолки настолько всех потрясла, что в полнейшей тишине меня слушали. Разные классы, разные возрасты, но сразу в честь ее памяти состоялось импровизированное выступление учащихся. Без репетиций, не готовясь, ребята пели военные песни, выступали. Позднее подобное мероприятие прошло по освещению подвига молодогвардейцев.
9 мая 1945 года по Очёру зашумел праздничный гул. Люди плясали, пели, целовались и плакали. Я оставила мужа с ребенком, и мы с Четиной А. И. ушли в лес за подснежниками.
Послевоенная жизнь была по-своему трудна, интересна, полна новых событий и впечатлений. Я все также в качестве общественной нагрузки отвечала в школе за политику, собирала линейки. 12 апреля 1961 года услышала по радио о полете Юрия Алексеевича Гагарина. Давай собирать всех на построение, а ребята ворчат: опять линейка! Только я им начала говорить, что в космосе советский человек, даже имя не успела сказать, как все буквально заорали. Я кричу: “Да вы послушайте, как его имя”. А меня и не слышно: “Ура!” и “Ура!”. Успокоить всех ничего уже не могло. Радость была, как 9 мая 1941 года. В жизни такого подъема духа больше не видела.
Закончила я педагогическую деятельность в 1975 году. Итогом деятельности учителя является культура и грамотность его учеников. В наше время с большим удовольствием вспоминаю многих своих выпускников. То, что Зотов Юрий Михайлович трудится сегодня над третьим томом “Книги памяти Очёрского района”, меня искренне радует. Радует и то, что живет в Очёре Гусева Валентина Александровна, одна из старейших учительниц района».
Записано со слов Елены Михайловны Карасевой 19 апреля 2008 г., опубликовано в издании «Свет очёрских лампад» в 2009 г.
* * *
С чудесной женщиной, Зинаидой Антоновной Мальцевой, я познакомился в 2007 году при участии Филаниды Маркеловны Отрощенко, одной из самых уважаемых учительниц Очёрского района. Позвонил Зинаиде Антоновне, представился, сослался на Филаниду Маркеловну. «Приходите», – прозвучало в ответ. Встретились, разговорились. Долго не могли расстаться. Подытожили весело: «Родственные души!» Не стану утомлять тебя, дорогой мой читатель, своими рассуждениями, а предоставлю возможность прочесть, о чем вспоминает Зинаида Антоновна.
КРАСНЫЙ ШАРФИК
«Я не знаю, когда я родилась. По одним данным – в 1936 году. Сама я выбрала себе дату 27 июля 1933 года.
В Очёре в детдоме говорила одно время вместе со всеми, что родилась 1 сентября (чтобы нас поздравляли в первый учебный день), а когда свершилась Победа, то мы все стали рожденными 9 мая. Объяснять почему, думаю, не надо. Итак, я родилась. Уже и не столь важно, когда. Вы спрашиваете, где? Хороший вопрос. В свидетельстве о рождении у меня записано “воспитанница детского дома”. А вообще-то я родилась в городе Ленинграде в благополучной счастливой семье, где, как мне представляется, был неплохой достаток. Семья была счастливой до разлуки, до эвакуации.
1941 год. Железнодорожный вокзал в Ленинграде. Помню висящие в небе дирижабли, стоящий на путях товарняк. Кругом рыдают, слышатся команды: “Больших – сюда, маленьких – туда”. Детей эвакуируют, сортируют и грузят в товарные вагоны эшелона. Мама, которую я толком не помню, привязывает мою руку красным шарфом к руке моей старшей сестры Вали. Чтобы нас не разлучили, мама твердит ей одно: «Говори, что ей в школу идти, говори, что в школу». К тому времени я уже умела читать, и легенда вполне подходила. Только роста я была маленького. Едва забиралась в теплушку.
Поезд набрал скорость. В товарняке стояли двухъярусные нары. Если мне и было около пяти лет, то что же я могла помнить? Нас везли, никто не знал куда. Сопровождали нас ленинградки Дора Ивановна и Анна Андреевна – Нюра, повар, совсем молодая девушка. Кормили, но горячего питания мы не видели всю дорогу. Помню, нас учат: “Дети, по сигналу – бежать!” Это означало, что на наш эшелон идет авианалет. Полный состав ясельных, детсадовцев, школьников, взрослые в белых халатах, и тут атакуют немецкие самолеты. Это было самое страшное. Все бегут от поезда, халаты взрослых хорошо видны с воздуха, нас прицельно бомбят, обстреливают. Одновременно с платформы нашего поезда, где стояли зенитки, красноармейцы ведут по самолетам огонь. Я уже не в вагоне, но с одной стороны поле, с другой – лес. Куда бежать?! Кричу: “В лес не побегу, там мишка бродит!” И такой кошмар мы переживали раз за разом. Разве память может все это хранить?
Иногда в пути состав останавливался, чтобы дать людям возможность сходить в туалет. Распахивалась дверь теплушки, к двери приставлялась лестница, мы слазили, минута – и обратно. Лестница убиралась, поезд набирал ход. А я-то маленькая.
Как-то лестницу убрали, я не успела, а мне без нее в вагон не залезть. Стою, вагоны покатили мимо меня. Пошла последняя платформа с зенитками, и в последнее мгновение красноармеец схватил меня за воротник и буквально закинул на эту платформу. Ехала среди пушек. Во время очередной остановки боец спрашивал всех сопровождающих: “Ваша?” – и показывал на меня.
Нас везли больше полутора месяцев. Вокруг поезда приземлялся немецкий воздушный десант, не хватало еды, мы нуждались в элементарных удобствах. Ни у кого не было рядом пап и мам, чтобы вытереть наши сопли и слезы. Наконец поезд пришел на станцию Пермь I. Что мне запомнилось на этой станции, так это то, что нас привели в какое-то помещение, посадили за столы, на которых были постелены скатерти. Это всех очень поразило, ведь многие были из весьма приличных семей и еще не забыли, что такое обеденный стол с белоснежными скатертями и салфетками. Нам подали горячее, потом сводили в баню. После этого нас перевозили в Очёр. Как, не помню. Привезли нас в Очёр в октябре. Уже холодно, а мы одеты все по-летнему. У Вали на шее был повязан красный шарф, которым мама связывала наши ручки, но теплой одежды ни у кого не было. Поселили сначала в выделенных комнатах заводоуправления, что недалеко от плотины с березами. Позднее перевели жить в здание бывшей церкви, где стояли кровати с досками, на которые были набросаны матрасы.
Валя пошла в третий класс, а я – в первый. Валя – мое удивительное и самое большое счастье! Кто-то хвалится в жизни машинами, кто-то – деньгами, кто-то – должностью, а у меня было несравнимое ни с чем богатство – моя сестра. Она заботилась обо мне, делала, что только было возможно. Такая красивая, умная девочка шла по улицам с завязанным на шее красным шарфиком в здание очёрской школы, которая располагалась в бывшей “графской конторе”. Я пошла в другое здание, где был первый класс, из красного кирпича в центре города. Местные женщины знали, когда мы, маленькие, плохо одетые первоклашки, пойдем по улицам в школу. Стояли у дороги, специально нас поджидая. Подходили, поправляли чулки на ногах, гладили по голове, давали что-нибудь съестное. Это было очень трогательно. Нежности и заботы нам не хватало.
Мы учились вместе с очёрцами; в моем классе ленинградских было поменьше – полкласса, но позднее стало даже больше. Как все дети, мы дружили и ссорились. Местные кричали: “Ленинградская вошь, куда ползешь?” Мы им отвечали тем же. На улице очёрские мальчишки отняли у Вали однажды наш красный шарфик. Как мы его жалели, не передать словами. Сестра очень плакала…
Моей первой учительницей в Очёре была Зинаида Николаевна Носкова. Жила она за рекой. Помню, пойдем ее провожать по зимнему пруду и спорим, кто за руку учительницу возьмет. Часто ее ладошка доставалась мне. Позднее Зинаида Николаевна работала в детдоме воспитателем. Кормили нас как могли. Дети Ленинградского детдома № 14 поначалу в школах были обделены теми маленькими кусками хлеба, которые выдавали только очёрским ребятишкам. Позднее такая несправедливость была исправлена, хлеб стали выдавать и нам.
Среди других учителей вспоминаю Ложкина Максима Алексеевича, историка. Мы его обожали. Его жена Елена Михайловна преподавала французский. Мы ее тоже любили, все время ставили с ней спектакли. Прекрасные воспоминания остались от Филиппа Михайловича Малкова. Этот учитель никогда не кричал. Такой замечательный человек.
Однажды меня наказали и поставили за доску стоять. Закончился урок, потом – первая смена, все ребята разошлись, а я маленькая, наголо стриженная, стою за доской, меня ведь не выпустили. В классе начал вести свой урок Филипп Михайлович, увидел, что я стою за доской, вывел и говорит: иди домой. Его ученики тут же достали еду, давай со мной делиться кто чем может. Он был такой добрый, что про это невозможно забыть. Ребенка не обманешь; мы все считали, что он не такой, как многие, что он особенный, потому что тоже эвакуированный. Любят не за что-то, любят просто, мы его просто и любили.
Эвакуированная Лидия Владимировна Иванова вела у нас танцы. В детдоме был организован духовой оркестр, имя руководителя я не помню. Выезжали мы с концертами, спектаклями, балетами по району, бывали даже в Молотове в оперном театре. Все мы, дети, острижены были налысо, поэтому, когда я танцевала, а танцевала я много, многие аплодировали и кричали: “Великолепно! Какой прекрасный мальчик!”
Меня приметили за этими танцами и хотели было забрать в Пермь, да Валя не отдала. В плане быта, конечно, проблем хватало. С одеждой всегда было плохо, особенно с теплой, поэтому валенки давали тем, кто хорошо учился. По линии американской помощи нас одевали, выдавая кому что подойдет. Мне в 1944 году выдали туфельки, которые я с удовольствием носила. В баню нас водили за реку. Нальют каждому в ладошку жидкого хозяйственного черного мыла, и мы так идем по плотине, несем это мыло. А я маленькая, мне проще мыло на голову намазать, и руки свободны! Как-то в баню пришла, тазик воды на себя вылила и вышла поскорее, чтобы одежду себе по размеру маленькую подобрать из чистой стопки. На деле грязь вся с мылом на короткостриженой голове размазалась, а мне не видно. Оделась, стою на улице довольная, улыбаюсь, и тут меня замечает директор детдома. Боже, как он кричал на сопровождающий персонал! Потом меня всегда скоблили больше других.