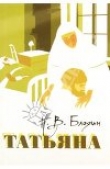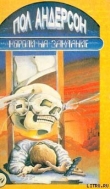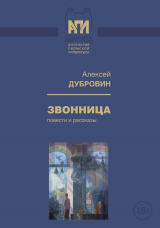
Текст книги "Звонница (Повести и рассказы)"
Автор книги: Алексей Дубровин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Итак, я довольствовался лесным домиком, нечастыми приездами студентов на практику, еще более редкими посещениями туристов, поскольку в «Предгорье» всех подряд не допускали. Встречи и проводы немногочисленных групп извне особых хлопот мне не доставляли. Приехали молодые ребята, поудивлялись красотам, собрали лесных даров и луговых цветов – и уехали, будто и не было никого. Лесники, присматривающие за тайгой, немногочисленные егеря и смотрители заповедника бывали в моем домике регулярно, но эти люди оставались кочевниками-одиночками, поэтому наше общение, как правило, заканчивалось быстро. Иногда они оставляли мне собранные на разных участках заповедника травы. Картотека раздувалась, росла как на дрожжах.
Навещая Пермь, помимо «специфических маршрутов» я проводил рабочие встречи на кафедре ботаники и генетики растений биологического факультета университета. Ловил на себе недоуменные взгляды коллег. Наверно, они задавались вопросами в духе: «Борода у чудака превратилась из черной в серебристую. Что потерял Горошин в этой глуши?» Отмахивался от назойливых расспросов и глупых советов поменять место жительства. Мысленно отгораживался от всех: «Не суйте, господа, нос не в свое дело. Робинзону не нужен шум цивилизации». Господи, если бы они только знали, чем я занимался в действительности! Но откуда им было догадываться. Нет, ни одна душа не ведала.
Возвращаясь в дом, знал, что здесь ждет только кошка. Иных размышлений, кроме тех, что я проживал жизнь счастливого человека, приносившего пользу своей далекой стране, мне и в голову не приходило. На ум иногда просились строки из Пушкина: «В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои: без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви». Но мне чужда была всякая мягкотелость, поэтому строки из стихотворения вызывали у меня только улыбку: «…без божества, без вдохновенья…». Зачем они нужны людям? В памяти звучали слова босса: «Уверен, тебе не составит особого труда выполнить долг перед правительством». Какой-то сбой в программе все-таки произошел, поскольку, словно опасаясь разочарования в своей мечте, я вдруг принялся, как попугай, повторять: «Мне не составит труда выполнить долг». Зачем повторял, объяснить до недавних пор не мог. Сейчас понимаю.
Если не отметить, что отдельные штрихи бытия все же ломали устоявшийся быт, то картинка останется неполной. Эмоции посещали меня, когда наезжал местный егерь с седьмого участка. Добрейшей души человек этот Аркаша, крепыш с бородкой а-ля Хемингуэй. От него исходила именно та глубинная русская культура, о которой меня предупреждали в девяносто четвертом-пятом годах по части «азиатских голов». Мы садились с ним в комнате ли, под навесом ли во дворе и под чай на травах рассуждали о жизни, о политике, о новинках литературы.
От Аркаши я услышал немало любопытного о пермском писательском сообществе, в которое он был принят после издания двух своих книг с рассказами о животных. Дружили мы с Аркашей много лет, а в гостях у него я впервые побывал полтора года назад.
* * *
Семью Аркадия, состоявшую из жены и двух дочерей, я назвал «семьей хохотушек». Не успели мы с егерем подъехать к его дому на старом уазике, как на крыльце появилась троица светловолосых барышень. Внешне весьма привлекательных. Которая из них оказалась женой, а кто – дочерьми, узнал позднее.
– Ура, приехал наш Аркаша! Сейчас попросит манной каши, – раздалось с крыльца.
Взрыв смеха испугал застрекотавших неподалеку сорок.
Преобразившийся егерь за словом в карман не полез. Из кабины закричал:
– Ура! Любаша, Маша и Наташа гостей накормят пшенной кашей. С мясом, мои красавицы. Вам ли не знать, что мясо человек потребляет тысячи лет, что, собственно, и сделало его разумным. Желаете более убедительного доказательства?
Аркаша выпрыгнул из машины и резво бросился к крыльцу. Кто бы мог подумать, что он способен на такие эмоциональные порывы?
– Нет, не пшенной, а манной! – звенело со стороны хохотушек.
– Манной себя кормите-поите, а нам пшенной да с мясом побольше несите, – егерь, целуя и обнимая по очереди своих дам, в долгу не оставался.
Перебрасываясь шутливыми фразами, мы погрузились в атмосферу праздника. Сестры Маша и Любаша поведали о страхах, которых натерпелись, когда в дом, спасаясь от медведя, заскочил лосенок. Бегал тот с криками по комнатам, а в двери ломился мишка. «Хорошо, Мария не растерялась, пальнула из ружья в потолок. Косолапый – прочь, только на крыльце следов известных разбросал», – смеялась Любаша. «Тебе сейчас смешно, а не забыла, как на шкаф с книгами воробьем вспорхнула? Старшая сестра называется», – дополнила рассказ деталями Маша.
Обе принялись размахивать руками, изображая, как дело было. Хохотали при этом до слез. Глядя на них, зашлись в смехе отец с матерью. Меня тоже зацепило, смеялся до колик. Не припомню, когда со мной такое случалось. Если память не изменяет, в тот прощальный вечер с Тиной произошло что-то подобное. На обоих тогда напало странное веселье, как, оказывается, принято считать среди русских – «к слезам». Но в семье егеря поводов для слез я не заметил. А может, сделал вид, что не заметил.
Дошла очередь делиться воспоминаниями мне. Довольно сухо я передал суть своих трудовых будней, гораздо красочнее у меня получилось рассказать о встрече с медведем нос к носу на лесной тропе. Девушки повизгивали от хохота над моей походкой и взмахами руками, когда я изобразил подходящего к человеку косолапого. Затем я принялся рассказывать о травах и, по просьбе Маши, младшей дочери егеря, мечтавшей через год пойти учиться на фармацевта, подробнее остановился на химическом составе чистотела. Похоже, все устали слушать мою нудную лекцию и отправились на поляну разжигать вечерний костер. Мария, подперев щеку, осталась внимать речи научного сотрудника. Златокудрая красавица! Она поразила меня искренностью. У костра мы чуть не до полуночи просидели рядом, и она доверчиво прижималась к моему плечу. В голову лезли слова старой песни, когда-то услышанной: «Почему ты мне не встретилась, юная, нежная, в те года мои далекие…»
Чем я, сорокасемилетний агент-нелегал, работающий под прикрытием научного сотрудника, мог ответить на нежные прикосновения девушки? Борьба эмоций во мне прекратилась, как только психика вызвала из глубины сознания одну дрянную способность – гасить порывы. На следующий день мы простились, но еще с неделю память возвращала меня в этот светлый дом. Что синеглазая Маша разглядела во мне?..
Вскоре меня начало донимать сожаление, что Аркаша больше не зазывал к себе в гости. Хотелось вернуться к нему на блины с чаем, но в большей степени я, видимо, мечтал встретиться с Марией. Самостоятельно поехать к малознакомым людям считал проявлением неучтивости. Мысли о семье егеря гнал прочь и оставался один на один с лесными стенами. Кошка в погонях за лесной птахой жила своими представлениями о счастье. Уединение начинало приносить мне глухую тревогу… Дальше – больше.
* * *
Не ощущая кровной принадлежности к русскому материку и далеко отчалив от американского, я бросился искать спасительный пятачок земной плоти. В конце концов, спасение утопающих – дело их собственных рук. Подстегнуло то, что уши начали улавливать странный колокольный звон. Совсем как в книге Хемингуэя: «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе. Каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса и разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол; он звонит по Тебе».
Неужели колокольный звон предупреждал мой совершенный мозг о грозящей опасности? Нет, не может быть! Тем не менее случилось… Не могло не случиться. Передо мной явился враг. Нет, не русская контрразведка. Той я опасался меньше всего. Мой грозный соперник наблюдал за мной днем и ночью, в доме и на лесных тропах, на улицах Перми и в натопленной баньке у ручья. Имя беды – Одиночество.
То, что прежде приносило умиротворение, начало разъедать мою сущность изнутри, из-за чего окружающие краски приобрели едкожелтый оттенок. Сложно судить, начал ли я болеть или, наоборот, выздоравливать? Но мне повсюду мерещилась ржавчина: на полу, на стенах, на моих карточках. Беспокойства по поводу своего психического состояния я не испытал, понимая сложную цепочку работы мозга, который поднимал опасные вопросы-волны и сам искал спасения от них. Тень-«стража» старалась поставить меня на место. Зря она вмешалась, поскольку мозг бросился выводить формулы противодействий. С ними росло число вопросов, пока не хлынул водопад из них. Прожив много лет среди русских, я так и не понял, отчего они, через одного любители бранной речи, множества пороков, оставались носителями своей исторической миссии? Как им удавалось сохранить в себе древние коды, выводящие их на высочайший уровень духа? Какая оккультная сила дается русским при рождении, что они способны чувствовать смерть близких им людей на удалении тысяч километров друг от друга? Веками за ними ведется охота, но они не ожесточились сердцем на весь свет. Отчего и почему?
Вопросы подталкивали к раздумьям, о которых в разведцентре не догадывались. Тень-«стража» не могла предать собственную матрицу и надеялась на разрешение внутреннего конфликта. Возможно, не без вмешательства арбитра. Что-то говорило мне: помощь вот-вот появится. «Во всяком случае, подсказка всегда где-то рядом», – закладывалось в программу мозга на случай возникновения нештатных ситуаций.
Внутренняя работа приносила свои плоды, но размышления не давали однозначного выбора – «проблема решается так и не иначе». У тени за плечами оставались советы-установки с напоминаниями о долге. Выдавливая из себя установки, я в то же время понимал, что вопросы о русских напрямую связаны со мной лично, со средой обитания, с ценой, которую плачу за пребывание в «Предгорье». И задаваться сомнениями следовало много раньше. Таежное затворничество ради иллюзорных представлений о долге завело мозг в тупик. Так не глупо ли сегодня рассуждать: судьба – фатальная ошибка или роковая случайность? Очевидно, что случилось, того не изменить, и незачем ворошить прошлое, придумывать проблемы. В ответ слышал: «Оставаясь бесчувственной сущностью, ты по-прежнему лишаешь себя человеческих эмоций. Без них ты бездушная машина, не способная ни любить, ни ненавидеть. Не устал от чужой кожи?»
Ломка продолжалась, и мне все меньше хотелось оставаться в этой самой «чужой коже». В результате прижившийся во мне «Андрей Горошин» разрушался, и нарождался кто-то новый. Кто? Я не узнавал себя.
Поиск ответов проходил по замкнутому кругу, из которого сознание пыталось выбраться, не понимая, что калитку из крутящейся центрифуги не разглядеть. В хаосе и смятении мыслей голос Анны Герман, пожалуй, играл ту же роль, что и скрытая фотокамера, испускающая невидимые шпионские волны. Но от голоса певицы распространялись живительные потоки. Я постепенно прозревал. Не так и свято оказалось содеянное за годы.
* * *
Дождь, похоже, сегодня не закончится. Небеса расщедрились, но жизнь научила философски относиться к тому, что от меня не зависело.
«Звезда любви, звезда волшебная…» – голос Анны проникает прямо в сердце. Вот и тень встрепенулась: «Любовь – болезнь…» Привычно отмахиваюсь: «Слышал я про болезнь, не повторяйся».
Чистый голос Герман, щемящие аккорды музыки проталкивают через сердце горячую кровь. Под ее токами прежние смыслы раскрываются мне с удивительной стороны. Уже не удивляюсь, что в организации посчитали оправданным выжать все соки из агента Тома Уайта. Выжали, но, полагаю, там по-прежнему уверены, что деньги на счете могут заменить человеку его память, его живые корни. Странная американская мораль – сухость выдавать за силу.
«Тень, что ты на это скажешь: бесчувственность есть болезнь более страшная, чем чувственность? Формулу эту вывожу из химического состава своей крови. Не отворачивайся в смущении. Ты прекрасно знаешь, какую жертву я принес в угоду долгу. Отрекся от дара жизни – любви. Знаешь и другое: я поверил, что в холодном клинке не должно оставаться места лирике, способной привести к сбою программы. Мне успешно внушили, что мозг должен быть совершенным и нестандартно работающим даже в глубоком сне. И в итоге?.. Куда завела нестандартность мышления? И так ли совершенно мышление, если страшится вопросов, выставляя “стражу”-опекуна?»
Молчание с «той стороны» позабавило.
Тоннель почти пройден, но света в его конце я не вижу. Выход из замкнутого круга лишь один – взять в пальцы все собранное, накопленное и растереть в порошок… Разве не заслужил я права жить в заповеднике просто человеком? Кем? Андреем Горошиным. Буду заниматься лесом, лугами без сбросов информации на спутники. В конце концов, могу собраться и поехать в гости к Аркаше, чтобы встретиться с синеглазкой. Что мешает?
Но в этом случае нет ответа на вопрос, как быть с «чужой кожей»? Ее можно содрать, только лишившись своей. Андрей – это Том, и, наоборот, Том – Андрей.
* * *
Я обвел взглядом комнату. Пеналы, карточки, пеналы… И ради этих молчаливых карточек в пеналах прожита жизнь? Ради них принесены в жертву мои радости, печали, восторги и сострадания? «Мы не можем тобой рисковать. Фиалки другое дело… Дальше время покажет», – так, по-моему, прозвучало обещание «V» позаботиться о моем будущем. Спасибо за заботу! Позвольте же мне теперь самому разобраться с моим будущим.
За окном по-прежнему бьют капли дождя. По ту сторону стекла просматриваются ближние к дому елки, значит, туман слабеет. Да и в голове будто прояснилось.
Обращаюсь в мыслях к «опекунам»: «Господин “V”, босс! Вы, наверно, считаете, что я не способен тосковать по родным лицам и родному языку. Неужели вам в голову не приходило все эти годы, что вторжение в личную жизнь мою и мне подобных не заменяется высоким окладом? Ах, да, слова о долге… Перед кем? Американским народом? Но если даже родители не благословили меня на годы забвения, то за народ и вовсе говорить не стоит. Долг перед вами? Кто вы? Будет большой честью сравнить вас с листьями гербария, да сравнение, господа, не в вашу пользу. Листья сохраняют внешнюю привлекательность живого. Сухость и прагматичность вашего мышления напоминает мне скрип высохшей ели. Годится разве что на безумное пламя от разряда молнии. Отсюда и пожары от вас по всему миру. Наивный, я считал вас мудрыми, ждал от вас помощи. Зря… Вы – мрак, преисподняя. Закономерно, что вариант собственной нейтрализации предусматривает стирание своей памяти. Кем стану я без памяти? Высохшим стеблем черной травы?»
Удивительно, мой монолог не прерывается. Тень, я тебя поверг! Господи, как горит лицо! Где графин с водой? Все ли высказано? И понятно ли «хозяевам судеб», чем люди обычно заканчивают такие признания?
«Господа, насильно мил не будешь, говорят в России в минуту отчаяния или… расставания, – продолжаю я. – Перестав быть американцем, я не превратился в русского, однако жизнь здесь многому меня научила. И геомагнитные аномалии местных разломов не играют роли. Лучшие годы моей жизни брошены в костер вражды. Внедрившись в сердцевину русского пространства, я уподобился змее. С этого момента перестаю быть змеей, а вы, господа, теряете все права на меня…»
Спазм в горле не дает возможности прошептать: «Камень с души снят!» Неужели? Свет в конце тоннеля все-таки показался.
Мне не хватает воздуха, я бросаюсь на крыльцо вдохнуть лесную прохладу. Среди завесы дождя словно заново вижу окружающий мир и себя в нем. Никакая тень больше не сможет довлеть над моим сознанием. С возвращением, Том!
Что-то напрашивается сказать еще. В минуты исповеди русские обращаются к высшему сознанию, называемому ими и Святым Духом, и Всевидящим Богом, и совестью, и Николаем Угодником. Я не настолько, как русские, верующий, но из груди рванулись слова искренней благодарности за освобождение: «Все эти годы я брел, утопая во лжи собственных представлений о счастье. Изжалил свой мозг лучами-сигналами на военные спутники, борясь с древним правилом русских – жить в согласии с миром и с собой. Каюсь, не понимал, что иссохшую листву нельзя превратить в живую, как невозможно, пребывая во лжи к народу, искренне уважать его. Чуть было не позволил своей душе окаменеть, а сердцу – превратиться в лед. Но мне дан знак, протянута рука. Теперь я понимаю, что русские люди светлы и доверчивы. Тысячи лет они идут собственной дорогой и счастливы в судьбах, потому что не лезут в чужие монастыри. Путь к душевному озарению занял у меня едва ли не всю жизнь. Каторга позади!»
Чудно. Фразы звучат в моей голове, но охватывает ощущение, что я кричу их с самой высокой горы Предуралья. Пора остановиться: «Довольно слов, Том!»
Иду в дом. Чистилище пройдено, но окончательное прозрение – это не речи и не прогулки под дождем. Моя картотека остается висеть грузом моей вины. Сдаться русским? Нет. Общаться с ними относительно своего прошлого я не стану. Дело принципа. Русская контрразведка не раскрыла нелегала Тома-Андрея. Бывали чекисты здесь. Бывали. Но и только. Обычные люди – веселые и грустные, разговорчивые и молчаливые. Я раскусил их сразу, у меня нюх на приверженцев Феликса Дзержинского. Что с того? Они у себя на земле. Приехали, отдохнули, песни попели. За руку меня не схватили, каяться не заставили. Погрузились в машину и отбыли. Отдали мою душу на суд своему Богу. И вердикт уже известен: виновен. Нет, я не сбегу от русских по запасному варианту под прикрытием паспорта на имя Андрея Васильева. Сколько можно сидеть по норам?! У меня остается только один выход.
Оставлю русским записи, пусть разберутся в пеналах. Дам им шифры к закодированному дневнику. Осознав возможный урон, им легче будет бороться с его последствиями, которые, увы, неизбежны. За прошедшие годы мной отправлено в организацию более пятидесяти «посылок». Сколько бессмысленных спецопераций проведено против русских. Я – должник, а долг платежом красен.
* * *
Бросаюсь выдвигать пеналы и доставать из них отдельные карточки в известном только мне порядке. Шифры скрываются под рукой, все в той же картотеке. В душе царит покой. Странно, и шум дождя за окном стихает. В комнате уютно и тепло. Кошка развалилась на клетчатом покрывале дивана и безмятежно дремлет.
…Вот и все. Заканчиваю свое письмо русским в надежде, что они поймут меня и в чем-то простят. Есть и другая сторона: где-то в мире работает их нелегал, тоскующий, возможно, по родине. Пусть русские не останутся безмолвными кураторами для своих агентов. Даже самый подготовленный из них обречен без редкого дружеского взгляда соотечественника. Мимолетного, но сердечного взгляда.
Тяжести на сердце нет. Улыбаюсь – значит, все сделано правильно. Не так ли, Анна? Спой мне на прощание.
* * *
«Источник сообщает, что 17 сентября при обходе лесного массива в квадрате X в 18.22 посетил дом научного сотрудника Пермского университета А. В. Горошина. Дверь в дом оказалась открытой. На полу большой комнаты был обнаружен указанный сотрудник с огнестрельным ранением в голову. Пульс не прощупывался, что свидетельствовало об отсутствии признаков жизни. Источник полагает, что смертельный выстрел произведен самим Горошиным. На полу, по левую сторону от тела, находился карабин “Сайга”. Какого-либо беспорядка в комнате не замечено. Признаков пребывания в доме посторонних лиц источник не выявил. На столе лежал запечатанный конверт с адресом на имя руководства УФСБ по Пермскому краю. Содержание текста в конверте источнику не известно. При покидании дома источник закрыл дверь на ключ. Тело Горошина оставлено в доме. В правоохранительные органы источник не обращался. По срочной связи источник передал информацию на обусловленный номер. Антон».
Капитан Нестеров дописывал сопроводительную справку к агентурному сообщению, когда раздался телефонный звонок.
– Нестеров, зайдите.
Голос начальника городского аппарата ФСБ Кулакова ни с каким другим не спутать.
Убрав недописанный документ в сейф, капитан отправился в кабинет руководителя. Заместитель начальника майор Вершинин и старший оперуполномоченный по особо важным делам капитан Климова находились в кабинете Кулакова.
– Разрешите, товарищ полковник.
– Заходите, Сергей Андреевич. А где сообщение Антона? – Кулаков удивленно посмотрел на подчиненного.
Прямо у порога пришлось объяснять:
– Товарищ полковник, сообщение в сейфе. Не хватило пяти минут закончить. Разрешите вернуться и дописать сопроводиловку?
– Давайте пока в устной форме, – начальник отдела махнул рукой в сторону стула. – У вас не складывается впечатление, что все мы проморгали ситуацию с Профессором? Агенты не заметили ничего, что свидетельствовало бы о возможной трагедии?
– Агент Антон за два дня до события побывал у Профессора. Никаких намеков на нервный срыв, на неудовлетворенность жизнью со стороны объекта не прозвучало. Агенты Смит и Комаров тоже встречались с Профессором в сентябре. И техника нам ничего не дала. Аудиозапись велась круглосуточно. Антон семнадцатого числа внепланово находился на обходе в заповеднике и обнаружил Профессора в доме без признаков жизни. По способу срочной связи он сообщил о происшествии на пост контроля. Естественно, сделал первичный осмотр места, возле дома осторожно прошел, чтобы зря не следить. К агентам вопросов нет.
– Сергей Андреевич, и все же давайте проанализируем поведение Профессора за минувшие две недели. Может быть, что-то тревожное проявлялось за последние дни? – попросил начальник гораппарата.
Нестеров задумался. Информацию, которая скопилась у него, тревожной назвать нельзя. С другой стороны… После небольшой паузы произнес:
– Думаю, товарищ полковник, нам все предстоит не раз проанализировать. Событие неординарное, и прямо скажу, только об этом и думаю. Внешне никаких признаков возможной трагедии не проявлялось. Очередной сеанс связи Профессор провел двенадцать дней назад. В Пермь он в сентябре не выезжал, и контактов в заповеднике у него за эту неделю с посторонними не было. Ходил накануне к озеру, что в полукилометре от дома, потом вернулся к себе. Слушал записи Герман. Не знаю, как и трактовать, крутил одну и ту же песню «Гори, гори, моя звезда». К слову сказать, неделю назад он ставил диск с концертом Фрэнка Синатры, но потом в доме звучала только одна песня в исполнении Анны Герман. Распорядок дня у него оставался обычный. Очевидно, дождь заставил отказаться от выхода в лес в день трагедии. Чем может заниматься одинокий человек, сидя в доме? Своими карточками, записями да что-то музыкальное для души поставить. Телевизор там не берет, сотовой связи нет, Интернета нет. Сами знаете, глушь несусветная.
Начальник кивнул:
– Знаю. Говорите, одну и ту же песню в исполнении Анны Герман слушал? Определенная странность в этом есть. Как вы считаете, Сергей Андреевич, Профессор мог догадаться, что все эти годы работал под контролем? Страх наказания не прижал его?
– Последний выезд для проведения сеанса связи не показал никакого волнения. Не зафиксировано ни проверок при поездке по тайге, ни эмоций при работе с техникой. Видеоаппаратура не выявила ничего похожего на переживания. После подготовки Профессором сеанса связи мы, как и прежде, заменили его флеш-карту, стоило ему пересечь границы красного сектора при выезде. Их спутник вечером получил порцию дезинформации. Приехав домой, Профессор капитальный порядок не наводил, «жучки» не искал. Наша аппаратура все фиксировала. Нет, уверен, ни о чем не догадывался. Все происходило в привычном режиме. Устал сильно Профессор. Думаю, вымотался.
Вершинин и Климова кивнули головами, соглашаясь с выводом.
Майор негромко проговорил:
– Разрешите. Согласен с Нестеровым. Посиди-ка пятнадцать лет в тайге на нелегальном положении, пожалуй, взвоешь. Но если без эмоций, то слова Нестерова подтверждаются средствами технического контроля. Зря Профессор так с собой обошелся, лучше бы к нам пришел. Человек он сильный, а тут слабину дал. Возможно, ошибаюсь. Слабый не позволил бы себе подобной концовки. По поводу мыслей о расшифровке… Думаю, он догадывался, что к нему на станцию приезжали наши сотрудники. Конечно, они говорили о желании полюбоваться на природу, на то, другое, но профессионала не обмануть. Мы рассчитывали, что он, устав от одиночества, рискнет обратиться к кому-то. Душу, так сказать, излить захочет. И психолог с Лубянки в той команде был, пытался объект на разговор вытащить. Парень наш с гитарой неплохо отработал. Нет, не сломил себя Профессор, однако ушел из жизни не из-за страха наказания. Непугливый он. Довольно решительный, если учесть, что несколько раз медведь в метре от него сопел. Только, что греха таить, сентиментальный с годами стал. Характер у него менялся и менялся быстро. Мы этого не учли. Выходит, в чем-то он нас обыграл. Да, к вопросу о странностях в поведении: около 16.05 выходил на крыльцо, где раздался смех. Что его насмешило, пока неясно.
В Москву про ситуацию со смертью Профессора доложили. По сути, контрразведывательную операцию после согласования с центром можно приостановить. И последнее: настоящего Горошина можно допустить до посещения Перми. Только пусть остается пока неузнаваемым на всякий случай. Посоветуемся с центром, нельзя ли будет найти Горошину дальнейшее применение.
Кулаков молчал. Неожиданный финал жизни объекта его расстроил. Привык за эти годы к псевдоботанику. Тот, естественно, не знал, как бережно его опекали, сколько бессонных ночей провели в тайге, следя за безопасностью Профессора, в том числе предотвращая угрозы со стороны диких животных. Медведя, правда, несколько раз не смогли отпугнуть. А какие кульбиты выписывали сотрудники на деревьях в тайге, чтобы контролировать поездки Профессора в точки проведения операций связи! И так все неожиданно закончилось.
– Хорошо, Геннадий Николаевич, пишите план предстоящих мероприятий. Сергей Андреевич, что с осмотром места происшествия?
– Группа поработала в доме и на прилегающей местности. Машина вернулась, товарищ полковник, – ответил Нестеров. – Документация собрана. Конверт изъят. Порядок наведен.
– Что ж, дописывайте сопроводительный документ к агентурному сообщению, регистрируйте. Завтра свяжемся с Москвой по поводу приостановки работы по делу оперативного учета. Антону отработайте линию поведения по распространению в узком кругу информации о том, что объект уехал из тайги по личным делам в Рябинск Вологодской области. Можете быть свободны.
Подчиненные вышли из кабинета. Начальник гораппарата подошел к окну: «Надо же! За окном кружат белые мухи. Значит, зимы осталось ждать недолго». Его мысли вернулись к недавнему телефонному разговору с руководителем управления. Тот в общих чертах поинтересовался последним событием. Сказал, что по отдельным признакам в ходе проведения контрразведывательной операции достигнуты результаты. Возможно, проявятся в ближайшее время на уровне переговоров «сам знаешь где и с кем. Поживем – увидим. Следи за событиями в мире». Не включить ли телевизор?
Передавали последние новости о планируемой октябрьской встрече в Брюсселе по линии Совета Россия – НАТО.
Кулаков вздохнул: со смертью американского агента-нелегала завершалась не только одна из самых продолжительных операций в жизни полковника госбезопасности Георгия Кулакова, но и сама служба. Не раз он порывался написать рапорт на увольнение: и выслуга позволяла, и годы – давно перевалило за пятьдесят пять, – но останавливало желание довести операцию до логического завершения. Нет вины сотрудников и агентов в смерти Профессора. Тот сам выбрал свой путь и его завершение. Наверно, приблизился к пониманию смысла своего существования. Внедрен был американцем, умер, получается, русским. И такое бывает! Если операция и получит продолжение, то, видимо, без участия Кулакова. Да и ведомство, скорее всего, поменяется.
Улицу за окном припорошило снегом. «Все еще растает десять раз. Не припомню, чтобы первый снег лежал на земле больше трех дней», – негромко произнес Кулаков, подходя к столу. Работа продолжалась.
* * *
Из сообщения ИТАР-ТАСС: «Брюссель, 10 октября. Корреспонденты ИТАР-ТАСС Виктория Дубровская, Денис Дубровский. 10 октября в столице Бельгии Брюсселе прошло очередное заседание Совета Россия – НАТО на уровне послов. Как уточняется, на этом заседании обсуждался проект соглашения об основах взаимоотношений в сфере безопасности государств-членов Совета Россия – НАТО. В результате переговоров достигнут прогресс в понимании позиций сторон. Представители блока заявили, что распространение ПРО в странах Восточной Европы будет зависеть от реализации планов Москвы разместить аналогичные комплексы в Белоруссии и на севере России».
Заместитель представителя России при НАТО генерал-полковник Новиков задержался в Брюсселе, согласовывая повестку следующего заседания. Сегодня, двенадцатого октября, он возвращался спецрейсом в Москву и вспоминал минувшие переговоры. Российская делегация готовилась отстаивать свое мнение по вопросам размещения натовских ПРО, однако на быстрый успех никто не рассчитывал. Натовцы давно вели себя нахраписто, уверовав, что позицию России удастся сломить. Или полагали, что возражения русских увязнут в дружном антироссийском хоре.
На прошедшей октябрьской встрече натовцы оказались покладистее, чем на июльской. Что же, нынешний результат – это маленькая победа. Прекрасная работа российской контрразведки, которая вовремя подкинула американцам информацию о готовности войск ПВО поставить на вооружение комплексы «Береза» по всему российскому северу и на белорусской территории. И вот натовцам неожиданно захотелось искать компромиссы. Даже позиция непримиримого норвежского генерала Ярла Хансена как-то к концу заседания неожиданно поменялась: «Мы не станем инициировать быстрое решение проблем ПРО, но и вы остановитесь с размещением ваших “Тополей”, “Берез” и прочего оружия в районе Мурманска и Бреста».
Брякнул ли норвежец отсебятину или усталость взяла свое и с языка сорвалась обсуждаемая внутри блока тактика реагирования на угрозы? Бывает и на старуху, как говорится…
Новиков потер лоб: «Надо бы на фразу Хансена посмотреть с разных сторон». Оставалось попросить помощника решить вопросы по встрече с руководителями обеих служб. Вызвав адъютанта, продиктовал предстоящие планы.
Из кабины экипажа вышел второй пилот:
– Москва через двадцать минут, товарищ генерал.
Самолет начал снижение. Новиков поднял шторку иллюминатора и бросил взгляд через стекло: внизу сверкали огни Подмосковья.