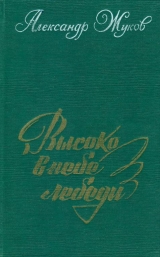
Текст книги "Высоко в небе лебеди"
Автор книги: Александр Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
– Я ходил больше, но ничего не помню.
– Где-то здесь должен быть ваш подъезд. Так, так… вот ступеньки. Вы не помните дверную ручку?
– Я даже цвет двери не помню.
– Осторожно, не споткнитесь… Какой этаж?.. Будем считать. Ваша квартира налево или направо… Хорошо. Протяните руку вперед. Это ваша дверь, узнаете?
– Если ключ подойдет, моя. – Евгений непослушной рукой вставил ключ в замочную скважину; повернул, дверь открылась; Евгений вбежал в прихожую. – Гриша, ты здесь? Ты вошел? – он резко захлопнул дверь и защелкнул запор. – Теперь мы хоть немного защищены. Гриша, ты располагайся. У меня – две комнаты. Знаешь, я проголодался. Есть сыр и печенье. Устроим королевский ужин!
– Сейчас обед.
– Откуда ты знаешь?
– Чувствую.
– Обед в потемках. Забавно. Впрочем, время остановилось. Гриша, в каждой комнате – диван. Можешь отдохнуть. А я пока нарежу сыр, хлеб и принесу.
– Спасибо. Проводите меня в комнату. Я же у вас впервые.
– Слева стул и тумбочка с хрустальной вазой. Справа – книжные шкафы, у окна – диван.
Касаясь рукой стены, Евгений прошел на кухню, разыскал нож, сыр, хлеб; дверцу холодильника он оставил открытой, чтобы оставшиеся в нем продукты не заплесневели; осторожно, на ощупь, нарезал сыр, положил на тарелочку и подумал, что в такой обстановке сервировка стола – бессмыслица, да и, вообще, в соседней комнате его ждет не дождется Гриша, довольно странный мальчик с мелодичным голосом; Евгений подумал: видел ли он его во дворе?.. может, они даже знают друг друга в лицо? Он взял тарелочки с едой и, локтем касаясь стены, прошел в комнату.
– Гриша, обед готов. Я подвину журнальный столик к дивану, так будет удобнее.
– Я уже подвинул.
– Как ты его нашел?
– Евгений Петрович, пожалуйста, не говорите со мной как с ребенком.
– Извини, я не хотел тебя обидеть. Но ты… Я, действительно, восхищен твоими способностями ориентироваться. Наверное, в детстве и у меня были обострены эти способности… Впрочем, я уже плохо помню детство. А сегодня без тебя я бы еще блуждал в темноте. Ешь сыр. Вилки я не взял, они отошли в мир воспоминаний, – Евгений потянулся к тарелке и натолкнулся на руку мальчика, – извини, эта темнота… Хотя в ней многое прояснилось. Я всегда подозревал, что мой сосед… не очень хороший человек. Теперь я увидел это. Я всегда чувствовал, что скучаю, но это чувство как-то растворялось в серой воде будней. Гонялся за книгами, строил планы. А оказался один на один с собой и заскучал. А что произошло? Самая малость: всего-то затянулась ночь.
– Вы интересно говорите. Я тоже об этом думал.
– Ты?
– Я однажды прочел в книге, что киники презрели боль. Они научились не замечать ее. Сразу телесные наказания потеряли всякий смысл, и огромная масса людей лишилась оружия. Вот и сейчас, наверное, произошло что-то похожее. Вот вы бы, например, никогда не мучали себя теми вопросами, о которых говорили.
– Гриша, кто твои родители?
– Мама работает инженером в НИИ. А папа… он несколько раз приходил к нам, пробовал со мной говорить, а я, если не вижу человека, то не могу с ним говорить.
– Я тебя понимаю, очень понимаю.
– Спасибо, Евгений Петрович, я сразу, только услышал ваш голос, понял, что вас не надо бояться.
– Интересно. А мы с тобой раньше встречались на улице?.. Наверное, пробегали друг мимо друга: ты по своим делам, я по своим, – иронично усмехнулся Евгений. Только разве это – дела. Если д е л а, то уже не мои, не твои, а н а ш и.
– Вот-вот, Евгений Петрович, я как-то подумал, что неплохо бы, скажем, каждые пять лет издавать словарь самых употребительных слов и вышедших из употребления. А рядом печатать настоящее значение этих слов. Наверное, уже одно это многое бы прояснило…
Евгений вслушивался в звучный, размеренный голос мальчика и пытался представить его, в воображении рисовалось какое-то худосочное создание, похожее на диковинный экзотический цветок, выращенный в теплой оранжерее.
«Нет, он другой, совсем другой, – поспешно подумал Евгений, – он же не испугался, не отчаялся. Вышел на улицу только потому, что у соседей повредился водопровод. И думает он так, вдвое, а то и втрое взрослее. Вот уж эти фокусы акселерации! Посмотреть бы, что из него будет лет этак через двадцать…» – Евгения немного покоробило, – получалось, что он завидовал Грише, а заодно признавал зряшность своей жизни.
– Ты знаешь, – задумчиво сказал Евгений, – мы все приходим в этот мир с желанием изменить его, а почему-то меняемся сами.
– Потому что живем так, словно тут, на Земле, мы – безграничные хозяева. А чему и кому мы хозяева? Даже самим себе ничего толком приказать не можем. Каждый носит на себе четыре – десять лишних килограммов, регулярно болеет, большую часть жизни проводит в суете. Кстати, которую сам же и создает.
– Гриша, ты прав: все мы это знаем, но почему-то наши знания не становятся убеждениями. Все мы знаем, что вещи – чепуха, мещанство. Но именно отказ от материальных благ в наше время – фантастика. Одна моя знакомая говорит, что сейчас такой период: люди утверждают себя через вещи. Хотя то здесь, то там случаются землетрясения. Все исчезает под обломками.
– Мне кажется, Евгений Петрович, что пока государства будут стремиться к могуществу, а оно ведь определяется именно богатством, люди будут стремиться к тому же. Они любят подражать сильным и тоже хотят быть независимыми.
– Ты много читаешь.
– Да, но одни и те же книги Толстого, Пушкина, Достоевского и еще сказки.
– Мне показалось, что ты увлекаешься фантастикой, любишь утопические романы.
– Я бы с удовольствием прочитал их, некоторые я слышал по радио.
– С книгами нынче трудно. Знаешь, Гриша, у меня неплохая библиотека. Пройдет эта ночь, и приходи, бери любые книги.
– Это невозможно.
Евгений уловил в голосе мальчика замешательство и поспешно заверил:
– Гриша, даю тебе честное слово, что ты можешь брать в моей библиотеке любые книги. И я хочу, чтобы ты подружился с моим сыном.
– Спасибо.
– Вот и отлично. – Евгений заметил на потолке белесое пятнышко. – Гриша, смотри, что это такое?
– Где?
– Над головой.
– Не знаю.
– Или мне кажется, или… – Евгений скользнул рукой по подоконнику, пальцы наткнулись на круглое зеркальце – пятно на потолке вздрогнуло. – Такое ощущение, что все небо затянуто тучами и откуда-то пробивается крохотный лучик. Интересно, сколько же времени прошло?.. Гриша, посмотри в окно. Все небо светится. Наверное, космическое облако напоследок вызвало северное сияние. Гриша, да посмотри же в окно. Такое бывает раз в жизни. Это что-то фантастическое…
– Где окно? – растерянно спросил мальчик.
– Как… где? У тебя что-то с глазами?
– Евгений Петрович, мне надо было сразу сказать, но мне было так хорошо… Так серьезно я разговаривал только с мамой.
Евгений присмотрелся к мальчику, сидевшему в глубоком кресле; его большие тусклые глаза смотрели прямо в стену, правую щеку наполовину закрывал коричневый лишай; Евгений тут же вспомнил, что часто встречал Гришу возле соседнего дома и, ускоряя шаги, брезгливо отворачивался, чтобы не видеть его лица, похожего на уродливую маску.
– Евгений Петрович, вы меня теперь ненавидите?
– Ну что ты, Гриша, ну что ты… – Евгений скользнул взглядом по комнате; из полумрака, освещенные розоватыми вспышками света, выплывали золотые корешки книг в шкафу, зеленовато вспыхивали хрустальные фужеры в серванте; зазвонил телефон; Евгений кинулся к нему. – Да… я… жив… Да… У вас была керосиновая лампа… Да…
Мальчик соскользнул с кресла; касаясь рукой стены, вышел в прихожую. Евгений, увлеченный разговором с женой, не заметил его исчезновения; склонив голову набок, мальчик прислушался к его голосу.
– …нет, газ я не выключал… Проверю, сейчас проверю… Холодильник тоже посмотрю… Да… Да…
Мальчик нащупал рычажок замка и вышел, осторожно притворив за собой дверь.
1985
Шла по жердочке…
Людмиле Михайловне
Это желание возникло сразу: Люба поднялась чуть свет, посмотрела на серое от какого-то металлического света окно и увидела сначала нерезко, а потом так, словно наяву стояла перед деревянным домиком с резными, снизу обколотыми наличниками, и куст сирени, и старую березу с кряжистым, причудливо изогнутым стволом; ее ветви, покачиваясь, терлись о кромку крыши, – и Люба услышала легкое поскрипывание; с улицы оно было едва различимо, поскольку растворялось в шорохе ветра, в шуршании листьев, а дома скрип наполнял комнату, и в детстве, когда Люба в морозные зимние дни забиралась на печку, пугал ее; казалось, что в окна стучится леший и вот-вот черный, лохматый, похожий на злого соседского пса Полкана, он ворвется в избу; Люба с головой накрывалась овчинным тулупом, упиралась ногами в теплый мешок со старыми мягкими валенками и, затаившись, ждала отца; он в любую погоду приставлял к крыше шаткую лестницу и опиливал сучок, то ли от ветра, то ли от мороза пригнувшийся к крыше.
Далекий, уже, казалось бы, забытый страх вошел в Любу; прячась, она нырнула под одеяло; рядом кто-то дышал мерно и глубоко; Люба не сразу поняла, что это Андрей, ее муж, она была дома, в пятнадцатой квартире, на третьем этаже, а тот, деревянный дом из ее детства – видение, остатки сна. Люба высунула голову из-под одеяла и снова увидела корявый ствол березы, крылечко дома с частыми ступеньками; почерневшие от дождей, потрескавшиеся, в самой середине они вытерлись, и лишь твердые коричневые сучки торчали, словно шляпки крупных гвоздей.
Ступая на каждую ступеньку отдельно, Люба, как ей показалось, долго, невыносимо долго поднималась, поднималась; очутилась в избе, осмотрелась – стол был накрыт, в центре его возвышалась бокастая кринка с выщербленным краем; крупные ноздреватые ломти хлеба лежали на белой тарелке, а рядом краснели мясистые помидоры. Окно, это сразу бросилось в глаза, было затянуто паутиной, словно в избе давным-давно никто не жил. Люба хотела заглянуть в спальню, но почувствовала, что в ней пусто, и на кухне, из которой тянуло хлебным теплом, тоже никого нет.
С улицы в окна лился зовущий желтый свет; от него насквозь светилась паутина и зеленоватыми огоньками вспыхивали влажные зернышки в розовых дольках помидоров. Люба хотела повернуться и выйти, но не смогла даже пальцем пошевельнуть; ей сделалось жутко от того, что так и останется в родной, почему-то пустой избе; Люба испуганно вскрикнула.
Чья-то рука неловко тронула ее за плечо, и, как ей показалось, громовой голос спросил:
– Что с тобой?
Люба завизжала от страха и с ней сделалась истерика. Люба металась по кровати, кулачками колотила пышные подушки, которые Андрей прикладывал к стене, к полированной боковине кровати, опасаясь, как бы жена, уже находившаяся на седьмом месяце беременности, ненароком не ушиблась. Спросонья, растерянный, тоже не на шутку перепугавшийся, он бегал то за водой на кухню, то бросался к телефону, смотрел на цифры в круглых прорезях номеронабирателя и как-то совершенно глупо спрашивал себя: «Вызвать «скорую»? А скоро ли она приедет?» Бежал к жене, с болью смотрел на ее лицо, искаженное гримасой дикого, животного страха, на ее округло выпирающий живот и с ужасом думал, что сейчас случится нечто страшное, непоправимое; ноги его подгибались, он почти терял сознание; опомнившись, хватал стакан с водой и срывающимся голосом умолял:
– Люба, Любушка, ну, глоточек… ну, глоточек, тебе сразу станет лучше.
Его голос лишь обострял припадок; взмахнув рукой, Люба попала по стакану, он вылетел из рук Андрея, упал на паркетный пол и разбился. От резкого звука Люба вздрогнула и открыла глаза; ее лицо, еще несколько секунд назад походившее на картонную скомканную маску, оживило удивление. «Что со мной было?» – Любины щеки порозовели, а потом залились густым румянцем; она отвернулась к стене и расплакалась.
Андрей присел на кровать и, опасаясь, как бы припадок не повторился, пылко успокаивал ее, обнимая за плечи и целуя во вздрагивающую шею; он готов был принять в себя всю ее боль, весь страх. Интуитивно угадав, что кризис миновал, он подумал: «Нужен врач. Срочно нужен».
Словно Люба была птицей, готовой от неосторожного шороха сорваться с ветки и улететь, он сначала отнял одну руку, потом другую, тихонько отодвинулся на край кровати; на цыпочках прошел в прихожую и плотно притворил за собой дверь. Шепотом, холодея от одного лишь воспоминания о том, как жена билась в истерике, и уже сейчас понимая, что это в ее положении может иметь самые серьезные последствия, и, что еще страшнее, может, является предвестником чего-то, еще более худшего, Андрей сбивчиво рассказал матери по телефону обо всем.
Она коротко ответила:
– Я заеду за врачом и через двадцать минут буду у вас.
Андрей осторожно опустил трубку на рычаг и немного успокоился – так часто бывает: стоит рассказать о своем горе близкому или даже совершенно чужому человеку, как на душе станет легче, покойнее, словно часть твоей тяжести его сердце приняло в себя.
Андрей прислушался – в комнате стояла тишина; опасаясь нарушить ее, он не вышел из прихожей, машинально посмотрел в зеркало, увидел себя, всклокоченного, помятого, еще не оправившегося от испуга, и мысленно поторопил мать.
Не прошло и двадцати минут, как щелкнул замок. В прихожую вошел крупный седой мужчина с черным дипломатом в руках; из-за его плеча выглянуло тревожное лицо матери:
– Андрюша, объясни толком, что случилось?
– Мама, я не знаю. – Андрей живо вспомнил, как Люба металась по кровати, как, перекатываясь, колыхался ее огромный живот, и сейчас, в эти секунды, когда он не подспудно, а умом понял, что грозило тому живому существу, которое уже заявляло о себе мягкими толчками, испугался еще больше, чем в первый раз и, теряя сознание, ухватился рукой за притолоку.
– Андрюша, господи, да что же случилось?! – мать, сухая, нескладная, переломившись пополам, проскочила под рукой врача; усадила Андрея прямо на трюмо, заставленное флаконами с духами, одеколоном, разными безделушками – они шумно посыпались на пол.
– Ну-ну, мужчина, – с добродушной иронией пробасил врач и на испуганный взгляд матери ответил: – Пройдет, он слишком впечатлительный. Больная в комнате?
– Да-да, конечно, – с несвойственной ей поспешностью проговорила Таисия Федоровна и ладонью похлопала Андрея по щеке.
– Ну что ты, сынок, что ты?
Люба со страхом посмотрела на врача; Николай Павлович, манерами, осанкой походивший на начальника крупного главка, всегда вызывал у нее чувство глубокого смущения; свекровь посмеивалась над ее страхами и не без гордости напоминала, что Николай Павлович – личный врач их семьи, что «нынче такое не многие могут себе позволить», что с личным врачом надо быть откровеннее, чем с мужем.
– Так что нас беспокоит? – Николай Павлович переставил стул поближе к кровати, щелкнул замками черного дипломата и достал стетоскоп; он знал эту семью пятнадцать лет, ее житейские перипетии беспокоили его ничуть не меньше, чем ее болезни, поскольку, если такие семьи разрушались, то, как правило, пропадали и как пациенты. Поэтому Николай Павлович беспокоился за судьбу Андрея и очень обрадовался, узнав, что тот выбрал в жены деревенскую девушку – это сулило крепкое здоровое потомство, да и по его наблюдениям, сельские девушки более верны в супружестве и привязаны к семье.
– Как вы думаете, почему это произошло? – приглашая к откровенному разговору, Николай Павлович мягко улыбнулся.
– Я и сама не все понимаю, – Люба растерянно пожала худыми, покатыми плечиками, – вы же – врач.
– Врач, но не ясновидец, – уточнил Николай Павлович.
Он долго и основательно прослушивал Любу стетоскопом, спрашивал: не болит ли низ живота? не тошнит ли? не пьет ли она на ночь снотворное?..
Андрей и мать сидели в сторонке, бледные, тревожные, и пытались по тому, как врач раздумчиво гмыкал, потирал руки, угадать: насколько все серьезно.
Он сложил стетоскоп в дипломат, посмотрел сначала на мать, потом на Андрея.
– Мне нужно помыть руки.
– Андрюша, проводи Николая Павловича.
Таисия Федоровна вопросительно посмотрела на Любу. Она опустила голову, а потом вовсе отвернулась к окну. «У них какие-то странные понятия о доброте, внимании. Не будь меня здесь, им было бы все равно, как я, что я?» – подумала Люба и тут же устыдилась своих мыслей, поскольку за те полтора года, что прожила с Андреем, ничего плохого ни от него, ни от его матери не видела. Вот и врач искренне хотел ей помочь, но Люба не могла справиться с чувством неприязни, возникшим еще тогда, при первом знакомстве. «Они все хотят только добра, а ты – неблагодарная, бесчувственная», – укоряла себя Люба, стараясь не смотреть на Таисию Федоровну, беспокойно наблюдавшую за ней.
Врач с завораживающей основательностью мыл руки.
– Молодой человек, только честно, вы хотели иметь ребенка или он получился, так сказать, случайно?
Андрей покраснел.
– Меня интересует это лишь потому, чтобы знать: какие меры принимались против него, – врач вытер руки белым вафельным полотенцем, и Андрей, глядя на них, невольно удивился: какие они мясистые и волосатые. Подумал, что у врача, наверное, должны быть чуткие, тонкие пальцы, как у пианиста, и тихо ответил:
– Ничего не делали.
– Но он же у вас не планировался, – с легкой иронией заметил Николай Павлович, – поймите, Андрей, что спрашивать об этом у вашей жены время крайне неподходящее. А установить причину истерики я должен. Знаете, случайно, вернее, сама по себе она не возникнет. Есть вполне конкретные причины. Поэтому в ваших же интересах быть откровенным. К тому же, смею вас заверить, что ничего нового вы мне не сообщите.
– Мы не думали о ребенке. А когда… то Люба наотрез отказалась что-то делать. Знаете, в ней очень многое сразу изменилось… – Андрей замялся, стараясь по лицу врача прочесть: понимает ли он его?
– Что изменилось?
– Она раньше полностью разделяла мои взгляды на жизнь. А тут как-то сразу обособилась, замкнулась. Может, все просто совпало с беременностью?
– Возможно. У женщин перед родами характеры меняются до неузнаваемости. Они в этот период быстро взрослеют, – с профессиональной наблюдательностью заметил врач, что-то вспомнил и улыбнулся, – я, конечно, не верю во всякую мистику, но недавно прочел у кого-то из древних, что женщины чувствуют то, о чем мужчины даже не догадываются. Такое, знаете ли, предположение, что женщины более тесно связаны с чем-то сверхъестественным. Хотя доля правды в этом есть. Мы, мужчины, видим рождение человека со стороны, а женщины чувствуют его изнутри. Нам этого, молодой человек, никогда не понять. А сейчас идемте к больной. Мы и так задержались в ванной больше, чем необходимо для мытья рук, это может вызвать ненужные подозрения. У вашей жены, видимо, психоз. Сказалось нервное напряжение. Возникли галлюцинации. Но почему она видела именно свой дом? Это можно объяснить только мистикой, – врач и Андрей прошли в комнату, – знаете, у некоторых женщин перед родами возникают навязчивые идеи. Вам нужно больше бывать на свежем воздухе, – сказал он уже Любе, – особенно перед сном. Не читайте грустных книг. Смотрите развлекательные передачи. К снотворному лучше не прибегать. И, главное, ничего не бойтесь. Роды – процесс естественный, и страхи тут излишни. – Врач захлопнул дипломат и, посмотрев на мать Андрея, успокаивающе добавил: – Беременность протекает нормально. Никакой патологии нет. И, как мне кажется, должен быть мальчик. А вы кого хотели? – повернулся он к Любе.
– Для меня главное, что ребенок будет м о й, – тихо ответила она.
– Вот и отлично, – он слегка поклонился.
– Извините, но почему ей виделся дом, березы, лестница? – уже в прихожей спросил у врача Андрей.
– Знаете ли, толковать галлюцинации не по моей части. Мне самому как-то приснился черт, только почему-то с одним рогом, – сдержанно усмехнулся Николай Павлович, – тут уж никакой связи с действительностью. А ваша жена ждет ребенка. Наверно, ей вспоминается детство. Впрочем, старайтесь верить только реально осязаемым вещам, иначе запутаетесь. Станете суеверным.
– Николай Павлович, я вас отвезу, – в прихожую вошла Таисия Федоровна, – извините, я как-то сразу не сообразила, что сейчас только утро. У меня в одиннадцать часов заседание ученого совета, – сказала она Андрею. – Будь умником. Погуляй с Любой, как советует Николай Павлович. Можешь не ходить сегодня в институт. Я позвоню вашему декану и все объясню.
Когда щелкнул запор входной двери, Андрей услышал тихий Любин голос:
– Андрюша!
– Я здесь, – он быстро вошел в комнату.
– Ты знаешь, мне хочется домой.
– Домой? Ты же дома.
– Мне хочется к маме, к отцу. Я целый год у них не была.
– Соскучилась? Так они же два месяца назад приезжали, – не понимая, что происходит в душе жены, встревожился Андрей.
– Андрюша, я вдруг почувствовала, что мне надо поехать туда.
– Зачем?
– Не знаю.
Андрей немного оторопел; подумал: не вызвать ли опять врача? Но лицо жены было спокойным, даже умиротворенным.
– Тебе, наверное, это кажется странным?
– Да как сказать…
– Скажи, как думаешь. Я никогда точно не знала: хочу в город или нет, а все время говорила: хочу. Так все говорили. Не хотелось выглядеть белой вороной. А потом возникла одна простенькая мысль: а что каждый из нас хочет? У нас с тобой будет ребенок, ты его хочешь?
– Я его жду.
– Не уходи от ответа.
– Я уже много раз говорил тебе: хочу.
– Зачем он тебе?
– Ну, наверное, во мне говорит инстинкт продолжения рода.
– А что ты сам, Андрюша, скажешь?
– Люба, я не философ.
– Наверное, тебе это покажется глупостью, но ведь это – поступок, а поступки совершаются во имя чего-то.
– Конечно, если по крупному счету, то все мы живем бездарно и безответственно.
– Вот видишь, значит, ты меня поймешь. Я должна поехать домой.
– Люба, милая, разве я против? Но тебе же два месяца осталось… – Андрей сделал многозначительную паузу и умоляюще посмотрел на жену. На ее лице не возникло ни малейшего беспокойства, словно Люба не слышала его слов. – Может, дать им телеграмму? Им же проще приехать.
– Мне нужно быть там, Андрюша. Я похожу по тем местам, где бегала маленькой. Понимаешь, это е м у нужно.
– Откуда ты это взяла?
– Знаю, – твердо сказала Люба.
Андрею вспомнился разговор с врачом о капризах, навязчивых идеях, возникающих во время беременности, и он постарался все обратить в шутку:
– Любаня, я читал в каком-то журнале, что тебе надо больше ходить по музеям, посещать концерты классической музыки. Он еще там уже приобщится к искусству.
– Перестань паясничать! – резко вспылила Люба.
Днем она оставалась одна, подкатывала коричневое кресло с высокой спинкой к окну, садилась в него и закрывала глаза; в памяти возникали картины детства, такие, казалось, забытые, но Люба отчетливо видела и деревенскую улицу, и пыльную дорогу с обочинами, заросшими крапивой и лопухами, и тихий пруд; ей приснилось, будто идет она босиком по берегу пруда; трава колола, резала подошвы ног; Люба то и дело замирала, не зная, куда ступить.
– Дочка, ты чья?
Люба оглянулась. Неподалеку от ивы с причудливо изогнутым стволом стояла старушка в белом платке и черном, до самой земли сарафане; солнце светило из-за ивы, и Люба не могла рассмотреть лица старушки.
– Заварзина, – тихо ответила Люба.
– Родственница им?
– Дочь.
– Не похожа. Я тебя за чужую приняла… Сына ждешь?
– Да.
– Чей он будет?
– Мой.
– Как же он твоим будет, если ты сама себе чужая?..
Потом опять снилась какая-то чепуха: Люба сдавала экзамены, каталась на велосипеде, о чем-то спорила с мужем; у него было растерянное, беспомощное лицо; потом опять увидела родной дом… Проснулась и долго не могла понять, где находится, – в ней еще жили звуки, запахи деревенской избы, и плюшевые кресла, инкрустированный журнальный столик, сверкающий хрусталь в серванте воспринимались как нечто нереальное, пришедшее из иного, незнакомого ей мира; а когда Люба пришла в себя, ее охватил суеверный страх, что она преступно медлит с отъездом и за это будет наказана.
Ни уговоры свекрови, ни мужа не помогли. Люба с непонятной им исступленностью настаивала на своем. Пригласили врача, и он тактично объяснил, что дороги, особенно сельские, тряские, а седьмой месяц беременности очень опасный, могут быть преждевременные роды.
– Я все равно поеду, – сказала Люба.
– Мне, конечно, импонирует ваша смелость, – Николай Павлович озадаченно потер руки, с беспомощной улыбкой посмотрел на мать Андрея, словно хотел сказать, что арсеналы его уговоров истощились, и жестко заметил: – Вам, Люба, наверное, уже говорили в консультации, что у вас могут быть сложные роды из-за узкого таза. Здесь, в городе, вы в полной безопасности. А там, на вашей родине, хорошо, если есть поблизости фельдшер.
– От нашей деревни до больницы всего пять километров.
– Целых пять километров! – Николай Павлович многозначительно поднял указательный палец, но Люба не дала ему договорить и спросила:
– А почему вы уверены, что у меня будут преждевременные роды?
– Я этого не говорил, но, знаете ли, в дорогу вам пускаться, тем более в такую, не советую. Вы подумайте не только о своем, так сказать, желании, а о судьбе ребенка.
– Да я только о нем и думаю.
– Странно, – Николай Павлович озадаченно побарабанил пальцами по черной крышке дипломата и уточнил: – Странная причуда.
Андрей вызвался проводить Николая Павловича. Тот шел, мерно помахивая дипломатом. «Любопытно, что привнесет нового в эту семью Люба? И угораздило же его, – он насмешливо посмотрел на спутника, – сделать такой выбор. Ему нужна в меру пышная, покладистая самочка, поскольку остальная его жизнь уже запрограммирована до самой смерти. Отец и мать выведут в люди. Подтянут до своего уровня, а то и выше подкинут. Ему больше ничего и не надо, да и на что он способен?» Николай Павлович на всех своих пациентов, принадлежавших, по его словам, к «околонаучному почтируководящему кругу», смотрел с легким презрением; сам он прошел по всем ступенькам жизненной лестницы; школа, завод, институт, полуголодное существование на стипендию и случайные заработки – колол дрова, помогал разгружать вагоны; Николай Павлович, в отличие от многих его коллег, и теперь, когда уже имел устойчивую репутацию первоклассного врача-практика, много времени проводил в библиотеке, читал немецкие и английские журналы и потому был в курсе всех медицинских новинок.
– Николай Павлович, у Любы, наверное, опять психоз? – робко предположил Андрей; его тяготило молчание.
– Нет, молодой человек, – весело ответил врач, – сегодня мне показалось, что я немного понял ее. Да-да, я с упорством глупца убеждал ее отправиться в кругосветное путешествие, чтобы посмотреть мир, а она отказывалась, утверждая, что мир можно познать, не выходя за порог квартиры.
– Знаете, она принадлежит к тому роду женщин, которые любят «сложничать».
– Я бы не сказал. Она живет больше чувством. И лишь иногда, я подчеркиваю, иногда ей удается что-то сформулировать. Кстати, это типично женская черта. Мужчины любят сразу выдавать тезисы. Люба переживает за свое человеческое «я». Да-да, молодой человек, не улыбайтесь. У нее это происходит наивно, нелепо, но происходит. Для вас, наверное, в чистом виде такой проблемы не существует?
– Она существует для каждого.
– Теоретически. В свое время так называемая «деревенская проза» воспела цельность натуры сельского человека. Противопоставила его городскому житию, в котором, по их мнению, происходит обезличивание. Но только вопрос, на мой взгляд, стоит глобальнее. И все эти розовые слюни о здоровом образе жизни при нездоровой-то жизни, так бы я сказал, только развращают и уводят от проблемы.
– Я вас не совсем понимаю.
– Я – врач. Как на блюдечке, все подать не могу. Просто поделился настроениями. И Любу я, как человек, понимаю. Принимаю. А как врач, я должен говорить ей обратное, поскольку тут есть реальная конкретная опасность. А ее страхи… В общем, молодой человек, постарайтесь ее понять. Вам с ней жить. У вас будут дети.
– Знаете, Николай Павлович, уж я вам откровенно. В нашей семье от вас секретов нет. Я до сих пор не чувствую себя ни взрослым, ни женатым. А тут еще – ребенок. И все это происходит независимо от меня. Почти без моего личного участия. Раз так нужно, поднимаюсь на какую-то ступеньку, и все. А ведь должно же во мне что-то перестраиваться?
– Несомненно. Наверное, мы все подвержены этой болезни. Я вот в ситуации с вашей женой чувствую себя больше врачом, чем человеком. Он довлеет надо мной и во всей жизни. И я ловлю себя на ощущении, что так даже удобнее и выгоднее жить. Многие проблемы отпадают. Вот и сейчас я думаю: вправе ли ваша жена подвергать опасности жизнь ребенка ради каких-то высоких целей, которые к тому же могут быть не достигнуты? Да, скорей всего, так и будет, – время не то. Вы уж поговорите с ней.
Андрей и его мать всячески оттягивали день отъезда. Таисия Федоровна, заведовавшая крупной отраслевой лабораторией, сокрушалась, что у них, как назло, все легковые машины на ремонте, а отправить Любу рейсовым автобусом – рискованно.
– Да и куда спешить? – говорила она, – неделей раньше, неделей позже – какая разница?
Пытаясь отвлечь жену, Андрей каждый день покупал ей то забавные безделушки, то билеты на концерт; Люба равнодушно принимала подарки, а от билетов отказывалась. Она стала замкнутой, целыми днями сидела у окна и смотрела на улицу.
Андрей прибегал из института возбужденный, озабоченный; при виде жены стихал и, хотя уже надвигалась пора весенней сессии, откладывал в сторону конспекты и часами уговаривал Любу «прогуляться до парка». На улице она не оживлялась, так же равнодушно смотрела перед собой, не замечала ни звякающей о тротуар ранней капели, ни взъерошенных, повеселевших к весне воробьев, ни экстравагантных городских модниц.
Андрей терялся в догадках: чего же ей не хватает? В отличие от многих молодых семей, вступавших в жизнь, у него с Любой было все: отдельная двухкомнатная квартира (получить ее помог отец, работавший в строительном тресте), цветной телевизор и хорошая стереоустановка (их подарила мать), о деньгах они тоже не беспокоились; даже если бы Андрею не помогал отец, уже семь лет живший с другой семьей, а Любе – родители, зарплаты Таисии Федоровны вполне хватило бы.
– Зачем же уезжать отсюда, где все под боком: отличная больница, прекрасные врачи? – недоумевал Андрей.
– Я все понимаю, – тихо говорила Люба, – только ведь это еще не все. Человека можно и под стеклянным колпаком вырастить. Может, он там и целее и здоровее будет, но я от одной этой мысли прихожу в ужас. Исчезнут понятия матери, отца и Родины – тоже. Я, наверное, все в кучу свалила, сумбурно говорю. Только нынче многие, как мне кажется, живут под колпаком. Им все равно, где жить. Был бы набор необходимых жизненных благ – большего им не нужно.







