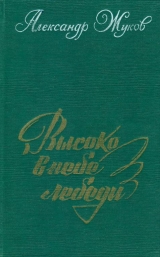
Текст книги "Высоко в небе лебеди"
Автор книги: Александр Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
– Конечно, по большому счету все так и есть, – соглашался Андрей. – Только ведь у каждого – свой потолок. У одного он – метр, у другого – сто метров.
– Нет, Андрюша, если с в о й, то уже высокий.
– Ты, Любаня, стала идеалисткой. В жизни все иначе. Я вот расту, и у меня ни к матери, ни к отцу никаких особых претензий нет. Оба они достигли некоторых высот. Довольны собой. Да неужели у тебя есть какие-то претензии к родителям?
– Нет. Они прошли войну и все прочее. Свое слово, как могли, сказали. А мы – непроверенные. И вот я, еще никак себя не осознавшая, буду растить другого человека, учить его жить. А я сама – слепой котенок.
– Глупая, все так живут.
– Ты не понимаешь, о чем я говорю. Наверное, для тебя э т о г о пока не существует. Пожалуйста, позвони Таисии Федоровне, может, у них отремонтировали хоть одну машину.
Андрей звонил матери и, как мог, разыгрывал огорчение; предлагал ей попросить машину в соседней лаборатории, но выяснялось, что Таисия Федоровна с ее руководителем «не контачит»; Андрей сокрушался и громко, так, чтобы слышала жена, по нескольку раз переспрашивал:
– Значит, через три дня? Через три? Обещали сделать твою черную «Волгу»?
Люба с надеждой и недоверием смотрела на мужа; в последние дни у нее возникло чувство неприязни к нему; суетливость Андрея, его институтские заботы (других для него не существовало) раздражали; в нем она начинала видеть своего сына, которого не смогла ничему научить, и холодела при одной только мысли, что он ей – противен. «Да зачем же так? Да что же будет?» – Люба мучительно переживала состояние полуравновесия.
Таисия Федоровна, уговаривая невестку, раздражалась, краснела, ловя себя на ощущении, что стоит уступить Любе, как все пойдет своим чередом, но тогда она, Таисия Федоровна, утратит роль могущественной покровительницы. Андрей не вмешивался в разговоры матери и жены; он чувствовал себя лишним и потерянным; его удивляло одно: властная Таисия Федоровна никак не могла повлиять на Любу; и он робел от простой и глупой мысли: как же он будет жить дальше, если жена его не слушается; Андрей знал, что главным в семье должен быть он, мужчина, хотя особых побуждений к этому не испытывал; да и, вообще, все эти мысли, ощущения были для него новы, непривычны, он как-то обмолвился об этом жене. Люба улыбнулась:
– Я очень рада, Андрюша, что в тебе что-то всколыхнулось.
– Да, но тогда мне надо отказаться от всего, что имею..
– А что ты имеешь? Вещи, квартиру… Завтра случится пожар – и ничего не останется. Вещи всегда ничьи. Знаешь, Андрюша, одна старушка во сне назвала меня н и ч ь е й. Это по-настоящему страшно…
Врач как-то обмолвился, что перед самыми родами женщины становятся особенно пугливы, недоверчивы. «В них пробуждается Материнство, и потому им, как никому другому, становятся понятны и близки идеи устройства и переустройства мира», – несколько высокопарно заключил Николай Павлович и тут же пошутил: «Хотя у отдельных особей это выражается в крайнем властолюбии и агрессивности».
Андрей и его мать тешили себя надеждой, что вот-вот в настроении Любы наступит перелом, и ее причуду поехать домой вытеснит беспокойство за судьбу ребенка.
В субботу Андрей пришел из института особенно радостный; тему для курсового проекта ему дали пустяковую, он успел переговорить с матерью, и та обещала достать две путевки в пригородный дом отдыха. «Лес, речка, тишина. Чем не деревня?!» – Андрей против обыкновения не притворил дверь, опасаясь разбудить Любу, которая часто спала в обед, а громко щелкнул замком; ему не терпелось обрадовать жену.
– Любаня! – крикнул он еще из прихожей.
Никто не отозвался.
«Крепко уснула», – весело подумал он, вошел в комнату и сначала ничего не понял – кровать была аккуратно застелена, Любин халат висел на спинке стула.
«Гулять пошла?» – еще сам не зная почему, встревожился Андрей; бессмысленно заметался по комнате, выглянул в окно – садик перед домом пустовал. «Она же никуда в последние дни не ходила. Может, кризис миновал?» – Андрей кинулся к гардеробу и уже когда распахивал дверцу, чтобы посмотреть, на месте ли вещи жены, увидел на столе клочок бумаги. На нем были написаны всего четыре слова:
«Я больше не могу ждать».
Андрей схватил телефонную трубку; в трудных жизненных ситуациях он, не раздумывая, звонил Таисии Федоровне, и она всегда приходила ему на помощь. И на этот раз мать сказала: «Сейчас заеду. Может, она еще на автовокзале».
Когда машина останавливалась перед красным светом на перекрестке, Андрей весь сжимался, и секунды казались вечностью.
– Вы не поругались? – спросила мать.
Андрей посмотрел на шофера, словно хотел этим сказать: говорить о личном при посторонних людях неудобно, но Таисия Федоровна не заметила его стыдливости; для нее эти тонкости уже не существовали; вся ее жизнь проходила на глазах у чужих людей.
– Почему молчишь? Если виноват, так и скажи. Я хоть буду знать: с какого конца начинать разговор, – усмехнулась Таисия Федоровна. Причуда невестки ее раздражала, но еще больше ее раздражало то, что ей, человеку с солидным положением, приходилось подстраиваться под девчонку, приходилось лгать ей, сознавая, что та уже не верит и, может, даже презирает ее.
– Да нет, все было нормально.
– То, что ненормально с самого начала, не может быть нормальным в будущем.
– Мама! – умоляюще сказал Андрей.
– Когда несамостоятельные люди пытаются строить семью, кроме муки для себя и для окружающих, они ничего не создадут.
– Мама, мне сейчас не до этого!
– Об этом тоже надо было думать раньше.
«При постороннем человеке… как базарные торговки!» – Андрей посмотрел в могучий затылок шофера и успокоил себя: «Этот ничего не поймет»; стараясь казаться меньше, он втиснулся в мягкое кожаное сиденье машины и тут же устыдился того, что, может, сейчас Люба едет в тряском душном автобусе, которые ходили через ее деревню, а он с матерью выясняет отношения и совсем забыл про жену. «Ну почему в жизни все так? Почему мы, в общем-то неглупые люди, никому не желающие зла, так унижаем себя и все по мелочам, по мелочам. И сами себе уже противны». Машину слегка качнуло, и Андрей увидел в окно желтое приземистое здание маленького автовокзальчика, притулившегося к стене городского базара; отсюда автобусы шли всего лишь по нескольким маршрутам.
Еще машина не остановилась, Андрей распахнул дверь и выскочил на асфальт.
– Андрюша, разве так можно! – укоризненно крикнула ему вслед Таисия Федоровна.
– Молодые еще, горячие, – подытоживая то, что слышал и видел, хмуро заметил шофер.
Андрей вбежал в темное здание автовокзальчика. На дощатом диване дремали две старушки в черных платках, у их ног стояли объемистые рюкзаки.
«Уехала? Расписание, где расписание?» – он шагнул к желтому, заляпанному чьими-то грязными пальцами листку, приколотому кнопками над полукруглым фанерным окошечком кассы, и не сразу нашел нужный рейс, хотя их всего было четыре. Первый автобус уходил, в половине восьмого. В это время Люба была еще дома, второй автобус шел в четыре часа. «С ним она уехать не могла», – Андрей беспомощно осмотрелся.
– Припоздал, что ли? – спросила его одна из старушек.
– Нет, я не еду, – торопливо ответил Андрей.
– А кто едет? – с простодушной прямотой поинтересовалась вторая старушка.
– Пока еще никто, – Андрей выскочил на улицу.
Мать приоткрыла дверцу машины.
– Она там?
– Нет.
– Где же она?
– Не знаю. Автобус идет через полчаса.
– Может, передумала?
– Нет, мама, ты не знаешь Любу. Раз она решила, то…
– Я уже слышала, – Таисия Федоровна резко перебила сына, – вернее, я постоянно слышу, что она… Впрочем, я сейчас думаю не о ней, а о ребенке. И делаю все только для него. Надеюсь, ты это понимаешь?
– Да.
– Ну, так что же ты стоишь?
– А что делать?
– Господи, ну до чего же вы все беспомощные, а еще чего-то мните о себе! – Таисия Федоровна скрылась в дверях вокзала; когда она вышла, то по ее расслабленному лицу Андрей понял: мать что-то знает.
– До Ивантеевки едут всего две бабушки и еще одна девушка, – мать выдержала паузу, – в положении, как сказала мне кассирша. Она у нее поинтересовалась: не будет ли ее тошнить, а то часть дороги ремонтируют, и автобус сильно трясет. А на четырехчасовом все едут с работы, и по дороге он набивается полный. Но она все равно взяла билет. Значит, если решила ехать, то придет. Ждем до четырех часов.
Таисия Федоровна села в машину. Андрей прошелся по маленькой привокзальной площади, присел на красный пожарный ящик с песком. «Лучше бы сразу выполнить это ее желание. Пожила бы недельку и вернулась. Бывает же у человека такая причуда, страсть. Удовлетворит ее, и все идет, как прежде. Об этом, кажется, у Фрейда говорится. Тогда, две недели назад, все было бы гораздо проще и безопаснее. Да, безопаснее», – Андрей посмотрел на вокзал, который был такой же маленький и невидный, как и деревни, в которые ходили от него автобусы. С правого бока, где, наверное, располагался буфет, возвышалась пирамида ящиков; на одном из них кто-то сидел, в очертаниях фигуры Андрей уловил что-то знакомое и побежал к вокзалу.
Люба сидела на ящике из-под ситро и медленно, погруженная в свои мысли, жевала пирожок с повидлом; Андрей остановился шагах в пяти – он не узнал ее лица, как-то разом постаревшего, чужого; он чувствовал себя на этом вокзале посторонним, а Люба, и он это тоже сразу понял, была своей; он не сумел бы так вот легко и естественно пристроиться на ящике и покорно ждать автобус, и Андрей вспомнил, что Люба три года каждую субботу уезжала с этого вокзальчика домой, в Ивантеевку, и старое здание с облупившимися стенами было для нее началом дороги домой.
– Люба, – опасаясь, как бы не напугать жену столь внезапным появлением, тихо позвал Андрей.
– Я тебя давно увидела, когда ты на пожарный ящик сел, – она смотрела не на него, а на его ботинки, – зачем ты пришел?
– Любаня!
– А что мне оставалось делать? – грустно спросила она и опустила руку с пирожком.
Андрей обернулся – поодаль стояла Таисия Федоровна. Спокойная, собранная, она подошла ближе.
– Люба, мы отвезем вас на машине.
– У меня уже есть билет, – Люба достала из кармана плаща розоватую бумажку и выставила ее перед собой, словно пыталась ею защититься.
– Садитесь в машину, – властно сказала Таисия Федоровна.
Люба подчинилась. Ехали молча. Даже шоферу это показалось странным, он несколько раз смотрел то на свою начальницу, ожидая, что она что-нибудь скажет, то на Андрея, но тот отворачивался к окну. Люба сначала безучастно глядела перед собой и, лишь когда машина запрыгала на разбитом тракторами проселке, припала к стеклу и, ни к кому не обращаясь, сказала:
– Налево, вон по той стежке, я ходила в школу.
– Она сохранилась? – обрадовавшись, что Люба наконец-то заговорила, спросил Андрей.
– Ее в прошлом году закрыли. Теперь построили новую на центральной усадьбе. Но я обязательно схожу в старую.
Андрей в продолговатом зеркальце, висевшем на лобовом стекле, увидел, как мать недовольно поморщилась; Андрей тоже понял желание Любы сходить в старую школу, как проявление легкомысленности, но не стал возражать жене; он уже боялся сказать ей что-нибудь против.
– Может, мы сейчас заедем в вашу старую школу? – сухо спросила Таисия Федоровна.
– Нет-нет! – с легким испугом отказалась Люба, – я сама.
– Да какой же смысл в вашем положении тащиться в такую даль! – не выдержала Таисия Федоровна, – я понимаю: детство, воспоминания. Но ведь должно же быть и благоразумие, и чувство ответственности, в конце концов!
– Это как раз от этого чувства и идет, – тихо возразила Люба.
– Конечно, красиво, но… – Таисия Федоровна не договорила, потерла пальцами виски, собираясь с мыслями, и сказала сыну: – Ты останешься здесь.
– Зачем? – вмешалась Люба, – он поедет домой. У него курсовая на носу.
– Да, конечно, – таким тоном обронила Таисия Федоровна, что Люба поняла: не хватало, чтобы из-за твоей причуды Андрей бросил институт.
– Мама! – умоляюще вставил Андрей.
– Андрей, не надо, – торопливо успокоила Люба, – Таисия Федоровна, как и каждый человек, имеет право на свое мнение.
Все это было сказано с такой беспощадной иронией, что Андрей даже привстал, словно ожидал, что женщины вот-вот вцепятся друг в друга. «Скорей бы уж приехать!» – он смотрел то на мать, которая окаменело глядела в лобовое стекло машины, то на жену, которая как-то по-девчоночьи морщила носик; в ее лице появилось оживление, щеки слегка зарумянились.
Люба вспомнила веранду с побитыми стеклами, с шуршащими листьями на полу; какой-то плотник-чудак пристроил ее к первому этажу школы, просторную, светлую, но применения ей так и не нашли; иногда на веранде проводили уроки физкультуры с первоклассниками да на время ремонта сюда выносили из классов парты и складывали их пирамидами; по приказу директора даже дверь из школы на веранду была забита наглухо; но именно тут, на веранде, совершались первые признания в любви, выяснялись отношения; перед выпускным вечером Люба до утра простояла здесь с Толей Сныковым, неловким, даже к десятому классу так и не поборовшим в себе смущения перед девочками; Люба тогда собиралась в город, в политехнический институт, а Толя хотел «испытать себя» и уговаривал ее поехать с какой-нибудь геологической партией.
– Знаешь, институт не убежит, – немного заикаясь от волнения, говорил он.
– Тебе хорошо рассуждать. У тебя – золотая медаль.
– Медаль – ерунда. Главное – желание.
– А у меня и оно – размытое. Приблизительное.
– Но почему! – загорячился Толя. – Ты же хочешь стать строителем. А у нас в деревне эта профессия позарез нужна. У нас же все кое-как планируется. В газетах пишут, что в селе уже начинают строить многоэтажные дома с газом, горячей водой. Да тебя тут на руках носить будут!
– А как же ты?.. – Люба особых чувств к Толе не питала; знала, что он в нее влюблен, но все же ей сделалось грустно. Толя уедет надолго и уже не будет рядом человека, на которого можно положиться во всем.
Каждый раз, когда Люба приезжала в деревню, подруги рассказывали о Толе. Он, единственный из выпускников, присылал письма в школу; учительница географии вслух читала их ученикам. Толя полгода работал в экспедиции на Кольском полуострове, потом судьба забросила его в Среднюю Азию, и в школьном музее рядом с сероватым камнем, словно бы вобравшим в себя северный холод, лежал осколок восточной мозаики; Толя как будто и не уезжал, – о нем постоянно говорили и в школе, и в деревне; в прошлом году он поступил в геологический институт.
«Может, Толя тогда голубем прилетал?» – подумалось Любе. Она посмотрела на мужа и залилась румянцем.
– Люба, почему этот дом до сих пор пустует? – спросила Таисия Федоровна.
Неподалеку от дороги стоял трехэтажный блочный дом; стекла в окнах были выбиты, и дом казался диким, заброшенным, и потому новая изгородь палисадника вокруг него выглядела нелепо, неестественно.
– В нем жить никто не хочет.
– Неужели изба безо всяких удобств лучше?
– Наверное, людей она больше устраивает.
– Вот видишь, насколько здесь низка культура. А ты собираешься стать сельским строителем, – укоризненно заметила Таисия Федоровна.
– Я уже не собираюсь.
– А как же институт?
– Не знаю.
– Час от часу не легче!
– Мама, – подал голос Андрей, – не надо затевать этот разговор.
– Хорошо. Не сегодня-завтра он сам возникнет. Впрочем, Люба, если у тебя есть желание перевестись на другой факультет, я этому буду только рада и помогу.
– У меня нет такого желания.
– Ничего не понимаю. Какой-то ералаш… – Таисия Федоровна сдержала приступ раздражения.
У Любы с этим домом было связано много надежд: по ее просьбе родители в каждом письме подробно описывали, как идут дела на стройке; дом рос из рук вон плохо: не хватало материалов, рабочих то и дело перебрасывали на строительство откормочного комплекса. Люба с первых же дней учебы записалась в студенческий клуб «Поиск» и увлеченно рисовала на белых листах ватмана целые поселки с театрами, огромными магазинами, планетариями, купола которых хорошо вписывались в сельский ландшафт. Руководитель секции архитекторов, пожилой доцент с мрачной фамилией Угрюмов долго рассматривал Любины эскизы для выставки, а потом бросил их на стол.
– С отличием защитите диплом. Это я вам гарантирую. У вас есть и вкус, и чутье.
– А чего же нет?
– Знаете, я уже много лет работаю в институте. Когда-то на первом курсе студенты из села рисовали поселки из сказочных теремов, украшенных затейливой резьбой. Над ними посмеивались и к диплому они уже рисовали стандартные коробки. А теперь теремов никто не рисует. Вот и вы планируете поселок так, как бы это сделал я – типично городской житель, незнакомый ни с сельским укладом жизни, ни с психологией крестьянина. Да, по правде говоря, и городские студенты планируют свои «города», ориентируясь на какого-то абстрактного жителя, для которого жилище – место для ночлега. И во всей этой «архитектуре» не отражаются ни традиционные поиски смысла жизни, ни поклонение красоте… Но я все-таки жду. Хотя, как уже не без иронии говорю себе, вы, маэстро, пребываете в состоянии грустного, затянувшегося ожидания. Вы уж извините, что нагнал на вас такую тоску. Пожилым людям простительно брюзжание. Это – чисто старческий симптом. Вы в своей работе старайтесь идти не от того, что знаете, а от сердца. Может, поначалу нелепо получится, смешно. Но, как говорили древние, больше доверяйтесь сердцу, ум – только инструмент. И, ради бога, не принимайте все на свой счет. Мы в последнее время перестали говорить о цели Бытия, о прочих высших материях, определяющих человеческую сущность. Отсюда – и заниженные нравственные критерии, и пьянство… Естественно, это сказывается в архитектуре. Вот видите, я прочел вам целую сердитую лекцию.
– Мне было очень интересно. Я уже над многим и раньше думала, но, честно говоря, до сих пор теряюсь и не знаю: с чего начать? – призналась Люба.
– Я всю жизнь провел в каких-то бесплодных метаниях, пока сердцем не познал те прописные истины, о которых уже говорил. Теперь вот тешу себя надеждой, что на своем горьком опыте научу других, – преподаватель замолчал, погрузившись в воспоминания.
Люба прошла к своему кульману, прикнопила белый лист ватмана; несмотря на все сомнения, тревоги, будущее представлялось ей очень романтично: она строит в селе маленькие города, а ее муж пойдет по стопам матери – будет работать в области органической химии; теперь же этот прочный фундамент дал трещину.
– Прибыли, – холодно сообщила Таисия Федоровна и некоторое время все еще сидела неподвижно; казалось, она сейчас скажет шоферу: «Поехали обратно», и тогда… Андрей не знал, что произойдет «тогда»; он уже измучился от всяческих предчувствий и сейчас искренне желал одного, чтобы все это как-то кончилось, тогда можно будет осмотреться, подвести какие-то итоги, а так все было неопределенно, неустойчиво, и надо было постоянно думать над тем: как себя вести?
Люба сидела с закрытыми глазами; веки ее слегка дрожали. Андрей не понимал, что с ней происходит; шофер открыл было дверцу, но не решился выйти первым, достал из-за сиденья синюю байковую тряпку и стал основательно протирать руль, как это делают водители междугородных экспрессов перед ответственными рейсами…
Коричневатая, растрескавшаяся от жары и дождей дверь отворилась; из нее осторожно выглянуло округлое, с неестественно яркой краснотой на щеках лицо Любиной матери; она тревожно всматривалась в окна машины, надеясь сразу, по каким-то еще и самой неведомым знакам понять причину столь внезапного приезда; увидела дочь и, всплеснув руками, сбежала по мелким ступенькам крыльца; остановилась перед машиной, хотела отворить дверцу, но вспомнила, что не знает, как это делается, и так и осталась стоять с полупротянутой рукой, жалкая, неловкая, уже готовая расплакаться.
– Здравствуйте, – Таисия Федоровна вышла из машины, – вот и мы.
Они обнялись. Мать Любы поспешно отстранилась и снова с тревогой посмотрела на дочь; за стеклом машины она казалась какой-то далекой, чужой; глаза ее по-прежнему были закрыты – это пугало больше всего.
– Дети, как видите, живы-здоровы. Приехали в гости! – с натянутой бодростью сказала Таисия Федоровна. – А как вы живете?
– Мы? Да что мы, у нас все как всегда, – Антонина Васильевна повернулась к окну; Таисия Федоровна и Андрей увидели, как к стеклу с такой силой прижался отец Любы, что у него сплющился нос. – Выходи, отец, выходи, чего ты там сидишь! – сердито прикрикнула Антонина Васильевна, – всю жизнь за женину спину прячешься.
Люба открыла глаза, посмотрела сначала на крыльцо, потом на мать, улыбнулась ей и, от волнения забыв, как открывается дверца «Волги», несколько раз беспомощно толкнула ее рукой; на помощь пришла Таисия Федоровна. Люба тяжеловато вылезла из машины, округлая, с ввалившимися глазами. Ее мать раскрыла руки для объятий, натолкнулась на выпирающий живот дочери и неумело погладила ее по плечу.
– Здравствуй, доченька. Проведать приехала, соскучилась, дитятко? А мы с отцом разболелись тут, – она повернулась к крыльцу и опять прикрикнула на мужа, появившегося в двери, – и чего ты не ко времени расхворался. Дочка эвон какую даль из-за тебя тащилась!
– Да я что, я ведь… – опираясь на суковатую палку, тот потянулся свободной рукой к перильцам.
– Здравствуйте, Иван Алексеевич! – мать Андрея предусмотрительно протянула руку свату, и тот, опираясь на нее, спустился по ступенькам.
– Любонька, дочка, чего ж так…
– Приехала – радоваться должен! – сердито одернула Антонина Васильевна; она уже поняла: что-то случилось, и хотя мучилась незнанием, но, следуя мудрой пословице, всему свой черед, не торопила события.
– Да я рад, как же я не рад! – с испугом, что может омрачить приезд дочери неосторожным словом или жестом, воскликнул Иван Алексеевич, еще пристальнее осматривая дочь из-под набухших морщинистых век.
– Поживу у вас, – Люба хотела с улыбкой сказать: «соскучилась», но это обидело бы Таисию Федоровну; с той минуты, как она увидела окна родного дома, а в них лицо отца, то замерла в сладком полуиспуге; закрыла глаза и держала эту картину в памяти до тех пор, пока не услышала разговор Таисии Федоровны с матерью; теперь, когда поездка закончилась столь благополучно, Люба все еще не могла выйти из состояния оцепенения. Она улыбалась, шутила, но делала все как-то неестественно, чем еще больше пугала мать и отца, и повергала в смятение Таисию Федоровну, которая чувствовала на себе тревожные взгляды сватьи и свата – в них проскакивала укоризна, и болезненно переживала свое двусмысленное положение. Андрей наблюдал за всем со стороны и был рад тому, что про него забыли. Иван Алексеевич мимоходом похлопал зятя по плечу, спросил, как учеба, и снова повернулся к дочери.
– Да что же мы на улице-то стоим, – спохватилась Антонина Васильевна.
Андрей вошел в избу последним. Он несколько раз бывал здесь; в избе ничего не изменилось, как не менялось, наверное, уже годы; у печки стоял сундук, служивший Антонине Васильевне одновременно и лежанкой, в красном углу, под простенькой иконой, украшенной бумажными цветами, висели грамоты Ивана Алексеевича, уже выцветшие, но внушавшие уважение крупными круглыми печатями и витиеватыми подписями; вдоль передней стены стояла массивная лавка, немного вытершаяся у окна, потому что здесь любил сидеть хозяин дома.
– Садись, сватьюшка, отдохни с дороги-то, – мать Любы, обычно робевшая перед Таисией Федоровной, в избе осмелела; она нырнула на кухню, вынесла кринку. – Может, молочка обедешного попьете?
Андрей отказался.
– Тогда шофера угостим. Чего он там, на улице-то остался? – Антонина Васильевна распахнула окно и позвала шофера в дом; тот долго отказывался. Снисходительно улыбнувшись, Таисия Федоровна подошла к окну и негромко сказала:
– Зайдите. Вас же приглашают.
Андрей видел, как сразу сник этот крупный, солидный мужчина; стесняясь, он поспешно пил молоко, и по его замкнутому лицу было не понять: нравится оно или нет; его скованность заметила Люба, подсела к столу и, к неудовольствию свекрови, стала расспрашивать о работе, об институте. Шофер отвечал односложно, без хлеба допил молоко и, облегченно вздохнув, вышел на улицу, сославшись на то, что ему захотелось после молока покурить; с ним увязался отец Любы.
– Как я давно тут не была, – когда изба наполовину опустела, Люба прошлась из угла в угол и остановилась перед Андреем, – тебе нравится здесь?
– Да, тихо, и воздух тоже… – опешил тот от столь прямого и откровенного вопроса.
– Я тут жила и, наверное, еще живу.
– А как же! – подхватила мать, – хоть ты и городская, а мы тебя все одно своей считаем. Кровать твоя на месте. Да-да, – повернулась она к сватье, – я на своем сундучке сплю, а отец – на диване. На Любушкиной кровати я каждые две недели наволочки и покрывало меняю. Вечером скажу отцу: «Надо у Любушки утрось белье сменить…»
– Не надо, мама, не надо, а то я расплачусь, – прошептала Люба.
– Чего ж тут плакать? Я все, как есть, рассказываю, – Антонина Васильевна легонько прижала дочь к себе и подтолкнула к двери, – нечего тебе в доме торчать. Иди воздухом дыши. В городе такого нету. Да и мужа с собой бери, а то он у тебя весь худой и бледный. А мы со сватьей стол сообразим.
Андрей к Люба вышли на крыльцо. Иван Алексеевич беседовал с шофером, как и водится у русских людей, о мировых проблемах, о политике, о том, как жили десять лет назад и как сейчас живут люди на земле… Люба взяла мужа за рукав и потянула к огороду; на ощупь подцепила щеколду и отворила дверцу. Над грядками висело на шесте истрепанное полинявшее пугало в дырявой соломенной шляпе.
– Знаешь, а я в детстве пугала боялась, – весело сказала Люба.
Андрей не заметил, когда же произошла в жене та перемена настроения, которую он всяческими путями пытался вызвать в городе; лицо Любы было по-прежнему утомленным, осунувшимся, но голос уже был иным, да и в движениях появилась живость.
– Знаешь, даже в четвертом классе, когда я это пугало наряжала вместе с мамой, все равно его потом боялась. А тебя чем пугали маленького?
– Милиционером, – ответил Андрей и смутился, вспомнив себя маленького; родители хотели видеть его чистым и аккуратным, а он постоянно ходил чумазым и растрепанным; он иногда искренне хотел сделать матери приятное и прийти с улицы чистым, но у него ничего не получалось.
– А вот у того пня росла чайная роза, – тихо сказала Люба, показывая в сторону пня, с одной стороны которого притулился муравейник, – она погибла от морозов. Когда я была маленькой, то если долго сидела возле розы, меня начинало клонить в сон.
Андрей в какое-то мгновение понял, что жена говорит не ему, а себе. Он отстал, а Люба шла вдоль изгороди и что-то рассказывала, рассказывала. Андрей сначала с тревогой смотрел ей в спину, а потом успокоился; осмотрелся: в огороде только грядка с луком напомнила ему о том, как он после свадьбы приехал сюда и, хватив лишку, побежал в огород за луком и подергал его вместе с луковицами; ему стало неловко, словно он только что сияющий, радостный вошел в избу с пучком лука в руках и один из родственников Любы, тоже бывший крепко навеселе, выговорил: «Ты, парень, когда лук рвал, чем думал?» С той минуты прошло более двух лет, а случай этот помнился во всех незначительных подробностях. Андрей вернулся к муравьиной куче и присел на корточки; от пня во все стороны разбегались крохотные дорожки, протоптанные муравьями. Андрей подумал о том, что, наверное, только с виду муравьиное хозяйство кажется таким налаженным, что его часто ставят в пример человеческому; наверняка, и у них полно неразберихи.
Откуда-то возник голос, тонкий, протяжный. Андрей поднял голову, привстал.
По жердочке шла
Да по тоненькой,
По сосновенькой.
Тонка жердочка не гнется.
Не ломается, —
напевно выводил голос.
«Люба! – узнал Андрей, – она…» Он посмотрел в дальний конец огорода, но ничего, кроме цветущих вишен, не увидел; их белые пышные шапки укрыли Любу, и казалось, что голос да и сама песня рождаются где-то между ветвей. Андрей знал, что Люба тихонько напевала старинные народные песни, когда занималась хозяйством на кухне; ей пела их ее бабушка, без которой ни одна свадьба в деревне не обходилась. Но вот до свадьбы внучки она не дожила, и, когда родственники Любы захлопали и закричали, чтобы спела невеста, Люба смутилась и посмотрела на мужа; тот, понимая ее замешательство, как нежелание попасть в неловкое положение, поскольку по нынешним обычаям за столом уже не поют, а только слушают музыку, решительно сказал: «Не разрешаю!»
– А зря, парень, зря!.. Ну, да твоя воля, – сказал Любин дядя, кряжистый, толстошеий и, усмехнувшись: «А мне не у кого разрешения спрашивать», – запел во весь голос:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны,
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны…
Слуха у Любиного дяди не было, он отчаянно фальшивил; товарищи Андрея, чинно сидевшие за столом своей группкой, насмешливо заулыбались, для них и для него тоже это был пьяный вывих или, как они говорили между собой, «низинка». Люба тоже смутилась, но дяде подпели Антонина Васильевна, Иван Алексеевич, а потом, видя, что песня наладилась, подхватили ее и подруги Таисии Федоровны, да и молодые с улыбкой, но стали подпевать. Когда песня кончилась, Иван Алексеевич сказал дочери:
– Жаль, твоей бабушки нету. Без нее свадьба – не свадьба.
Тогда Андрей даже обиделся: его родители с ног сбились, чтобы на столах было все: от черной икры до французских вин и коньяков. Они собирались устроить застолье в одном из ресторанов, но Любины родители были против, они хотели отпраздновать свадьбу «семьей»; пришлось согласиться, и вот оказалось, что им опять что-то не понравилось. И уже много позже Андрей узнал от жены, кем была ее бабушка и почему «свадьба без нее – не свадьба». На одной из вечеринок, когда все устали от танцев под магнитофон, Люба, смущенно улыбнувшись, тихо пропела:
Как на горке, на горе,
На высокой, на крутой,
Стоял высокий терем…
Получилось это у нее до того легко, мелодично, что компания притихла, кто-то попросил «еще», и Люба спела песню до конца, а потом виновато объяснила: «Мне бабушка в детстве много таких песен пела». В тот вечер все только о том и говорили, что Любе надо «обязательно пойти в какой-нибудь хор», что у нее «определенно есть талант». Андрей настолько увлекся этой идеей, что сказал: «Бросаю институт. Беру в руки баян, и мы идем на эстраду!» Потом Люба часто пела на капустниках, вечеринках, факультетских вечерах, по вскоре, как это часто бывает, все привыкли к ее голосу, к песням, и, когда на одном из вечеров Люба услышала, как кто-то из факультетских остряков сказал: «Доклад декана – раз, тянучие песни – два, и – полчаса на танцы», она убежала в раздевалку, и Андрею не удалось ее уговорить: она ушла домой.







