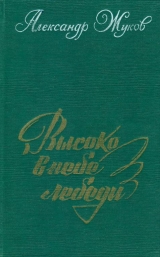
Текст книги "Высоко в небе лебеди"
Автор книги: Александр Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Высоко в небе лебеди
Я строю дельтаплан
Я строю дельтаплан, строю уже давно; в темной кладовке лежит его разобранный остов, который еще ни разу не обтягивал небесно-легкий, скрипучий парашютный шелк; жесткую несущую трубку сын приспособил для турника; но весь дельтаплан, рассчитанный, вычерченный до последнего винтика, лежит в тумбочке моего письменного стола; почти каждый вечер я раскрываю чертежи и вношу поправки, добавления; в чем причина такой, как говорит жена, неуемной страсти?.. Может, я начитался ставших модными в последние годы рассказов об умельцах, построивших самолеты и дельтапланы, может, виной тому фантастические предположения о том, что человек произошел от птицы, иначе откуда у него такая тяга к небу?.. не знаю; за те годы, что строю дельтаплан, я настолько свыкся с мыслью, что непременно полечу, что стоит мне мысленно взяться руками за трубчатую перекладину, слегка налечь на нее грудью и кинуться вниз по крутому берегу Корежечны – речки моего детства, как встречные потоки воздуха подхватывают меня и поднимают к высоким облакам, и вся моя деревня, ее окрестности, некогда казавшиеся огромными, загадочными, вот они – как на ладони – и отсюда, с высоты – еще роднее, ближе; я могу стартовать и с балкона, но все равно дельтаплан уносит меня на берега Корежечны; эти полеты стали той сокровенной частью моей жизни, о которой знает жена да товарищи по работе, уже привыкшие к моей маленькой странности, как мы привыкаем к причудам близких людей; на службе, едва выдается свободная минута, я, делая вид, что уткнулся в бумаги, прикрываю глаза и вижу замшелые, местами, прогнившие насквозь стены домика, в котором жила моя мама; каждый раз, приезжая к ней, я собирал возле магазина крышки от фанерных ящиков, досочки, доставал из портфеля кулек гвоздей и латал ветхие стены, зимой промерзавшие так, что ведра с водой, стоявшие на лавке у стены, застывали; маму спасала только лобастая русская печка, всегда побеленная, праздничная, подолгу хранившая сухое тепло.
Когда я прибивал фанерки и досочки, мама садилась на низкую почерневшую от времени табуретку и, подперев сморщенную, похожую на обмороженное яблоко щеку, любовно наблюдала за моими неловкими руками, привыкшими к ручке и карандашу; а я понимал: она уже не надеется, что построю ей новый, просторный дом, поскольку они нынче стали дороги, а заработки у меня невелики, еще не выплачены деньги за кооператив, подросли сын и дочка, их тоже надо одеть, обуть; в детстве, когда умер от воспаления легких отец, по две смены не выходивший из лесопилки (он тоже хотел заработать денег на новый дом), я залезал к маме на печку, прижимался к ее теплому боку и утешал, что вот вырасту большой, стану директором лесопилки и «отгрохаю» такой дом, что в нем можно будет поселить полдеревни; мама обнимала меня, прижимала покрепче и пугалась: кто же в таком доме убираться будет?.. на полы краски не напасешься, да и чтобы крышу перекрыть… «Нет, – вздыхала мама, – ты мне лучше маленькую избушку с двумя окошками построй. В одно окошко я буду солнышко встречать, а в другое провожать». «Ну, такую-то избушку я тебе враз построю», – огорчался я и даже обижался на маму, что она отказывается от большого светлого дома.
Все эти мысли и настроения в ожидании меня сидели на ступеньках крыльца; едва я появлялся, тут же брали в кольцо, гвозди сыпались из моих рук, досочки трескались, отчего я смущался почти до слез, а мама махала рукой: «Брось ты это дело! Я к холоду привычная, закаленная». И тут, зная, что она откажется, я предлагал: «Бросай свою развалюху, и поедем ко мне. Хоть напоследок поживешь в тепле, без забот»; мне тут же рисовалась идиллическая картинка: мама гуляет с внучкой по нашему огромному двору, на большее моей фантазии не хватало; может, поэтому из меня не получился конструктор; сначала я дневал и ночевал в отделе и в цехе, все пытался довести до совершенства первые полуавтоматические системы, управлявшие станками, срывал график и чертыхался с заказчиками, со смежниками; из «перспективных» был перекрещен в «бестолковые», и единственно, чем поражал новых сотрудников (старые уже привыкли), – с одного взгляда наизусть запоминал самую сложнейшую схему, носил ее в памяти неделями; некоторые инженеры, делая расчеты, частенько использовали меня, как справочник, и посмеивались: «Слушай, Толик, ну у тебя и шиза!.. мне бы такую».
Даже после сорока пяти так и не заимевший отчества, я близоруко щурился и с глупой радостью, похожий, наверное, на щенка, которому походя почесали за ухом, смотрел на старых сослуживцев, смиренно просиживающих дни, месяцы, годы за кульманами в состоянии, как заметил один их наших остряков, «тихого помешательства», словно хотел сказать им: «Вот видите, я еще могу кое-чего. Скоро увидите мои идеи в чертежах…» Конечно, все даже мысленно выглядит пошло, сентиментально, только я уже ничего не могу поделать с собой; в последнее время мне больше всего нравятся старинные, изысканные танго и вальсы в исполнении духового оркестра; слушая их, я на несколько минут погружаюсь в красивую, полную каких-то упоительных, почти доступных грез жизнь; на меня теплой волной накатывает мечтательное состояние, которое раздражает жену, неглупую, практичную женщину, благодаря которой я перебрался из коммунального ада в дорогой кооперативный рай, очень похожий на сладкую каторгу; в эти вечера я боюсь выходить из дома, поскольку мысли и настроения детских лет бродят под окнами, а в морозы греются возле парных батарей в подъезде, иногда позволяют себе прокатиться до моего этажа на лифте, стоят под дверью и терпеливо ждут, ждут, ждут… Я слоняюсь из комнаты в комнату, забредаю на кухню к жене; отрываясь от стряпни, она смотрит на меня, как на человека неисправимого, и раздраженно бросает: «Опять тебя ждут!» В ее словах звучит не ирония, а давняя обида; когда мы жили в коммуналке, были моложе и чаще ссорились, я однажды в сердцах обронил: «Брошу все к черту, уеду в деревню. Там меня ждут». Ощущение того, что там, у матери, я становлюсь другим человеком, распаляло жену; чтобы не ссориться на глазах у детей, я уходил на улицу, и тут же меня окружали мои заждавшиеся знакомцы, вели на вокзал; с радостным волнением я читал строчки расписания поездов, огорчался, если отменяли, подлетавшие к тихому полустанку Пищалкино поздно ночью или чуть свет; автобус до маминой деревни ходил поутру да и то с перебоями, а рассчитывать на попутку не приходилось; вечный почтальон, однорукий Николай, сколько я его помню, мучавшийся желудком, но исправно и изрядно пивший и самогон, и бормотуху, а в запойные дни – тройной одеколон и «букет Грузии» – густой, похожий на деготь чай, он приезжал тоже к утреннему поезду, стучал кирзовыми сапогами по дощатому перрону в ожидании случайных гостей; словом, приехавшим к вечеру пришлось бы коротать ночь в крохотном, чистом зале ожидания у круглой, обтянутой черным железом печи, всегда почему-то пахнущей черными сухарями; не в силах больше сопротивляться охватившим меня чувствам и настроениям, я взял билет и потом, блаженствуя, вдыхал запах чуть подопревшего за мокрую зиму клевера, покачивался в почтовом тарантасе Николая, а он, разомлевший, нахлестывал ленивую пегую кобылу кнутом и басил:
– Мать навещать надоть, почаще надоть. У ней теперь одна радость в жизни – ты да твои дети…
Я ничего не отвечал Николаю и хотя дорога была тряской, казалось, летел над этими выбоинами и ухабами, забыв про камни в почках, которые не любили, когда их беспокоили; я настолько был опьянен гордостью за свою смелость, что верил: могу начать жизнь сначала, и уже прикидывал, что с понедельника возьмусь за блок защиты в новой автоматической системе, которую внедрял наш отдел, и ночами обмозгую его во всех тонкостях, он станет на порядок проще, технологичнее, и тогда опять, как в юности («старики» еще помнят мое прозвище), мне скажут: «Угомонись, Кулибин, не обгоняй науку, она тебе этого не простит»; странное дело, я и сам не знаю почему, не владея особыми теоретическими познаниями, могу каким-то чутьем угадывать и схемные решения, и номиналы деталей, и все это приходит разом, как бы по мановению волшебной палочки; правда, в последние годы такого со мной не случалось.
Я ехал радостный, счастливый и, когда Николай, проезжая крохотную, в пять домов, деревеньку Никиткино, чтобы показать, что ему повезло, он нынче – хмельной, дурным голосом загорланил:
А нас побить, побить хотели
Сразу девять деревень:
Корнеиха, Рудеиха,
Глебени, Федосеиха, —
я подхватил:
Добрыни, Павлово, Зобцы,
Ботовицы, Соловцы.
– Ишь, Толька, стервец этакий, помнишь, – Николай ощерил щербатый рот и погрозил кнутом, – смотри, помни, откуда ноги выросли… из пупка. А пупок у нас у всех один… – он глубокомысленно причмокнул, но мысль, видимо, оборвалась; Николай как-то растерянно покрутил кнутом перед носом и вдруг с маху огрел кобылу. – Пошевеливайся, стерьва!
Кобыла лениво лягнула кованым копытом по передку тарантаса.
– Ишь, падла, ей на мясозавод пора, а она еще брыкается, – Николай снова подвинулся ко мне, наклонил похожее на круглый красноватый точильный брусок лицо и, прикрыв глаза, сипло пропел:
Стою на полустаночке,
в цветастом полушалочке,
а мимо проплывают поезда…
Не подтягиваешь?.. и правильно делаешь. Это уже не наша, это уже общественная.
– Николай, помолчи, а…
– На кой хрен тогда в буфете водка, – обиделся он, передвинулся к передку, хотел выместить обиду на лошади, но качнул рукой хлипкий передок и передумал.
Вопреки моим ожиданиям, мама, едва увидела меня, вся побледнела, затряслась; я стоял у порога и, пораженный, был не в силах улыбнуться; и уже когда раз десять объяснил, что дома все в порядке: жена, дети живы-здоровы, она перекрестилась и снова недоверчиво посмотрела на меня, а потом расплакалась:
– Когда в десять лет тебя к брату отправила, ночей не спала. А уж когда своей семьей жить стал, пообвыклась.
Я смотрел на нее, маленькую, словно бы высохшую от одиночества, и думал, что вот сейчас соберем все нехитрые пожитки в фанерный чемодан, который стоит под кроватью, забьем для порядка крест-накрест окна и завтра Николай еще затемно отвезет нас на станцию.
– Не обижайся, сынок, умереть хочу там, где родилась, – угадывая мои мысли, мама краешком синего фартука вытерла глаза, – ты с дороги-то проголодался, поди, – она вспомнила, что я приехал без вещей, даже подарка никакого не привез, и снова всполошилась; как умел, я успокоил ее; и потом, когда ноги сами приносили меня на вокзал, забивался в самый темный угол шумного зала ожидания и, уткнувшись в воротник, дремал; едва диктор объявлял об отправлении поезда, вместе с пассажирами спешил на перрон, проходил весь почти километровый поезд, а потом долго стоял на краю платформы, затуманившимися глазами вглядываясь в черную даль, где весело перемигивались на путях желтые, синие, красные, зеленые глазки сигнальных фонарей.
Чтобы немного успокоиться, снова забивался в темный угол зала ожидания, закрывал глаза и видел старый дом, мысленно поднимался по ступенькам, заглядывал в кладовку, где стоял большой окованный железными полосками сундук; раньше в нем хранилось мамино приданое: полушубок, ватное одеяло, валенки и две подушки; я видел дощечки и фанерки на стенах, заклеенные кусочками обоев, выделявшихся на поблекших стенах, как новые заплатки на заношенном платье; я неслышно обходил, а может, облетал избу (теперь уже не помню), но точно знаю, что иногда видел кирпичную трубу с жалкими остатками истлевшего дымаря, который все собирался обновить; уже нарисовал его, узорчатый, с поющим петухом на гребне, но боялся отдать заводским сварщикам, опасаясь, как бы они, падкие на легкие заработки, не заломили такую цену, что мне осталось бы только развести руками; а тут еще жена высмеяла мою затею, сказав, что матери не игрушку на трубу надо, а новый дом, и раз уж я не могу его построить, то нечего узорчатым дымарем смешить людей; летом дети просились к бабушке, но мы их не пускали, опасаясь, как бы они не застудились, да и присмотреть за ними подслеповатая мама уже не могла; все это было больно, горько и непоправимо; в июле-августе я старался дня на два вырваться к ней, но ездить летом было неприятно, поскольку в теплые дни старики грелись на завалинках, а тропинка к маминому дому вела мимо просторного особняка Сергея Ивановича, за свою жизнь перебывавшего и председателем, и счетоводом, и избачом. «А вот учительствовать не довелось, – усмехаясь чему-то давнему, говорил он, попыхивая самокруткой, – у меня всего два класса церковно-приходской, ну было бы три…»
Дальнозоркий Сергей Иванович узнавал меня сразу, соскакивал с завалинки и махал картузом защитного цвета, какие, как я помнил из учебников истории, носили в те далекие времена крупные руководители.
– Здравь желаем, чертушко! – кричал он и провожал до самого крыльца, попутно выспрашивая: как живу, сколько получаю, будет ли повышение; зная, что мы с мамой бедуем, Сергей Иванович частенько зазывал меня к себе в дом, сажал к столу и кормил, приговаривая: «Мужик в детстве справно должен есть, а потом может и потуже поясок затянуть. Мужику в детстве силу земля передает»; когда мне исполнилось семь лет, Сергей Иванович открыл книжный шкаф, заставленный книгами и разными коробочками, раскрыл зеленую и достал сверкающие золотом, ослепительно-голубые погоны; сын Сергея Ивановича был военным летчиком, служил неподалеку от Бреста и погиб в самые первые часы войны.
– Возьми, чертушко, – Сергей Иванович сунул их в карман моей рубашки и, ошеломленного столь неожиданным подарком, вытолкнул за дверь; забравшись в лопухи, я долго рассматривал голубые погоны с золотыми крылышками и звездочками, их было три; положив погоны на плечи, я заурчал, подражая самолету, и поднялся во весь рост, раскинул руки и полетел… опомнился, когда лицо что-то обожгло; услышал хохот и понял, что это Васька-Огурец, прыщеватый, приставучий, поставил мне подножку; но тут же хохот стих.
– Это чего?.. откуда у тебя такие? – Васька подобрал упавшие в траву погоны.
– Теперь они мои, – я отряхнул пузырившиеся на коленях штаны.
– Не потеряй, чертушко, – завистливо вздохнув, Васька протянул мне погоны, – я немножко помню его. Он тогда в сенокос приезжал к деду Сергею; как захватит на вилы полвоза, здоровый был…
Вечером я встретил Сергея Ивановича; бабушка Наталья ругалась на него из окна.
– Не ори на него! – крикнул я бабушке Наталье, известной в деревне своим неуживчивым характером.
– Ишь заступник нашелся, – бабушка удивленно посмотрела в мою сторону, – коли он так по сердцу тебе, вот и пои его. Он же, как мерин, прости меня, господи, ведро выжрет и ухом не поведет.
– Вот вырасту, буду ему на каждый праздник по ящику покупать, – сжимая в кармане жесткие погоны, сказал я, – а тебе, чтобы не орала, по ящику конфет.
– Ой, дождемся ли, – засмеялась бабушка Наталья.
– Он меня понимает, да, понимает… – Сергей Иванович, цепляясь за колышки изгороди, добрался до крыльца, а я побежал к своему дому; с того дня прошло много лет, умерла бабушка Наталья, Сергей Иванович тоже заметно сдал, но все еще хорохорился; выпив, пытался плясать прямо на крыльце каменного магазина, и каждому пытался объяснить, что когда-то был председателем колхоза; раньше я за ним такого не замечал, а тут, под конец жизни, словно какой-то внутренний тормоз отпустил, – Сергей Иванович вел себя так, будто его в чем-то кровно обидели, и на полном серьезе, далее трезвый, говорил: «За такую жизнь звездочку бы могли дать». И я невольно чувствовал свою причастность к тому, что мечты Сергея Ивановича в чем-то не сбылись.
Все это постоянно жило в моей памяти и, странное дело, с годами не забывалось, а все ярче, все в более мелких подробностях вставало перед глазами; неделю назад, например, мне вспомнилось, что Сергей Иванович курил только свой самосад, и у него была небольшая машинка для резки табака; многим мальчишкам хотелось нажать на ее ручку, чтобы ровные полоски пахучего табака упали в жестяное корытце, но Сергей Иванович, хотя и подарил мне погоны погибшего сына, может быть, единственное и самое дорогое, что у него осталось, машинку все же не доверял и даже сердился, когда я садился рядом на пенышек; наверное, опасался, как бы у меня не возник интерес к курению… Странная эта штука, память: никогда не знаешь, что она вытащит завтра из своих глубин; остается лишь поражаться ее неиссякаемым запасам и свыкнуться с мыслью, что все это живет в тебе, хочешь ты или нет, ежечасно, ежесекундно, готовое в любое мгновение высветиться на ее экране; наверное, нечто подобное произошло тогда и со мной; а может, всему виной, как я уже говорил, книги, газетные заметки о самодельных самолетах, о дельтапланах… не знаю точно, да и задумываться над этим, честно говоря, не очень хочется, поскольку каждое увлечение на какое-то время окрыляет, а тут я решил построить самолет, и сначала украдкой, а потом уже не скрывая своих намерений от сослуживцев, стал рисовать наброски конструкции, и ребята из молодежной секции байдарочников на первых порах подтрунивали надо мной; еще бы!.. я, в их понимании, уже отживший свое, отработавший, отчего стал похож на сутулое приспособление к кульману, вдруг увлекся не строительством дачи, а любительским самолетостроением, заранее зная, что мечта эта вряд ли осуществится; у меня руки не сродни рукам умельцев, да и в моторах я не специалист; однако вечерами, когда домашние садились к телевизору, я уходил в библиотеку, рылся в учебниках, справочниках; в библиотеке я познакомился с одним дельтапланеристом, который в десять минут разбил мою мечту о самолете; по его словам выходило, что шум мотора мешает наслаждению полетом, что только планер, а еще лучше дельтаплан помогает почувствовать себя птицей, легко и бесшумно парящей над землей, но для этого дельтаплан непременно надо построить самому, чтобы в полетах чувствовать каждую планочку, каждую реечку, как часть своего тела.
«Ты как бы сливаешься с ним. Стоит чуть повернуть голову вправо, и ты летишь вправо; поднимешь голову, и он, вернее, ты набираешь высоту…» – я был заворожен рассказом нового знакомца, уже в полной мере, видимо, познавшего ни с чем не сравнимую, не поддающуюся описанию радость свободного парения.
Парень подсказал мне, где найти чертежи, и уже через пару дней я вечером объявил жене, что буду из нашего скромного бюджета откладывать каждый месяц по три рубля на постройку дельтаплана; жена, привыкшая к моим странностям, съязвила, что «дельтаплан, конечно, дешевле, чем самолет», и ушла в свою комнату, а я всю ночь просидел над чертежами; вскоре у меня была готова полная деталировка, я пошел в мастерские и заказал знакомому токарю два фланца из легкого титана, а сам подыскал дюралевую трубу, разметил ее и отпилил нужный кусок; после работы я принес его домой; когда жена и дети улеглись, уединился на кухне, крепко взялся за трубу обеими руками и, понимая, что это – ребячество, закрыл глаза, но увидел только мельтешившие в темноте белые точки – верный признак нервного переутомления, как я уже знал от врачей; зато ночью, во сне, я собрал свой дельтаплан и с балкона смело ринулся вниз и полетел над плоскими крышами высотных домов, над лесом, сверху похожим на спутанное ветром поле незрелой пшеницы; наконец, увидел провалившуюся возле самого конька крышу маминого дома и обрадовался тому, что его еще не разобрали на дрова; с той ночи, стоило мне закрыть глаза, как я мог часами парить над полями и лесами, но заканчивался полет почему-то всегда возле знакомого, полуразвалившегося дома, в его тихом дворе, в лопухах которого, положив на плечи голубые погоны, я впервые ощутил себя крылатым.
1985
Поздняя картошка
Олег сидел на верхней ступеньке крыльца, кособокого, вросшего в землю; в березовой роще кричали грачи, и серый туман сумерек, казалось, был прошит, простеган острыми иглами криков, стал плотным, придавил запотевшие крыши деревенских изб, укутал голые, наверное, продрогшие за ветреный день кусты смородины и крыжовника в огородах и мягко, масляно потерся о сухие еще, испускавшие желтый лучистый свет окна.
Олег поплотнее запахнул широкие полы ветхой шинели, терпко пахнущей молодым, неслежавшимся сеном; она висела в сарае в окружении решет, цепов, граблей, чистая, аккуратно заштопанная на локтях, словно несколько минут назад оставленная тут хозяином. И когда Олег попросил ее у хозяйки, Марьи Федоровны, то она, юркая, словоохотливая, недоверчиво заглянула ему в лицо белесыми, словно бы застиранными глазами и, как ему уже потом, день, наверное, спустя, подумалось, прочла по нему то, о чем он лишь догадывался, да и то смутно, и раздумчиво сказала: «Возьми, милай, раз охота такая, возьми».
От этого скрипучего «возьми», похожего на скрип дверей и половиц и мягкого, протяжного «милай» пахнуло чем-то стародавним, знакомым, хранящимся, наверное, на тех самых высоких полочках памяти, до которых мы, к сожалению, редко дотягиваемся сами, чаще берем то, что лежит под рукой. «Наверное, моя бабушка так говорила», – подумал Олег, хотя не помнил ее, но из рассказов матери знал, что бабушка, больная, распухшая от военного голода, сажала его на колени и разговаривала с ним подолгу, как со взрослым, чем пугала соседей, живших за тонкой дощатой переборкой; им казалось, что бабушка от голода «тронулась».
Олегу захотелось войти в избу, зажечь керосиновую лампу с пожелтевшим, вырезанным из обоев абажуром, присесть к дощатому столу напротив Марьи Федоровны и, по-купечески потягивая из блюдца чуть горчащий мятный чай, завести с ней неспешную беседу.
«О чем же ты будешь говорить?.. – иронично усмехнулся Олег и колючим, небритым подбородком потерся о свалявшийся, когда-то жесткий воротник шинели. – Хочешь, чтобы тебя пожалели, обласкали?..»
– Гриша… Пора домой, Гриша.
Олег поежился от кольнувшей, неприятной догадки; услышал слева шаркающие шаги и неглубокое прерывистое дыхание.
– Прости, очень ты в сумерках на него похож. – Марья Федоровна плечом прислонилась к перилам крыльца, и они, очнувшись от вечерней дремоты, отозвались обиженным скрипом. – Гриша-то, как после ранения приехал, все на ступеньках до самого поздна сидел, словно ждал кого. Я зову его, зову, а он не шелохнется. Пуля-то ему в голову попала… да, в голову. Сидит, бывало, а уж морозы пошли, а он шапку не надевает. Рядышком она, на ступеньке лежит. Все жаловался на жар в голове. Стриг ее наголо и ледяной водой прямо из бочки обливал. А я из окошка гляжу на него и плачу, плачу…
Марья Федоровна вздохнула глубоко, словно перевела дыхание после тяжелой ноши, и уже буднично, как о чем-то постороннем, добавила:
– Нынче редко плачу. Горе-то у меня уже взрослое.
Олег всем своим естеством ощутил, в какие-то доли мгновения понял, может быть, впервые в жизни: какую великую душевную силу надо иметь, чтобы день за днем, долгие годы жить бок о бок со своим горем, греть его теплом исстрадавшегося, измученного сердца, чтобы оно, черное, стало чистым и высоким, как слеза; для Марьи Федоровны навсегда и воздух, и лес, и дом, и все те маленькие радости, если они еще случаются в ее жизни, освещены его печальным светом, и осколки этого большого общего горя каждый носит в своей душе; – у него, у Олега, нет отца, у других – брата или деда; наверное, особые волны, еще не изученные наукой, разносят по всему миру и, кто знает, может, по всей Вселенной робкие, похожие на едва проклюнувшийся зеленый листок, или будоражащие, набатные сигналы наших радостей и тревог.
Со стороны дороги послышался смех, мужские возбужденные голоса.
– Олег, пошли на скачки!
«Катитесь вы!..» – Олег сердито посмотрел на черный забор, в щелях которого, словно красные светлячки, мелькали огоньки сигарет, и поспешно, опасаясь как бы его приятели по заводу не ввалились сюда, подвыпившие, бесшабашные, отозвался:
– Не пойду. Отосплюсь лучше!
– Дома, под боком у жены отоспишься… Таких на картошку брать не надо! – весело закричали с дороги, и красные светлячки побежали по забору и растаяли в темноте.
– Ишь, разгулялись, – мысленно находясь еще там, в далеком, уже для самой в чем-то похожем на чужую жизнь времени, растерянно заметила Марья Федоровна. – Может, судьба такая выпала. Марья, испокон веков, горькая. Только чем я так перед людьми и перед этим светом провинилась?.. Всю жизнь работала, как нынче говорят, «ишачила за спасибо». Вы такие выросли, что шагу бесплатно не ступите. Жизнь как-то чудно понимаете: «ишачим», чтобы отдыхать, словно самая взаправдашняя жизнь начинается после работы…
Легкий ветерок донес с танцплощадки обрывок ритмичной музыки; возвращаясь с картофельного поля, Олег видел этот асфальтовый пятачок возле клуба, усеянный окурками, фантиками, шелухой от семечек, словно стыдливо укрывавшийся от дневного света плотным покрывалом из мусора.
– Не слушаешь меня, милай?
– Да вот задумался, – смутился Олег.
– Я уже привычная, что одни меня из жалости слушают, другие из воспитания – это все больше городские, а наши-то, деревенские, отмахиваются, как от навозной мухи: «Своих забот полон рот». Я, если уж большая охота подопрет, кошке все рассказываю. Она глазищами хлопает, хлопает, да как замурлычет и ну! об ноги тереться. Значит, понимает. А по весне и кошки не стало. Ребята из рогатки стрельнули… Слушай, третий день на тебя гляжу, вроде, как ты не в себе. По дому так тоскуешь?
– Да нет…
– Отца вспомнил?
– Его я лишь на фотографии видел. Он до Берлина дошел. Дежурил у танков, а снайпер из высотного дома… Как раз был первый день мира.
– Кто ж, милай, за все это ответит?..
– Сказки, Марья Федоровна, сказки, – уже порядком разочаровавшийся в формуле: каждому воздастся за добро и за грехи его, раздраженно обронил Олег; люди с детской верой в мифические законы, по которым должна протекать человеческая жизнь, вызывали у него и сочувствие, и отвращение. – Знаете, я у одного ученого недавно прочитал, что, по его наблюдениям, больше всего на операциях не везет именно хорошим людям.
– Оно и верно, зверь завсегда живучее человека.
– Циничный закон природы.
– Ты не смейся. Раз ты умный, то должен знать, как надо жить, чтобы не болеть.
В темноте Олег не видел лица Марьи Федоровны, но почувствовал, как оно, округлое, похожее на передержанную в печи, потрескавшуюся булку, осветилось лукавой улыбкой.
– Тебе в шинели-то, поди, тепло, а у меня до самых костей холод добрался. Пойду в избу, самоварчик соображу.
За спиной Олега скрипнула дверь; он поднял повыше ворот шинели, привалился плечом к бревенчатой стене и прикрыл глаза; еще тогда, в детстве, он до слез завидовал одногодкам, щеголявшим в отцовских, подрезанных почти до самой талии шинелях, до белизны застиранных гимнастерках, выгоревших пилотках; он погладил выпуклые, со звездочками, пуговицы; на них играли за черной от копоти котельной в «орлянку»; их он встречал позже в столах своих повзрослевших приятелей, как и пилотки, и погоны, бережно хранившиеся в шкафах, и невольно подумал о том, что будет беречь его сын как память о нем?.. Вспомнились недавние слова жены: «Тебе не кажется, что мы живем слишком скучно: работа – магазин – варешка – кормежка – телевизор – постель». Сказано это было как упрек, и Олег, защищаясь, огрызнулся: «Не я же это придумал!» Хотя сам все чаще и чаще ловил себя на мысли, что если с ним не произойдет несчастного случая, если не будет землетрясения или иной катастрофы, то он без особых перемен проживет до самой старости; в последние годы время отмечалось больше покупками, приобретениями: «это было, когда мы цветной телевизор купили», «это было той весной, когда мы взяли в кредит гарнитур для спальной; у магазина тогда очередища с пяти утра была…» И Олегу после каждой самой маленькой размолвки с женой, которая упрекала его, и он это понимал, тоже больше по привычке, хотелось побыть одному; одиночество не пугало, а манило, словно хотело посвятить в какие-то сокровенные тайны человеческой жизни; и по дороге в «колхоз», на который согласился добровольно, чем крайне удивил жену и начальство, он надеялся, что общежитие в эту пору пустует и можно будет найти укромный уголок, чтобы уединиться.
Когда они подъехали к общежитию, у дверей их встретила старушка в белом платке в крупную голубую горошинку; опираясь на ореховую палочку, она заискивающе улыбнулась:
– Кто хочет настоящей деревенской жизни, прошу ко мне.
– Почем берешь, бабушка? – уже настроившись на волну той вольной, раскованной жизни, которую познал в прежние свои приезды, весело спросил один из парней.
– Дров наколешь да воды принесешь, тому и рада буду.
– Посторонись, Федоровна, – колхозная бригадирша в желтых резиновых сапогах, плотно облегавших полные икры, вытащила из подкатившего пикапа стопку чистых простыней, – зачем людей с толку сбиваешь? У нас тут отопление, душ, телевизор цветной, а у тебя все удобства – два клопа да три таракана.
Парни дружно рассмеялись.
Старушка обиженно заморгала, но не ушла, и это ее безропотное унижение тут же вызвало у парней и смущение, и брезгливость. Один за другим они поспешили скрыться в дверях общежития.
– Если не возражаете, я буду у вас жить, – задержался возле старушки Олег.
– Не глупи, парень, – сердито заметила бригадирша, решив, что он лишь по мягкости характера не смог пройти мимо, сунула ему в руки стопку наволочек. – Неси. А ты, Федоровна, ступай своей дорогой, нечего разными байками наших шефов смущать.
Когда Олег снова показался в дверях, бригадирша, уперев руки в крутые бока, так посмотрела на старушку, что та попятилась, причитая: «Да я что?.. он ведь по доброй воле». Бригадирша, наверное, довольная произведенным эффектом, рассмеялась и махнула рукой:
– Ладно уж, забирай своего полюбовника.
– Очень остроумно, – едко заметил Олег.
– Откуда у нас уму-то быть да еще острому. Мы в деревне живем, люди темные.
– Оно и видно, картошку и ту убрать не можете.
– Ишь развыступался! – бригадирша снова уперла руки в бока. – А ну, иди-иди да смотри на работу не проспи, деятель…
– Не связывайся с ней, милый, глупая баба хуже цепной собаки, – старушка ухватила Олега за рукав куртки и потянула за угол общежития.
Дом у нее был неказистый, подсевший на левый угол; одну треть его занимала русская печка с просторным шестом и черной, словно вороненой, заслонкой; из-под шестка торчали ручки ухватов, а под ним лежал деревянный каток, на котором, как Олег знал по книгам и фильмам, сажают в печь самые большие чугуны.
– Зовут меня Марьей Федоровной. Тебе я на кровати постелю, – старушка показала на койку возле глухой стены, прикрытую лоскутным одеялом, – а сама я сплю на печи, старые кости грею.








