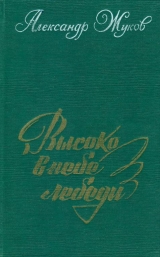
Текст книги "Высоко в небе лебеди"
Автор книги: Александр Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Сережка нахмурил брови, стал похож на смешную букашку, и с еле заметной многозначительностью спросил:
– Самбист чем-то недоволен? Может, я ошибся? Может, я сзади стоял?
– Да не!.. Впереди! – потешно испугался Лешка и убрал голову в плечи, словно хотел сжать свое сильное тело в маленький комочек и затеряться.
Мальчишки в очереди понимающе переглянулись.
Такие перемены вдохновили Сережку. Он подтянулся в учебе, и когда Басов отвечал у доски и по многолетней привычке косил в его сторону, демонстративно отворачивался; он мог подсказать какую-нибудь чепуху и дать классу вволю посмеяться, мог открыто сказать: «Ты, Басов, дурак!» Но, чувствуя свое превосходство, Сережка не мог снизойти до такой мелочи; он мысленно корил себя за сцену в школьном буфете, которая теперь казалась ему ребячеством, не больше.
Из всей компании он немного уважал одного Чапа; в отличие от Данилина и других завсегдатаев, тот претендовал на изысканность: носил джинсы, приталенные рубашки в модную широкую полоску, но был не похож на тех мелких пижонов, лениво жующих «жвачку» на перекрестках. Чап оставался «своим парнем», и те подростки, которые презирали пижонов, охотно прощали ему страсть к «шмоткам», над которой он и сам частенько посмеивался. У Данилина и у других парней создавалось впечатление, что эта страсть идет от того, что Чап имеет «хорошие деньги» и в пику пижонам носит джинсы фирмы «Левис» в хвост и в гриву!.. Но Сережка чувствовал, что за этой страстью кроется какая-то горькая неудовлетворенность. Чап любил порассуждать о жизни, о новых фильмах; для компании его слова часто были подлинным открытием и даже откровением; Данилин и другие парни слушали Чапа взахлеб, а Сережка старательно делал серьезное лицо и в душе посмеивался над неглубокими умозаключениями Чапа, который старательно переписывал в блокнот слова модных песенок-однодневок и украдкой вздыхал на сентиментальных фильмах.
Свое двойное отношение к Чапу и компании Сережка держал в тайне, и чем пристальнее он приглядывался к жизни, тем оно казалось все более правильным и даже закономерным; он знал, что мать ненавидит завхоза – пузатого мужичонку с носом-картошкой (она как-то показала его на улице), который ни за что ни про что может накричать на человека, унизить, но зато с ним всегда можно было договориться насчет свободного дня или другой смены. Из-за этих маленьких привилегий Анна Тимофеевна сносила оскорбления, хотя уборщицы требовались везде.
– Еще неизвестно, к кому попадешь! – словно оправдываясь, говорила она сыну; тот раньше с горячностью предлагал: «Ты попробуй! Зачем тебе терпеть!..» Тяжко переживая свои унижения, он обостренно, ближе, чем свои даже, переживал унижения матери и убеждал ее, уговаривал перейти в другой цех или в тот же институт, куда ее не раз приглашали. А теперь, если заходил разговор о перемене работы, Сережка не вскипал от негодования, а со спокойной иронией говорил:
– Дураков кругом полно. А дурак, как известно, что стенка. Свой лоб пожалей! А совсем невтерпеж станет, уйдешь – это твое право. Ты – сама по себе, твой дурак завхоз – сам по себе. Это ему только кажется, что он – пуп Земли. Он – всего лишь пупок!..
– Ой, да что ты говоришь, Сереженька! – пугливо улыбалась Анна Тимофеевна; ей казалось, что сын, вечно сопливый, зябнущий, целыми днями сидящий с книжкой, завернувшись в ватное одеяло, – он смотрит на мир ее глазами.
Но самое странное было в том, что Анна Тимофеевна невольно присоединялась к его рассуждениям, радостно завидовала внутренней независимости сына, несвойственной ей, и без особой опаски отпускала в компанию Чапа. Поначалу, правда, тревожилась, но дни шли, а сын не портился, чего она наивно ожидала; подтянулся в учебе; ребята перестали его обижать; он даже спать стал спокойнее – не ворочался, не кричал, сбрасывая одеяло. Анна Тимофеевна, опасавшаяся, что без мужа не поставит сына на ноги, не справится с ним, наконец-то обрела спокойствие, но ненадолго. Однажды она увидела Сережку с девочкой и прямо-таки остолбенела, спасительно подумала: «Случайно встретил!»
О чем-то оживленно разговаривая, они подошли к мороженщице; Сережка одним взглядом остановил руку девочки, потянувшуюся к сумочке, купил мороженое, и по тому жесту, медлительному, наполненному неброским особым смыслом, с которым он подал мороженое спутнице, Анна Тимофеевна поняла: «Не случайно!»
Прячась за деревья, за дома, она шла за ними; все пыталась рассмотреть лицо девочки. Когда они скрылись в дверях кинотеатра, Анна Тимофеевна как подкошенная упала на зеленую деревянную скамейку. «Не может быть! Неужто Сереженька?.. – слепящее чувство ревности, смешанное с изумлением, овладело ею. – Со спины какая-то неказистая. Идет, как гусыня, переваливается. Платьишко коротенькое… Вертихвостка какая-то!» Чем больше она настраивала себя против Сережкиной спутницы, тем желаннее становилась для нее эта кубастенькая девочка, неожиданно разбудившая в ее сердце столь естественную надежду одинокой, по-своему несчастной женщины на сыновье благополучие; все здесь было житейски просто: счастлив сын – счастлива и она.
Сережка в тот день впервые решился пригласить в кино Надю Собко. Толстенькая, с бледноватой рыхлостью в лице, она была чем-то похожа на проклюнувшийся росток подсолнуха в цветочном горшочке на окне, фиолетовом от жидкого зимнего света. Подруг у Нади почти не было, и Сережка, еще раньше внутренне тянувшийся к ней, но не допускавший даже намека на самое ничтожное внимание (засмеяли бы!), теперь сдерживая ликованье, стоял на перемене с Надей у окна, провожал ее из школы до дома, и, когда Басов за его спиной скорчил усмешливую рожицу (Сережка понял это по Надиному лицу, внезапно потускневшему), он повернулся к Басову, и тот буквально заскулил от страха: «Чувак, ну чего ты, ну, дурак я, дурак…» Сережка, несмотря на свирепый вид, был даже благодарен Басову, видя как Надя зарделась и посмотрела на него с той признательностью, с какой слабые люди смотрят на добродушных великанов, выручивших их из беды.
Когда мать, после долгих терзаний и мучений, с вымученной улыбкой намекнула, что «видела его с какой-то…», Сережка весело сказал: «А что, возьму да женюсь!», чем поверг ее в смятение. Немного отойдя, Анна Тимофеевна подумала, что надо бы сыну справить новый костюм и решила, что если в ближайшее время не подвернется работы на стороне, то снимет деньги со сберкнижки, где у нее лежало восемьсот рублей. «Четыреста на мои похороны уйдет. Помереть нынче дорого стало, – говорила она сыну, – а остальные, сколько скоплю, тебе останутся». В ответ Сережка, еще видевший жизнь как нечто бесконечное, неисчерпаемое, только снисходительно улыбался.
Из «продуктового» Сережка и Генка, придерживая отвисающие карманы, направились в скверик. Чап любил выпивать, как он говорил, «у спортсменов» – возле нелепых облезших фигур борцов, установленных, наверное, еще в эпоху тех пятилеток, когда ГТО только делало свои первые шаги.
– И зачем напридумывали: портвейн розовый, яблочное вино, фруктово-яблочное вино… На мой вкус – все они одинаковые. Одни послаще, другие чуть горчат. Какой смысл было придумывать? – Генка покосился на Сережку; он всегда остерегался, как бы тот его не высмеял, но поговорить ему хотелось, и эта сила обычно брала верх.
– Дорогие вина, я читал, имеют свой особый вкус, вернее, букет, – без особого интереса отозвался Сережка.
– С ними ясно. А на это дерьмо зачем разные этикетки приклеивать? Алкаши и так выдуют!
– Наверное, чтобы им не скучно было. Сегодня – яблочное, завтра – плодово-ягодное, послезавтра – денатурат! – походя сострил Сережка.
Генка засмеялся. Они пролезли в узкую щель между черными металлическими прутьями ограды и вышли прямо на компанию Чапа, расположившуюся на лавочке возле борцов.
– Чуваки, вас только за смертью посылать! – перебрасывая с ладони на ладонь складной алюминиевый стаканчик, сердито выговорил Николай Данилин; в его курчавой шевелюре застряло с десяток крупных снежинок и казалось, что ее посыпали солью.
– Там алкашей… не протолкнешься! – выставляя бутылки на лавочку, надулся Генка: он знал, что тут ему можно немного обидеться.
– Пора отстреливать! – невозмутимо заметил Сережка и посмотрел на Чапа: лишь он мог по достоинству оценить эту остроту. Чап весело подмигнул:
– Молодец, Гвоздик!
– Чует мое сердце, что начнут с нас! – Комиссар зубами сорвал пробку; глотнул водку из горлышка и, запрокинув голову, пополоскал горло.
– Чувак еще тот!.. Чува-ак! – гордясь тем, что привел такого, на его взгляд, стоящего парня, Данилин заносчиво осмотрелся.
– Ангины никогда не будет! – Комиссар небрежно сплюнул.
– Маэстро, повторите! – вежливо попросил Чап.
– Запросто! – Думая, что в его способностях усомнились, Комиссар отхлебнул из бутылки и полоскал горло так долго, что лицо его от напряжения побагровело; он харкнул и победно посмотрел на Чапа.
– Маэстро, пожалуйста, еще разок! – все так же вежливо попросил тот; еле заметно подмигнул Сережке, который уже догадался, что Чап развлекается.
– Да я хоть сто раз!.. – Комиссар с готовностью запрокинул голову – водка, выплескиваясь изо рта, забулькала.
– Маэстро, вам эти процедуры ни к чему. У вас и так луженая глотка, – с непроницаемым лицом заметил Чап. Генка во все глаза смотрел то на него, то на Данилина и не знал: смеяться или нет.
– На горло не жалуюсь… – Комиссар почувствовал подвох, но по лицу Чапа нельзя было прочесть что-либо определенное, и, стараясь удивить еще больше, он лихо запрокинул голову и стал пить водку прямо из горлышка. Генка от искреннего восхищения поперхнулся. У Сережки водка вызвала в памяти кисловатую горечь микстуры от кашля, которую он пил, закрыв глаза, и тут же запивал сладким чаем; чтобы не видеть, как судорожно дергается острый кадык Комиссара, он отвернулся.
Выпив треть бутылки, Комиссар резко выпрямился и уткнулся в рукав пальто, жадно втягивая ноздрями солоноватый запах крашеной кожи, действовавший освежающе.
– Кто такую гадость делает, морду бы ему набить! – он, не глядя, протянул бутылку Сережке.
– Мы с Генкой вермуту себе купили.
– Они балуются только чернилом, – подтвердил Чап.
– Чуваки, к чему вы тут детский сад разводите? Чуваки! – Комиссар, пренебрежительно выпятив нижнюю губу, укоризненно посмотрел на Сережку, потом – на Генку. – Может, вас ночью мамаши на горшок сажают? Может, вам сисю дать? – Он так сморщился, что казалось, вот-вот заплачет от досады и разочарования. – Люблю посмотреть на пьяную мелюзгу. Это же – цирк! – шепнул он Чапу и, пальцем отчеркнув уровень в бутылке, умоляюще протянул: – По наперсточку, чуваки!..
Чап скучал. Джинсы ему не принесли, компания собралась в самом мизерном составе; предложение Комиссара немного оживило его; он насмешливо прищурился:
– Гвоздик, матери, что ли, боишься?
– Да нет, – спокойно пояснил тот, – она сегодня в третью смену пойдет. Потом два часа в кладовой посидит и пойдет в первую.
– Она у него, как и моя, – уборщица, – ответил на недоуменный взгляд Комиссара Данилин.
– Гвоздик, я тебя не понимаю… Чтобы запах отбило, мятных таблеток дам. – Чап не любил церемониться и больно уколол Сережку: – Я тебя всегда считал самостоятельным человеком, потому и взял в нашу компанию.
Отступать было некуда: Данилин, Комиссар, Чап смотрели на него откровенно презрительно; только Генка Быков сочувствующе сопел носом. «Да чего я упрямлюсь-то? Выпью немножко, что меня, убудет, что ли?.. Красное же выпиваю – и ничего…» – поспешно уговаривал себя Сережка. Данилин, Комиссар и Чап уже смотрели на него с легкой насмешкой, как на мокрого воробья, который изо всех сил пыжится, трясет намокшими крылышками и, цепенея от ужаса, не может взлететь; в панике ему кажется, что все сильнее, сильнее рубит воздух крылышками и вот уже чувствует привычную упругость воздушных потоков и даже – неслышное парение в бездонной высоте, а сам забивается все глубже и глубже в липкую грязь на обочине дороги.
– Гвоздик! – нетерпеливо напомнил Чап.
Сережка покрылся испариной, представив, что его сейчас прогонят; даже затрещины не дадут, а просто отвернутся, и он лишится привилегий компании Чапа, и справедливость, с таким трудом восстановленная, будет нарушена.
– Я чего?.. я сейчас! – Он торопливо схватил бутылку – горло обожгло, из глаз выкатились слезы, но Сережка протолкнул внутрь нестерпимо горький первый глоток; в его голове промелькнуло удивленное: «Только и всего!..», и он глотнул еще раз… выронил бутылку, суматошно замахал руками.
– Запей! – Комиссар сунул ему бутылку вермута, и Сережка, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, одержимый единственным желанием заглушить жгучее першение, выпил почти половину бутылки и закачался, поскольку дыхание перехватило. Когда он немного пришел в себя, увидел расплывающиеся, хохочущие лица.
– Крепись, чувак, атаманом будешь! – Чап покровительственно потрепал его по плечу. Понимая, что угодил, Сережка вымученно улыбнулся.
– Давай тебя крестить! – Комиссар сунул бутылку Генке.
«Попался, Быча! – не без злорадства подумал Сережка. – Посмеялся!.. Теперь моя очередь!» Генка, словно каждый день так делал, взболтнул бутылку и приложился губами к горлышку, замер; водка извилистой струйкой побежала по подбородку.
– Пей, чего зря добро разливаешь! – прикрикнул Данилин.
Силясь, Генка глотнул – глаза его выкатились из орбит. Комиссар еле успел подхватить падающую бутылку; загреб пригоршню сероватого снега и запихнул в по-галчоночьи раскрытый Генкин рот.
– Закусывай, а то, если все будут запивать, как Гвоздик, нам ничего не останется!
Генка выплюнул снег, рукавом вытер губы; по его лицу скользнула хитроватая усмешка. Сережка понял, что он мастерски разыграл судорогу и бутылку выронил специально. «Ну, хитрюга Бычок!» – искренне удивился Сережка, недоумевая, как туповатому, неповоротливому Генке удается обводить вокруг пальца не только ребят, но и взрослых.
Чап с той завораживающей ленцой, создававшей ощущение, что каждый его жест наполнен особым смыслом, разведя руки, повесил гитару на руку одного из борцов; смахнул с постамента снежинки, водрузил на него бутылку и рядом положил сырки.
– Это место создано для выпивки, – сказал он Комиссару. Чап любил разговаривать с новыми людьми. – Эти сошедшиеся в поединке человекообразные постоянно напоминают мне, что жизнь с незапамятных времен – борьба…
– Дудки! – несогласно мотнул головой Комиссар. Он слегка захмелел и уже чувствовал себя в компании на равных с Чапом. – Жизнь – это цирк!
– Лучше уж театр, маэстро, или кино, – с затаенной усмешкой поправил Чап.
– Нет, цирк! – упрямо повторил Комиссар. – Сила есть – платят за силу. Хохмить умеешь – тоже проживешь. Умеешь надувать щеки и корчить из себя начальника – будешь номера объявлять. Научишься, не моргнув глазом, надувать соседа – попадешь в фокусники. А те, кто ни хрена не умеют, те на билеты вкалывают!
– Интересно. А к кому же вы себя, маэстро, относите? – Чап иронично прищурился и хотел подмигнуть Сережке – единственному человеку, который мог сегодня оценить его игру. Тот стоял, как-то неестественно расставив ноги, и, натужно морща лоб, пытался вникнуть в суть разговора; ему было уже не до тонкостей Чапа.
– Каждому, кто мне задает такой вопрос, я предлагаю: давай руку, померяемся! – Комиссар медленно сжал кулак, и все увидели, как под кожей пальто буграми обозначились мускулы. – Сразу выясним, кто из нас работает в цирке, а кто приходит на спектакли.
– А если я из тех, кто надувает соседа, как быть тогда, маэстро? – с обезоруживающей веселостью спросил Чап.
– Тогда лучше не попадайся. Среди артистов тоже идет борьба! – в тон ему заметил Комиссар.
– Скоро, чуваки, гульнем! Нас в конце месяца отправляют на практику. Первую получку всю – на бочку! – как всегда, не ориентируясь, к месту это будет или нет, похвастался Николай Данилин.
– У вас интересная, я бы сказал, железная теория, маэстро. – Чап разлил водку по стаканам. – Я, правда, на жизнь смотрю несколько мягче, хотя и называю ее борьбой. По-моему, жизнь – не просто борьба, а борьба за красивое существование. А чтобы более-менее красиво существовать, мне лично надо вечером куда-то пойти. Деньги я на это имею, а вот податься некуда. В кафе целый вечер не высидишь. В этих стекляшках – шум, суета… Ты сидишь, а рядом с бутылкой за пазухой стоят. Ждут, когда место освободится. В ресторан каждый день не находишься. Не по карману. Приходится убивать время у спортсменов… За их богатырское здоровье и за хорошее отношение к нам! – горько усмехнулся Чап и опрокинул стакан.
Как ни пыжился Сережка, как ни напрягал волю, лицо его широко, словно радужная масляная капля на глади воды, расплылось в глуповатой улыбке; в голове у него стоял ровный густой шум, как будто он находился среди горящих примусов; во всем теле появилась непривычная легкость. Раньше Сережка выпивал чуть-чуть красного и даже не пьянел, теперь же его так и подмывало что-нибудь вставить в разговор, привлечь к себе внимание, но он сдерживался и все же, едва Чап замолчал, с непривычной развязностью ляпнул:
– Слышь, Чап, где твои знаменитые таблетки?
Данилин, Комиссар и Чап слегка опешили.
– Выкладывай, ты же обещал! – покачнулся Сережка.
– Чуваки, концерт начинается! – предвкушая развлечение, хохотнул Комиссар.
– Бери, только все не проглоти, а то пронесет. – Чап, еле сдерживая насмешливую улыбку, протянул Сережке узкую синюю пачку мятных таблеток.
– Сам знаю, не учи! – Сережка существовал словно бы в двух состояниях одновременно: он еще понимал, что выпил лишнего и несет чепуху, но остановиться уже не мог; пугался, но сам страх был словно не его и совсем нестрашный, наоборот, это перерождение забавляло его; он неожиданно стал центром внимания, и хотя Сережка пока понимал истинную причину перемены, все же наслаждался этим. Едва Данилин протянул руку, чтобы щелкнуть его по носу, он грубо, изо всех сил толкнул его в бок:
– Убери грабли, Анжела!
– Гвоздик, Гвоздик… Тсс!.. – Николай, дурачась, спрятался за облупившийся постамент и, высунувшись, шепотом спросил: – Чап, ты еще жив?
– Мы же с ним – друзья! Он меня не тронет, – сказал Чап с откровенной насмешкой.
Сережка потемнел от обиды; стиснув кулаки, он кинулся на Чапа; тот увернулся. Комиссар больно схватил Сережку за ухо:
– Нехорошо, Гвоздик, на своих кидаться! Очень нехорошо! – Он пригнул его к земле и отпрыгнул, тряся укушенным пальцем. – Напился, собака! Ты так всех перекусаешь!
Сережка смеялся редко, а если и приходилось, то лишь чуть-чуть разжимал губы, а тут раскрыл рот, выставив напоказ два неровных ряда худосочных зубов; смех внезапно сменился злостью. Он бегал вокруг борцов, пытаясь пнуть кулаком то Комиссара, то Данилина, то Генку, и ругался так, что даже Чап пораженно присвистывал:
– Ну и Гвоздик! Ну и тихоня!..
– Я ж говорил, эти сопляки такой концерт задают… откуда чего берется! – хохотал Комиссар, пальцем поддразнивая Сережку.
Но вскоре Чапу это наскучило. Он поймал Сережку за воротник пальто, основательно тряхнул и крикнул в самое ухо:
– Тихо, Гвоздик, Анна Тимофеевна рядом!
– Ммама?.. Ммоя мама? – Приступ щемящей жалости к матери охватил Сережку; в его возбужденном мозгу мелькнуло, что вот и он, единственный сын, не бережет ее; напился; и если она узнает об этом, беспомощно накричит на него, настращает, а потом всю ночь проплачет в подушку и утром будет смотреть на него так, словно она одна во всем виновата и вот-вот готова упасть перед ним на колени. Сережкины плечи опали, и он тихонько, словно пискнул мышонок, прижатый к полу, всхлипнул.
Чапу стало не по себе, и, как всегда, чтобы скрыть свою чувствительность, он нарочито грубо сказал:
– Кончай базар! Побаловались, и хватит. – Снял гитару с руки борца и подмигнул недоумевающему Комиссару, только-только вошедшему во вкус: – Лучший концерт, по-моему, короткий. – Ударил по струнам и с хрипотцой запел:
Пусть бегут неуклюже
пешеходы по лужам,
а вода по асфальту рекой…
И неясно прохожим, —
с готовностью подхватила компания, —
в этот день непогожий,
почему я веселый такой!..
Пьяная бесшабашность сбила компанию в теплый упругий комок; Данилин шел в обнимку с Чапом. Комиссар, словно закадычного друга, облапил Генку, и тот, гордый столь неожиданным вниманием, надулся до красноты, выравнивая шаткий шаг компаньона, иногда повисавшего на нем всей своей тяжестью. И лишь Сережка, втянув голову в худенькие плечи, пошатываясь и тупо поводя глазами, тянулся сзади особнячком; непонятная щемящая тоска еще не сошла с него.
Возле выхода из сквера, между двух массивных белых колонн, на которых висели чугунные ворота, компании Чапа встретился парень в лисьей шапке.
– Мех настоящий, но снимать не будем! – с выпячивающимся превосходством хохотнул Николай Данилин.
– Чувак, дай прикурить! – Чап ловким движением выбил из пачки сигарету и, прихватив ее губами, ожидающе замер.
– Не курю, – не глядя на него, ответил парень.
– Такой большой и не курит! – Едва он поравнялся с Комиссаром, как тот, резко качнувшись навстречу, прямым ударом сбил его с ног.
– Гвоздик! – крикнул Чап. – Я же просил тебя купить спички, а ты забыл. Попроси у него, а то он мне не дает. Может, я ему не понравился?
Сережка посмотрел в сторону парня; тот стоял, нелепо растопырив грязные руки; синтетическая японская куртка на груди тоже была в грязи; тонкие губы парня нервно и обиженно дрожали. «Скоты. Только и умеют, что издеваться…» – с тупой злостью подумал Сережка и поспешил к парню; он хотел взять у него спички и тем самым спасти от дальнейших унижений, но только раскрыл рот, чтобы тихо сказать: «Чувак, дай спички, а то эти не отвяжутся», как сильный удар опрокинул его навзничь. Потом он смутно помнил, как Чап, матюгаясь, тер ему лицо снегом и с торопливым, каким-то детским испугом бормотал: «Чего теперь будет?.. И угораздило тебя, дурака!..»
«Чего же было потом?.. Чего испугался Чап?..» – Сережка натянул одеяло до самых глаз, перевернулся на правый бок и задумался. В тепле, в тишине вчерашний день казался далеким прошлым, и все же растущее чувство тревоги, еще похожее на невнятный шум, беспокоило; Сережка пробовал убедить себя, что случившееся – обычное приключение компании Чапа, которых на его памяти было достаточно. Но сейчас чувство ненависти было слабее страха, пока необъяснимого, и Сережка чувствовал, что именно в этот момент, начисто выпавший из памяти, произошли события, чем-то угрожающие ему.
«А что я тому парню сделал, а он меня вон как звезданул!» – Сережка потрогал распухшую бровь; сильно надавил на нее пальцем, чтобы почувствовать ноющую боль и ему стало жаль себя. «Я бы попросил закурить и отошел. Я ни при чем!.. Но чего же тогда испугался Чап?.. Наверное, они того, в лисьей шапке, избили, и крепко! Он теперь заявит. Ну и пусть! Я тут ни при чем!..» Чем больше Сережка доказывал себе свою невиновность, тем грустнее становилось ему; не подняло настроения даже то, что его причастность к большой драке еще больше укрепила бы авторитет среди мальчишек. «Наверное, на комсомольском собрании будут обсуждать!» – Сережка вздрогнул от столь неожиданной, недавно совершенно фантастической, а сейчас уже естественной мысли и по инерции представил, как это будет проходить. Останутся все. И комсоргу не придется, как часовому, торчать в дверях, чтобы кто-нибудь не улизнул.
«Чего они будут говорить обо мне?.. Сейчас учусь без троек. Уроки не прогуливаю. Тут не подкопаешься. Полкласса и по поведению, и по оценкам хуже меня!.. Правда, все знают, что хожу с Чапом. Теперь скажут, что доходился или докатился! Больше им и сказать-то нечего…» По всем статьям Сережка отделывался легким испугом и почти сухим выходил из воды. «Надя! – словно вскрик, в памяти всплыли ее чуть-чуть раскосые, постоянно чему-то удивляющиеся глаза, окруженные бахромой желтоватых ресниц. – Как ей все объяснить?..» Сережка посмотрел на сероватый потолок и безо всякой связи со своими настроениями подумал, что мать собиралась в это воскресенье обклеить комнату.
Приглушенно задребезжал звонок. Сережка подумал, что ошиблись квартирой, и лишь немного приподнялся на локтях, но тут же мелькнуло: «Милиция!» Он много раз видел такое в кино. «А почему ко мне?.. У всех уже были… Так рано?.. Значит, там что-то произошло?..»
Звонок задребезжал коротко и требовательно.
«А может, им свидетель нужен? Чего я боюсь-то? Чего?..» Сережка вылез из-под теплого одеяла и сразу замерз; плохо повинуясь, рука нащупала рычажок запора, и, всегда послушный, он почему-то не двигался с места, а звонок все дребезжал; через дверь просачивался легкий шорох, доносилось глухое притопывание. Казалось, там, на лестничной площадке, собралось множество людей, приплясывающих от нетерпения.
Наконец в запоре что-то щелкнуло – дверь открылась. На пороге стоял Чап; за его спиной, шаркая о стену пузатой клеенчатой сумкой, тяжело отдуваясь, поднималась по лестнице соседка тетя Даша, грузная, страдающая одышкой.
– Дрыхнешь?.. Один?… – Чап хотел было спросить о чем-то еще, но шаги на лестнице ожидающе затихли.
– Ну и народ! – Чап посмотрел вверх по лестнице – тетя Даша поспешно зашлепала по ступенькам.
– Гвоздик, ты чего?.. своих не узнаешь? – Чап, потеснив ошеломленного Сережку, вошел в узкий коридорчик и шепотом спросил: – Ты один?
Сережка, даже в мыслях не допускавший, что всемогущий Чап, покровительство которого оспаривали многие мальчишки, так вот, запросто придет к нему, растерянно посмотрел на него.
– Ты один? – повторил Чап.
Сережка утвердительно кивнул; он не знал, как себя вести, путался в догадках, что может означать этот визит: «Избили того… Я – свидетель!.. Вот оно!..» – Сережка исподволь посмотрел на Чапа; здесь, в полумраке коридорчика, не бросались в глаза его фирменные джинсы; замшевая курточка, поглощавшая скудный свет, казалась черной, и лишь лицо как-то выдавалось вперед, оно было уставшим.
– Проходи. – Чап, словно был у себя дома, за плечи ввел Сережку в комнату; небрежно опустился на стул, достал сигареты, осмотрев тесную квартиру, похрустел пачкой, покрытой целлофаном, и не решился закурить.
– Чего вчера было, помнишь?
– Ну, драка вроде была, – пренебрежительно поджал губы Сережка и подумал: «Хочет выведать, что я знаю… Как бить тех, кто послабее, или скопом на одного – все вы здоровы! А как расхлебывать, сразу овечками становитесь…» Он уже ненавидел Чапа, гордился этим, и решил неопределенными ответами «ну, вроде» помучить его, и был уверен, что переиграет Чапа.
– Драка, говоришь?.. – Чап, сдерживая шумный вздох, напрягся всем телом, упер руки в колени и посмотрел на ботинки; снег на них подтаял и каплями стекал на пол.
– Ну, вроде…
– Понятно. – Чап потянулся было к шнуркам, но махнул рукой и с натянутой иронией обронил: – А нас вроде ищут!..
«И вроде найдут!» – чуть не сорвалось с языка у Сережки; он подавил усмешку, стащил с кровати одеяло и набросил на плечи, стянув его двумя пальцами под горлом.
– Ищут, Гвоздик! – многозначительно повторил Чап, всматриваясь в лицо Сережки.
– Пускай, – безразлично сказал тот.
– Тебя ищут!
– Я что?.. Я ничего… – заметно побледнел Сережка; по интонации, по взгляду Чапа он понял: есть во вчерашней истории что-то такое, о чем не помнит.
– Знаешь, так даже лучше… – прищурившись, Чап о чем-то задумался; ямочки на его щеках весело заиграли, и весь Чап, непривычно расслабленный, раскисший, выпрямился и, вжимаясь в спинку стула, сказал: – На суде это учтут.
– Что… учтут? – От волнения в горле у Сережки защипало; он, несколько минут назад решивший, что Чап уже не выкарабкается теперь, но что ему, на всякий случай, конечно, надо для авторитета немного поиграть перед Чапом и принять его условия, ему даже подумалось: «Надо искать другую компанию», но теперь его уверенность покачнулась; головная боль нарастающе вступила в виски; заломило переносицу. – Что?.. – ослабевшим голосом повторил он.
– Твое состояние и то, что первый раз напился – тоже. – Чап вытянул ноги; ботинки на толстенной подошве оставили на зеленом линолеуме две жирных полосы. – Как выпивал, помнишь?
– Ну!..
– Как закурить просил?
– Дальше! Что дальше? Не тяни, Чап? – умоляюще выкрикнул Сережка.
Чап, словно не слышал его, лениво потер подбородок, щелчком сбросил какую-то соринку с колена.
– Понимаешь, Гвоздик, теперь многое будет зависеть от тебя.
– Что зависеть? – Свободной рукой Сережка нащупал сзади дужку кровати; запотевшую ладонь успокаивающе остудило холодное железо. – Что?.. – Он уже не мог справиться с собой, и даже сами мысли о том, что он – в стороне, что он – всего лишь свидетель, не приносили облегчения. – Я же – ничего… Чего зависит?.. От меня чего?.. – сбивчиво проговорил он.
– Твоя судьба, Гвоздик. Да будь ты мужчиной, чудак. Ты же неглупый человек. Должен понимать: все уже случилось. Теперь надо не локти кусать, а искать выход.
– Да что случилось-то?.. Что? – почти с отчаяньем выкрикнул Сережка.
– Значит, и правда не помнишь. – Чап посмотрел в его страхом расширенные глаза и наигранно будничным голосом, опасаясь, как бы еще больше не напугать Сережку, заговорил – Помнишь, он тебе врезал? Ты вскочил и – снова на него. Я тебя успел перехватить. Комиссар ему культурно сунул. Данила добавил. Он согнулся. Ты увидел – головой меня в зубы. Выхватил у меня из кармана бутылку, и никто сообразить не успел, как ты его по голове…
– И что?.. – остолбенел Сережка.
– Он без шапки был. Комиссар шапку-то сбил!
– И что?.. – так, словно подошел к кромке крутого обрыва и заглянул вниз, повторил Сережка.
– Откуда я знаю? Мы тебя в охапку и ходу!.. Может, он очухался да домой пошел, а может, и… – Чап наполовину играл, но сама возможность такого нежелательного поворота событий вдруг выбила его из колеи; нервничая, он потянулся было к карману, где лежали сигареты; досадливо хлопнул себя по колену и с нескрываемой злостью посмотрел на Сережку.
– Врешь! Ты все врешь, Чап! – истошно завопил тот. – Я валялся, я встать не мог!..
Чап открыл рот и демонстративно покачал пальцем передний зуб:
– Это ты меня. Вывалится…
Одеяло соскочило с Сережкиных плеч, обнажая похожее на спичку тело, на котором, казалось, чудом держались длинные черные трусы.
– Нет! Нет! Нет! – Сережку затрясло как в ознобе. – Чап! Чап… – неожиданно осенило его, – это же ты… бутылкой! Ты!.. – Он нервно рассмеялся, потирая дрыгающиеся руки. – Зачем тебе приходить, если ты в стороне? Зачем?
– Данила, Комиссар, Бычок – все видели… – Чап несколько секунд помолчал, прикидывая, как бы поудобнее и покороче объяснить свое появление. – Ты, Гвоздик, нас в это дело не впутывай. Мы с Данилой и Комиссаром решили так: ты с Бычком шел под мухой. Кстати, ему папаша два дня назад пятерку дал с премии. Вы выпили и перебрали. Мы вас встретили, отобрали водку и повели домой. А по дороге вы к этому привязались…







