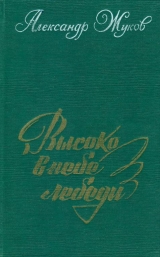
Текст книги "Высоко в небе лебеди"
Автор книги: Александр Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Автобус был пустой. В проходе между сиденьями лежали четыре мешка крупной картошки. Андрей Ильич перелез через них и устроился на предпоследнем сиденья.
– Ты чего туда забрался? – удивился шофер. – Садись поближе. Дорогой поговорим.
– Не до разговоров, – глухо отозвался старый мастер.
– Значит, наговорился.
– Что ты понимаешь в жизни, сосунок! – вскипел Андрей Ильич, внезапно подумавший, что вот и Пашка, Верин сын, наверное, растет таким же легкомысленным; он был последним, ему жилось легче, вот и не понимает Пашка, чего стоило матери поднять его на ноги; под сердцем шевельнулась боль за свою дочь, которая жила неподалеку, но редко наезжала в гости. – Эх, какие же вы все бесчувственные, – уже тише добавил старый мастер.
– На одни чувства нынче не проживешь, – в голосе шофера прозвучала снисходительная улыбка.
– Больно умные стали, – проворчал Андрей Ильич.
– Ну и сердитый ты, папаша. Учителем, случайно, не работал?
– Работаю.
– Теперь ясненько, почему ты такой обиженный.
– Ты не изгаляйся, ты лучше на дорогу смотри, – насупился Андрей Ильич, придвинулся к окну и до самого автовокзала не проронил ни слова. «Вот приеду, зайду в гостиницу и выскажу все этому гусю слезливому!» – с гневом и возмущением думал старый мастер и тут же возражал себе: «Чем я его удивлю? Он и так в с е получше меня знает. А переиначивает, передергивает, потому что хочет своего добиться хоть нытьем, хоть катаньем». И тут же возникал наивный вопрос: неужто он раньше об этом подумать не мог?.. И выходило так, что вселилась в душу Гузенкова такая сила, которая ослепила его, вопреки доводам рассудка, увела от семьи. «Где же тут правда?» – мучили Андрея Ильича сомнения. Да, Гузенков сейчас одумался, но не слишком ли дорогой ценой заплатили за его прозрение другие? Да и вообще, почему на земле так много всякой несправедливости, жестокости, войн, – всего, что противно самой природе человека?.. В заоблачные, космические дали уносили мысли старого мастера, и он с тех высот пытался посмотреть на землю и отыскать корни зла; и вдруг, словно иглой, кольнуло в сердце, что вот и сам он, Андрей Ильич, в глаза не видевший Пашки, поехал в эту командировку решать его судьбу… Холодная испарина прошибла старого мастера: «Гузенков-то по чувству голову потерял, а я… Выходит, я еще хуже».
Утром Андрей Ильич зашел к директору, как всегда тщательно выбритый, немного осунувшийся от переживаний; коротко рассказал о семье Гузенковых.
– Ну и что? – недоуменно пожал плечами директор. – Сейчас много таких семей. У каждого из нас бед и неприятностей хватает. Я на это место, сам понимаешь, не за красивые глаза сел. Люди сделали мне добро, и я должен отплатить тем же.
– Только не за чужой счет.
– Я тебя что-то не понимаю…
– Не виляй. Все понимаешь.
– Ну зачем же так сплеча-то рубить? – примирительно улыбнулся директор.
– Ты уж прямо, без обиняков скажи: Топор есть Топор. Я своего прозвища не стыжусь. Историю-то изучал: вся Россия топором защищалась и топором строилась.
– Красиво, конечно. Не знаю, правда, какая шлея тебе под хвост попала? Сиди лучше оставшиеся полгода спокойно. Так и для других лучше будет.
– Ты не стращай! – Андрей Ильич выждал секунду, чтобы побороть приступ раздражения. – В общем, так: в обиду парня не дам.
– А если он уже в милиции сидит?
– Возьму на поруки.
– Прославиться захотел. Заслуженный мастер профтехобразования берет на поруки трудного Гузенкова, – иронично поджал губы директор. – Будем вами гордиться.
– Щелкопер ты! – презрительно обронил старый мастер.
– Ну-ну, не очень-то! – приподнялся из-за стола директор, – не забывайте свое место.
– Спасибо, что напомнил. А то я в последнее время, и правда, о нем подзабыл.
Андрей Ильич угловато повернулся и вышел из кабинета.
1985
Высоко в небе лебеди
«На Ваш запрос от 10.03.83 г. сообщаем, что Гущин В. П., ваш родной брат, проживает в г. Калуге по адресу…»
Лена шепотом еще раз перечитала письмо, недоверчиво осмотрела конверт – не пошутил ли кто? Смеяться над сиротой грешно, только есть же такие люди, которые сначала сделают, а уже потом прикинут: хорошо это или не очень?
Она пальцем потрогала черные штампы на конверте и растерянно огляделась. Как быть? Столько дней и ночей ждала-ждала этого мгновенья, зажимая рот ладошкой, плакала в жесткую казенную подушку, чтобы не мешать подругам по комнате, забывалась лишь под самое утро, и в сторожких коротких снах к ней приходил брат. Сначала он был в форме летчика; высокий, худой, прикладывал руку к лакированному козырьку фуражки с голубым околышем: «Привет, сестрица! Наконец-то я нашел тебя…»
Но едва Лена раскрывала рот, чтобы ответить, сон кончался. А то приснилось, как возле общежития, на зеленой лавочке, где вечерами уединяются парочки, увидела она очкастого парня в нескладном клетчатом пиджаке и, сама не зная почему, приостановилась. Парень поднялся и робко спросил, где ему найти Лену из семнадцатой комнаты… Даже подруги проснулись от ее громкого вскрика: «Да это же я!»
За окном еще темно было, и она до семи часов просидела, обхватив колени руками, все переживала, что-не удержалась, а ведь могла бы и потише обрадоваться, а потом узнать, где живет, кем работает? Бывают же такие сны, она про них даже в газетах читала, которые сбываются.
«Наверное, он в науку пошел», – наконец решила она про брата, вспоминая, какой он весь не от мира сего, неловкий и близорукий; а то представлялось ей, что брат работает полярником или геологом, по два-три года находится в экспедициях, а когда ненадолго приезжает домой, то первым делом ворошит огромную пачку писем, и, может, по ночам она тоже является к нему, и брат силится, но никак не может рассмотреть ее лицо; уж такая чудная и коварная штука сны – запоминается даже цвет шнурков. У очкарика, Лена отчетливо это видела, ботинки были черные, стоптанные, шнурки – один серый, разлохматившийся, а другой новый, красный. А вот лицо… Лица она не видела.
По субботам и воскресеньям Лена старалась спать подольше; понимала, что сон не кино, не повторяется, но все же таилась в сердце надежда: вот увидит она лицо брата, а потом случайно встретит его на улице. Когда она поменьше была и после детского дома поступила в механический техникум, то допоздна ходила по улицам, бродила возле вокзалов и иногда до того настырно пялила глаза на парней, что они начинали заигрывать; воспитанная в суровой детдомовской среде, Лена отвечала какой-нибудь дерзостью и убегала, спиной чувствуя удивленные или циничные взгляды. И не могла она объяснить подругам, почему вечера напролет пишет письма в разные города, все ищет брата, вместо того чтобы пойти с парнем на танцы или в кино. Природа ни фигурой, ни мягким женским обаянием ее не обидела, правда, характер был жестковат, но это уж наложила свои краски сиротская жизнь, в которой ей приходилось рассчитывать лишь на себя да на добрых посторонних людей. Подруги ей сочувствовали, только им, выросшим в непрочных, но все же семьях, знавшим хотя бы мать, понять Лену было так же трудно, как сопережить чужое горе, если ты своего не испытал.
«…ваш родной брат, проживает в г. Калуге по адресу…» Лена, держа письмо прямо перед собой в вытянутой руке, осторожно, словно опасалась, что от малейшего толчка черные буковки соскользнут с белого листка и раскатятся по полу, вышла в коридор общежития; он, длинный, похожий на огромную трубу, которые варили на их заводе для газопроводов, пустовал. Ничего не поделаешь. Воскресенье. Все разбежались; кто к родственникам, кто на рыбалку, многие ушли в парк или в кино. Одна лишь глуховатая вахтерша тетя Маша вязала на спицах коричневый шерстяной носок.
Лена, словно в полусне, подошла к ней и с минуту, наверное, сбивчиво, бестолково объясняла, что наконец-то у нее нашелся родной брат, что годы почти безнадежных поисков не пропали впустую, что она верила…
Тетя Маша, или, как ее называло общежитовское население, тетя Наша, давно обвыкшаяся и с многими радостями, и с бедами, происходившими тут вот, на глазах у всех, выдвинула ящик стола, где у нее катался клубок, сложила туда спицы и недовязанный носок и громко, как все глуховатые люди, сказала:
– Ну чего, по сто грамм, что ли? – Потянулась к графину, плеснула из него в белую кружку. – Да, милая, отпились. Сухой закон. И хорошо, а то бы мы с тобой нахлестались по такому случаю…
Грубоватый юмор тети Маши, похожей на сухой репейник, до того в ней колюче торчало все в разные стороны: жидкие седые волосы, вздернутые плечики платья, сшитого, наверное, в эпоху синеблузниц, прямой острый нос, – этот юмор вахтерши, любившей крепкое словцо и в силу особого склада русской души не признававшей начальства, вернее, его власти над собой, словно подмазал петли у той сокровенной дверцы, что сдерживала накопившиеся горячие слезы. Лена будто лишилась опоры, рухнула на стул – казенный бланк тут же покрылся теплыми серыми точками.
– Не порть документ! – тетя Маша вынула письмо из ослабевших Лениных рук. – Сколько годков ждала, горемычная, все пустышки приходили, а тут враз сгубить хочешь. Да вытри слезы-то, вытри, так их, кулаками, чтобы слушались… Ну, теперь подыми голову. Да подыми, кому сказала! Вы тут каждый день да через день ревмя ревете. Кого жених бросил, у кого мужик запил да загулял… Хватит кукситься! У тебя же – праздник. – Тетя Маша повертела в руках письмо. – Вяжу вот на ощупь, а читать эдак еще не научилась. Так праздник, Ленка, или нет? Может, я не поняла чего?
– Все так поняла, тетя Маша, все так, милая, – Лена носом уткнулась ей в плечо. – А ну как там ошиблись?
– Выпей водички, не зря же я наливала, – тетя Маша шаркнула стаканом по столу, – да не сопливь платье-то, оно, можно сказать, выходное у меня. – Тетя Маша грубовато оттолкнула Лену. – Я берегу его, только когда в общество, на работу иду, тогда и надеваю.
– Ой, тетя Маша, ой, милая, меня такой страх берет, такой страх, – Лена судорожно глотнула воду, – вдруг ошиблись?!
– Да это же не писулька какая-нибудь, а форменный документ, – тетя Маша ткнула пальцем в письмо, – его ответственный человек подписал. Начальник. С него, в случае чего, и спросить можно. Чего ты, мол, сослепу, что ли, такие бумаги подмахиваешь?!
– Тетя Маша, вот как ты думаешь, какой у меня брат, а?
– В тебя, поди, красивый. Вон у тебя глазищи-то какие и нос пуговицей.
– Он высокий и, знаешь, такой… суровый.
– Нет! – вахтерша хлопнула ладонью по столу. – Суровых нам не требуется. У меня первый муж суровый был. Бывало, придет с работы, сядет к столу и молчит. Я то с одной стороны зайду, то с другой и никак в толк не возьму, то ли на работе что приключилось, то ли ужин не по вкусу пришелся. Так что лучше, милая, когда мужик улыбчивый. Такой и побьет, так вместе потом посмеетесь.
– Тетя Наша, у меня же брат нашелся, а не муж, – укоризненно заметила Лена.
– А я тебе про то и говорю, что бояться нечего. Надо песни петь да от радости пятками по полу стучать.
– Это еще зачем?
– Чтобы все вокруг знали, что ты сегодня в настроении.
– Тетя Маша, я сегодня такая, такая… Даже не знаю, что делать. Да чего я с тобой рассиделась, на вокзал надо бежать! Тут до Калуги-то часов десять. – Лена потянулась за письмом, но вахтерша властно накрыла его ладонью:
– Обожди, девка, не мельтеши. – Тетя Маша подвигала торчащими плечами. – Ведь оно, действительно, и ошибиться могли. В войну вон с похоронками путали. А сейчас… сейчас я на каждого, кто входит, гляжу, своих всех в личность знаю, а на той неделе двух чужих гуляк пропустила. Прямо какое-то затмение нашло. А тут проверка из парткому. Так они со второго этажа из окна сиганули. Не спеши, Ленка, а то взбаламутишь человека зазря.
– Твоя правда, тетя Маша. – Лена взяла письмо, вчетверо сложила его и спрятала в конверт. – Три года назад, когда еще в училище училась, из Красноярска весточка пришла. Я сразу как помешанная сделалась. На вокзал прямо в тапочках, хоть зима была, кинулась. Девчонки догнали, силой утащили в общежитие. Всю ночь я бредила. Девчонки мне денег на самолет собрали. А у меня к горячке простуда прибавилась, в тапочках ведь, без чулок, по морозу бежала. Кто-то из них мне приятное сделать хотел, дал телеграмму по адресу, чтобы брат сам приехал… Мне потом недели полторы ответ не показывали. Потом я еще целый месяц проболела. Ни есть, ни спать, ни пить не хотелось. После этого полгода никуда писем не писала. А те ответы, что по старым запросам приходили, девчонки сами читали. Жалели меня…
Вахтерша много повидала на своем веку, два года назад похоронила мужа, потом сына, он шоферил на Алтае и зимой заплутал в степи; казалось бы, должно было сжаться, остыть ее сердце, раз выдюжила столько, иначе разорвалось бы оно, только в том-то, видимо, и кроется особая загадка чувствующего человеческого сердца, что нежнее и выносливее оно становится от невзгод, а холодное, каменное, глядишь, на первой же кочке надрывается, особенно если вдобавок гордыней заражено. Тетя Маша, днями и ночами напролет вязавшая носки, в которых бегали не только ее внуки, но и добрая половина общежития, не любила рохлей и растяп, но если сталкивалась с подлинным горем, тут ее заменить было некем.
– Вот что, Ленка, – вахтерша достала спицы и недовязанный носок, – ты зря не круговерть. Напиши ему письмецо. Да без ахов и охов. Человека не только к беде, но и к радости готовить надо. Я так думаю, он как прознает про тебя, тут же сам прилетит. А уж мы ему и комнату завсегда найдем, а если холостой еще, то и невесту приищем. У нас их тут – куры не клюют и вороны не таскают. Сколько ему годков-то?
– Тетя Маша, да я же вам столько раз рассказывала…
– Думаешь, я и помню. Будь у меня голова, как Дом Советов, я бы вахтером не сидела. – В ее руках засверкали быстрые спицы. – Вот еще на вязанье ума хватает, и то рада.
– Если я не ошибаюсь, он года на два старше меня.
– Уже совсем взрослый. Хотя мужики, они – народ особый. Некоторые и в пятьдесят лет… Да чего я тебе болтовней про этот народец никчемушный голову забивать буду. Иди, Ленка, проветрись. А меня боле не слушай, а то я тебе такого наплету, до самой пенсии замуж не выскочишь!
«Что ж ты, чудная тетя Наша!» – вставая, улыбнулась Лена; матери она совсем не помнила, и в детдоме, бывало, ляжет спать, глаза закроет и, чтобы хоть капельку теплее стало жить на свете, представит, что ее мать похожа на самую добрую воспитательницу тетю Фаю; правда, немного обидно было от того, что лежат рядом подруги и тоже видят своей матерью тетю Фаю. В училище она влюбилась в учительницу литературы, высокомерную, начитанную Мириам Абрамовну, ходила за ней по пятам, провожала до самого дома, как собачонка; замкнувшаяся на себе и чтении французских романов, старая дева Мириам истолковала поведение Лены по-своему.
– Не бегайте за мной, четверки по литературе вам все равно не будет, – как-то при всех сказала она. После этого у Мириам Абрамовны пропали из сумки вторые очки, а без них она дальше двух метров не видела и была вынуждена просить кого-нибудь из ребят, чтобы ее проводили до дома, одной ей трудно было переходить улицу; из Лениной группы все под разными предлогами от этой обязанности увиливали, все знали, что исчезновение очков – дело рук Кольки Мазина, главного защитника униженных и оскорбленных.
Вот и в заводском общежитии Лене приглянулась неприветливая с виду вахтерша, у которой не было любимчиков, она ко всем относилась как к своим детям. Ей первой в этом доме и поведала Лена свою судьбу, которую знала из уст воспитательницы тети Фаи, она принимала ее в детский дом, и из рассказов Лениных односельчан запомнила следующее: мать Лены дважды выходила замуж, но все неудачно; отчаявшись, уехала из города в деревню к матери, где влюбилась в сельского учителя, который лет двадцать с женой прожил, но детей у них не было. Учитель перебрался жить к матери Лены, через год у них родился сын, а потом – она, Лена. Но жена не давала развод и все писала письма в роно и в райком, к ним то и дело приезжали разбираться. Учитель не выдержал, запил, а потом его нашли в риге, он висел на одной из жердей, на которых снопы для сушки раскладывают. Ленина мать как узнала об этом, упала замертво, а к вечеру у нее кровь горлом пошла.
На похороны приезжала то ли подруга матери, то ли дальняя родственница, то ли тетка, в деревне толком никто не знал, она сказала: «Парня я подниму, а что с девкой делать, сами думайте», – взяла Кольку и уехала. Лена пожила у соседей, у них своих детей трое было, а больше желающих приютить ее не нашлось; соседи помыкались с ней, помыкались, да по совету председателя колхоза и сдали ее в детский дом.
Тетя Маша выслушала тогда ее историю внимательно, а потом сердито притопнула ногой:
– Чего глядишь-то? Думаешь, сейчас слезу пущу и обе расплачемся? Нет, девка, тебе не горевать, а радоваться надо, что жива, здорова. Люди добрые выходили, вынянчили. Родители-то до той поры нынче и нужны, пока ложку в руках держать не научишься…
Вот и теперь тетя Маша вязала себе носок и словно не замечала Лену.
– Тетя Маша, – она протянула ей письмо, – я у вас его оставлю, а то ненароком потеряю.
– Оно и правильно, – вахтерша сунула письмо в стол, – нечего документ зря с собой таскать. Документ, он что?.. он сохранность любит. – Спицы в ее руках замелькали с такой скоростью, что казалось, они живут и движутся сами по себе, а негибкие старческие пальцы еле удерживают их.
Лена выбежала на улицу. Была середина сентября – ни холодно, ни жарко. Куда пойти?.. Едва к остановке подкатил автобус, Лена впрыгнула в него и доехала до вокзала. Она и раньше бывала тут не раз. В расписании значились только два проходящих поезда до Москвы, а остальные – местные. Раньше Лену больше привлекала «Карта железнодорожных путей СССР», висевшая поблизости от двери с табличкой «Начальник вокзала». Глядя на карту, она гадала: куда же судьба забросила ее брата? Может, в Джезказган, в Стерлитамак или Баку, а может, и на север, в Хабаровск или Читу?.. И вот оказалось, что живет он почти под боком, в Калуге.
Лена просмотрела расписание – прямые поезда на Калугу не шли. В справочном ей посоветовали ехать до Москвы, а оттуда – электричкой до Калуги. Можно было ехать и автобусом с пересадкой в Туле. Лене хотелось с кем-нибудь посоветоваться. Но с кем? В справочном сидела девица с глубоким декольте, с тонко подбритыми бровями; с ней, наверное, можно было поболтать о моде на прически, платья, кофточки. Тут бы она оказалась незаменимым собеседником. Да и вовсе не разговор был нужен Лене, а понимание и одобрение всего, что она делала и чем жила до сих пор, пусть молчаливое, но искреннее; вздохи, сожаления ее и раньше только раздражали, она мгновенно замыкалась и становилась дерзкой, отчего сама потом страдала и плакала, но не могла себя сдержать, когда какая-нибудь расфуфыренная дамочка из роно или райкомовской комиссии приезжала к ним в детский дом и, впервые увидев их, сотни две, на первый взгляд почти одинаковых, обездоленных, начинала перед ними лебезить, заискивать; раздавая подарки или вручая грамоту за хорошую учебу, примерное поведение, прилежание к труду, она вспоминала своих детей, ухоженных и, наверное, избалованных, невольно сравнивала их судьбы и краснела от стыда за свое благополучие и за нелепые куклы и конфеты, которые привезла в картонных ящиках и от которых жизнь детдомовцев не становилась слаще. У таких гостей Лена почти выхватывала из рук подарки и, несмотря на угрожающие движения черных бровей директорши, бегом кидалась на свое место, а потом в коридоре вместе с подружками, плача, сосала конфеты, поскольку хотелось сладкого, и оставшиеся прятала под подушку, чтобы еще дня на два продлить это мучительное удовольствие. Лена спокойнее относилась к шефам с обойной фабрики. Заводские не суетились, не устраивали церемоний вручения, они выкладывали подарки на стол и так же незатейливо, как тетя Маша, грубовато приглашали: «Налетай, подешевело!» Не церемонясь, они одергивали тех, кто хотел прихватить два кулька, подталкивали вперед стеснительных. На прощанье шефы с обойной фабрики говорили: «Выучитесь, приходите к нам пополнять рабочий класс!» Потом в большинстве школьных сочинений появлялось: «Выучусь, пойду пополнять рабочий класс».
После восьмого класса Лена, хотя троек у нее не было, подала заявление в ПТУ и очень гордилась этим. Новая жизнь и пугала и манила. Директорша целый час, наверное, держала ее в своем кабинете, напутствовала, советовала; чтобы не забыть чего или сделать не так, Лена часть ее советов записала в школьную тетрадь. Но уже тогда она понимала, что доброе, самое сердечное отношение не заменит того, что называют родным. Она много раз и на разные лады повторяла: родные, родственники, родители, – но эти слова были для нее совершенно чужими, словно из другого языка, поскольку для нее, Лены, ничего не значили, но все же они притягивали, как таинственный магнит.
Когда училась в ПТУ, Лена в первую же осень, едва получила стипендию, отправилась в деревню Калачово, где родилась. Добиралась туда долго, сначала поездом, потом автобусом и на попутке. Шофер, скуластый парень, месяц назад вернувшийся из армии, был родом из Калачово, но про семью Лены ничего не слышал. Он остановил машину возле крохотного домика, двумя окнами наперед. «Если бабка Захариха ничего не знает, – сказал он на прощание, – то никто тебе ничего не скажет. Тут из старожилов человек пять осталось. Остальные все пришлые». И предупредил, что через два часа назад поедет, повезет картошку на сдаточный пункт, и при желании может подбросить до райцентра.
Бабка Захариха с полминуты, наверное, не мигая, смотрела на Лену, потом махнула рукой:
– Заходь в дом!
– Я вам еще не сказала…
– Да признала я тебя, признала, лупоглазую. – Захариха, охнув, покрепче ухватилась темной сухой рукой за перильца и почти на коленях заползла на крыльцо; распрямилась. – Все вы, Гущины, испокон веков такие, коротенькие да лупоглазые. А ты, значит, в городе живешь. Государство, значит, тебя вырастило.
– Сейчас в училище поступила. – Лена не знала, как себя вести, что говорить. В доме Захарихи, кроме стола и двух табуреток, никакой мебели не было; от насквозь прокоптившихся за долгие годы неоклеенных стен, щелястого скрипучего пола веяло чем-то древним, стародавним.
– Ты вот что, Гущиха, садись к свету, чтобы я тебя видела, да рассказывай, пошто приехала?
– Посмотреть, где родилась, – еще больше смутилась Лена.
– А братец почему не заглядывает? Он же первенцем был. На годок тебя постарше, – что-то припоминая, Захариха пожевала губами, – он где?
– Не знаю. А он тут не был?
– Ни разу не видала. Был бы живой, приехал бы!
– Да как вы так можете?! – порывисто вскочила Лена и тут же расплакалась.
– Поплачь, дочка, поплачь. Моя изба давно слез не видела. Меня за бабу не признает. То вон половицу провалит, то бревна в стене раздвинет так, что кулак просунешь. За мужика, видать, почитает. На ремонт намекает. А я в плотницких делах ни бельмеса не соображаю. Да и сил нету. Я вон на крыльцо, сама видела, на бороде влезаю.
– Зачем же вы так, зачем?
– Да не тебя, его стыжу. Человек должон на родине побывать. Должон знать, где у него пупок завязался. Ты вытри глаза-то, успокойсь. Я тебя на кладбище свожу. Покажу могилки твоих родителев. Там и поплачешь. Там положено плакать.
Кряхтя и охая, Захариха спустилась с крыльца и, согнувшись, словно что-то искала в спутанной, выгоревшей за лето траве, мелко засеменила по тропинке. Лена пошла за ней.
– Ничего не дрогнуло, дочка? – Захариха неожиданно остановилась, и Лена чуть не наскочила на нее. – Сердечко не дрогнуло? – пытливо посмотрела на нее Захариха.
– Не понимаю, о чем вы?
– Да ведь против дома стоим, где ты на свет появилась. Дарья Кукушкина, царство ей небесное, роды-то примала.
«Неужели тут?.. мой?» Лена посмотрела на дом с голубыми наличниками, еще крепкий, обшитый тесом, покрытый дранкой, потемневшей от дождей.
– Тут теперичи Бобрук живет, – пояснила Захариха, – с Украины приехал. Колхоз ему дом перетряхнул, тесом одел. Его ведь твоя тетка задарма Притулиным отдала, потом его Струковы взяли… Так и ходил по рукам. Одним словом, ничейный – ничейный и есть.
Лена глядела на дом, но в памяти ничего не осталось такого, что было бы связано с ним. «Брат на год старше. Может, он помнит. Рассказал бы мне. Может, и я что-то бы вспомнила. Да и тетка… оказывается, у меня еще тетка есть!» – обрадовалась она: есть у нее на свете еще один родной человек. Угадав ее мысли, Захариха подсказала:
– Тетка не родная тебе, двоюродная. А ты, я гляжу, по деревне как слепая идешь, ничего не признаешь. Да и где тебе помнить, ты же тогда с наперсток была. Мать, бывало, в люльку тебя положит, она была на пружине к потолку привешена. Это уж твой родитель постарался. Большой придумщик был. Тебя раз качнут, ты и качаешься, качаешься. Глазки-то на потолок таращишь. А там твой родитель цветную картинку прилепил, прямо как в церкви: голубое такое небо и по нему летят белые лебеди. Ты все ручонки к ним тянула.
– Вот оно откуда! – тихонько засмеялась Лена. – Они мне все снились и снились. Я уж измучилась, гадая, где их видеть могла? – И уже теплее поглядела на дом. Ей захотелось войти в него, посмотреть на потолок; может, в нем маленькая дырочка осталась от гвоздя, к которому люльку подвешивали.
– Пошли, дочка, пошли, – дернула за руку Захариха, – там чужие люди живут. У них своих забот полон рот. Да и чего им лишний раз напоминать, что у дома есть другие хозяева, а они вроде как одежду с чужого плеча сдернули. Пусть приживаются. Может, сроднятся с этим местом. Чего им зазря по белу свету мыкаться.
– Вы мне про маму расскажите.
– Вот придем к ней, тогда и расскажу.
Возле кладбища Захариха остановилась, что-то пошептала себе под нос, перекрестилась и повела Лену по узкой тропинке между могилами. Кладбище было невелико, и, не будь разросшихся ив, его можно было бы окинуть взглядом, даже не привставая на носки. В левой части возвышалась полуразрушенная церковка с покосившимися, почерневшими куполами. И все же запущенность была кажущейся, большинство могил обихожено, очищено от травы, кресты покрашены.
– Вот она, – Захариха кивнула на земляной холмик с невысоким железным крестом. Он не был так ухожен, как другие, но чувствовалось, что весной его кто-то подровнял.
– Я тут, рядышком посижу, – Захариха засеменила к лавочке.
– Кто за ней ухаживает?
– Мы, старые люди, всех родными почитаем. За всеми и ухаживаем.
Лена, как ее приучили еще в детском доме за каждое доброе дело говорить «спасибо», хотя слово это уже на языке крутилось, не сумела его произнести и лишь с благодарностью посмотрела на Захариху; она сидела на зеленой лавочке и то ли что высматривала в глубине кладбища, то ли задумалась о чем. Лена снова поглядела на могилу, но уже с пугливым удивлением, поскольку в детстве робела от одной мысли: где-то есть могилы ее родителей; Лене думалось: жили они, жили, а потом словно растворились в воздухе и превратились в теплый солнечный свет; словом, были они, и вдруг их не стало; только и сохранился от детства светлый странный сон: высоко в небе летят белые лебеди, мерно машут огромными крыльями, а Лена лежит на лесной поляне, и кажется ей, что вот-вот и у нее появятся крылья, взмахнет она ими и полетит вслед за лебедями… Повзрослев, она долго гадала: почему не снятся ни скворцы, ни голуби, а эти сильные белоснежные птицы, они же в ее крае не живут, да и в другом небе Лена увидеть их не могла, поскольку из деревни Калачово они никуда не выезжали; про этот сон она рассказывала и воспитательницам, и подружкам – любительницам разгадывать чужие сны, но никто не мог толком объяснить его, детдомовское население больше любило слушать и рассказывать праздничные житейские истории и о родителях вспоминало только хорошее, а если такого не находилось, то его тут же придумывали или брали напрокат, благо младшим группам по наследству от старших передавались трогательные истории об отважных летчиках, погибших при выполнении особо ответственного задания, об артистах, погибших во время исполнения головокружительных трюков, о красных командирах, погибших… Лена тоже два года выдавала свою мать за известную исполнительницу цыганских песен, умершую от разрыва сердца во втором отделении концерта – был и такой душещипательный сюжет в устных детдомовских летописях, и потом долго стыдилась этого, как и легенды об отце, – его она выдавала за водолаза, задохнувшегося при спасении океанского корабля. А сейчас вспомнила это и улыбнулась. Мать поняла бы ее и простила святую детскую ложь.
Лена опустилась на колени, вырвала несколько жестких ростков вьюна, тянувшегося к кресту, сняла с холмика пожелтевшие листья, оглянулась на Захариху, словно хотела посоветоваться: то ли делаю?
– Правильно, дочка, все так. Поди ко мне, сядь рядышком, я тебе про мать расскажу.
Лена послушно опустилась на лавочку.
– Я с пеленок ее знаю. Очень она учиться хотела. Только вот не пришлось. Хотелось ей в городе жить барышней. Ты уж, дочка, извиняй, что я тебе без прикрас все выкладываю. Сказочку наплести языку не тяжело, а ушам слушать ее – одна приятность. Только тебе, дочка, как я соображаю, другое надо. Ты свои корни ищешь. Себя, значит, понимать учишься.
В город матушка твоя и в школу потому рвалась, что другой жизни хотела. Она, бывало, возьмет ножницы, из бумаги узорчатых салфеток нарежет, разложит их по подоконникам, по столу, на стенке повесит. Ходит по дому и все на них любуется. Добрая была, чего ни попроси, все отдаст, а вот с мужьями ей не повезло. Один только сердцем к ней пристал, учитель наш. Он из городских был. Да вот у нас прижился. Уж на что у наших баб языки злые, а когда он в ваш дом жить перешел, никто слова не сказал. Знали, что так должно было случиться.
Захариха замолчала. Лена снова посмотрела на могилу матери.
– А вы знаете, как они… Кем они хотели меня видеть?
– Не знаю, дочка, а врать не хочу. А вот братца твоего… про него говорили: «Должен по инженерному делу пойти». Братец твой игрушки не шибко любил. Их, оно конечно, и не было особо. Но он все с какой-нибудь железкой возился. У него любовь к железу была. Пойдем, дочка, могилку твоего батюшки навестим. Положили их в разных местах, потому как не обвенчаны были. А законную его жену, это народ так рассудил, между ними захоронили. Так ведь оно и в жизни было.
Захариха, кряхтя и охая, поднялась.
– Вон туда погляди! Там твоя бабушка захоронена. Крепкая была женщина. У нас ее Законницей звали, потому как шибко правду любила. И если уж она чего посулила, в лепешку расшибется, но выполнит…







