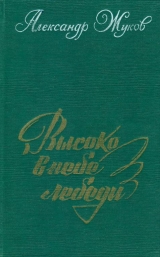
Текст книги "Высоко в небе лебеди"
Автор книги: Александр Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Они долго ходили по кладбищу. Захариха рассказывала Лене о всей ее ближней и дальней родне; ее насчиталось одиннадцать человек, и, наверное, где-то, разлетевшиеся по разным уголкам страны, жили троюродные братья и сестры, которые и не подозревали о ее существовании. А Лена после рассказов Захарихи и посещения кладбища словно бы обрела особую внутреннюю силу, поняла, что все эти годы жила на этом свете не дичком, семя которого неизвестно из каких краев заброшено было сюда гулякой-ветром, все эти годы поблизости с ней жили люди, родные ей по крови, просто судьба сложилась так, что разорвалось звено в родовой цепи, и только белокрылые лебеди в снах несли и несли ее на родину. И потому еще сильнее захотелось ей разыскать брата, который, кто знает, может, и название деревни запамятовал, тоже ведь невелик был; может, живет и мучается незнанием, считая себя безродным и одиноким.
Вот тогда-то и решила Лена, что, пока не разыщет Николая, о личной жизни и думать нечего; не могла она представить себя счастливой и благополучной, пока не узнает, где брат, что с ним, пока не свозит его в Калачово, не покажет их дом и могилы матери и отца, пока не расскажет обо всем, что узнала от Захарихи.
Лена долго бродила по вокзалу. Здесь, в суете, которая и происходила-то, может, вовсе не от скопления людей, истомленных ожиданием поездов или нетерпением перед близкой встречей, а по причине того, что тут на какое-то время соединились столь непохожие судьбы, доросшие до своего радостного или болевого пика или вовсе приостановившиеся на распутье, как сказочные путники перед камнем, на котором написано, что ждет тебя, если пойдешь прямо или свернешь на другую дорогу; здесь, на вокзале, Лена чувствовала себя естественнее, поскольку излучаемое им поле, в котором столь причудливо переплелись обнаженные радости, ожидания, тревоги и беды, написанные на лицах пассажиров, как бы совпадало с ее внутренним полем, в котором тоже слились воедино и ликование, и страх, и надежда, что сейчас она не обманется в своих ожиданиях, ибо сколько же их, несбывшихся, стоит у нее за спиной, мешают, беспокоят, ведь есть же предел и терпению, и надеждам, и неизвестности.
Лена походила, походила возле справочного, а потом все же узнала, сколько стоит билет до Калуги поездом и автобусом, и решила: лучше добираться поездом – надежнее и дешевле, да и кто знает, как там, в Туле, с билетами на Калугу. Время осеннее, сейчас много автобусов снимают с линий для перевозки пассажиров на сельхозработы; вчера тридцать пять человек из седьмого цеха ездили на уборку картофеля.
В углу, где располагалась вокзальная почта, у высокого столика стоял пожилой мужчина в кожаном пальто, и, покусывая колпачок белой авторучки, о чем-то думал. Лена подошла к окошечку, купила конверт и бумагу. В общежитии тетя Маша наверняка рассказала о ее письме; только придешь, девчата кинутся поздравлять, разве там напишешь письмо. Лена облокотилась на стол и крупно вывела: «Здравствуйте, Николай!» И неторопливо, коротко написала о том, как она вот уже несколько лет ищет брата, потом – о матери, отце, о деревне, о доме, о своем житье-бытье, в конце дала адрес общежития; прочитала письмо, все в нем было изложено ровно, без надрыва и излишних восторгов.
«Вот встретимся, тогда!..» – у Лены не хватало воображения представить, что произойдет, когда они увидят друг друга, конечно, подобные встречи не раз показывали в кино, только все эти взмахи руками, учащенное дыхание и горящие глаза не передавали и десятой доли тех сложных чувств и настроений, из которых складывалось лишь ожидание встречи, а в момент ее, как с затаенным страхом думала Лена, могло произойти такое, что… Да у нее от одного лишь предощущения встречи голова кругом шла и ноги переставали слушаться.
Лена провела языком по сладковатым кромкам конверта, вспомнила, что адрес оставила у тети Маши, и заспешила в общежитие.
Подруги уже обо всем знали, но с поздравлениями не торопились, понимали, что могла произойти ошибка, и каково тогда будет Лене. Но по их сдержанным улыбкам, взглядам она видела, как они рады за нее, была им благодарна и, поскольку делать в тот вечер ничего не могла, села на койку, сложила ноги крест-накрест, как любила сидеть в детстве; в детском доме зимой бывало холодно, а в такой позе ноги не только согревались быстрее, но и дольше удерживалось в них тепло, и, привалившись спиной к стене, сказала:
– Девчата, а все-таки случается так, что мечта сбывается…
Никто не понял, Лена это утверждала или спрашивала, но гадать не стали, притащили гитару и до позднего вечера пели; когда песня была грустная, щемящая, плакали, когда озорная, подталкивали друг друга и опять же смеялись до слез.
Всю неделю Лена томилась ожиданием ответа, из цеха по нескольку раз за смену звонила вахтеру: не спрашивал ли ее кто, не было ли телеграммы, и даже на почте справлялась.
«Может, он в командировке или в отпуске. А может, в больницу попал?» Стоило ей так подумать, как Лена еле сдерживала себя, чтобы тут же не кинуться на вокзал.
«Может, опять ошибка?» – остужала она себя, хотя в ошибку уже не хотела и не могла поверить. Она и так не была в теле, а тут и вовсе осунулась, глаза запали… «Может, с ним еще в детстве что произошло? – тревожно думала она. – И вот теперь передо мной стесняется показаться инвалидом. Только ведь ты, Коленька, мне любой нужен. Любой! Я за тобой ухаживать буду». Ей виделось, как брат ее катается по комнате в инвалидной коляске, а на столе лежит ее письмо, читаное-перечитанное; он подъедет к нему, подержит в руках и, поборов искушение, на место положит. «Ты уж не сердись, сестренка, – подумает, – выстраивай свою жизнь. Не хватало еще, чтобы ты столько бед перенесла, да еще я бы тебе обузой стал. Живи, сестренка, живи, милая, а меня нет. Я уж привык жить один. Перебьюсь!..»
Лена видела и крохотную комнатку, где жил ее брат, в ней стоял всего один стул для сердобольной старушки, ухаживавшей за ним, обои в ней были серые, давно утратившие краски, сквозь такие же, запыленные, окна с великим трудом, словно сквозь грязную марлю, сочился рассеянный дневной свет. Лена представляла, что вот придет она к нему, тут же нагреет ведро воды, возьмет тряпку побольше, и через два дня комнату будет не узнать: стекла заблестят, стены засверкают новыми обоями, на кухне все будет перемыто и перечищено. А потом она возьмется за лечение брата. Лена много раз читала в газетах: врачи научились и кости наращивать, и даже сердце пересаживают; надо лишь хорошего специалиста найти, и она, Лена, по всем клиникам и институтам такие письма напишет, расскажет о своей судьбе, о том, как многие годы разыскивала брата, и тут уж надо совсем без сердца быть, чтобы не откликнуться на ее просьбу. А если деньги понадобятся, так они у нее есть: детский дом приучил довольствоваться самым малым; когда она поступила в училище и первый раз получила стипендию, то два дня ходила по магазинам и копейки не потратила, просто глядела на вещи и шалела от одного лишь ощущения, что может купить себе и сумочку с длинной ручкой, чтобы можно было носить ее, как все модницы теперь делали, через плечо, и щетку для волос, ручка которой была украшена голубыми незабудками; но сейчас, когда Лена второй год работала на заводе, она по-прежнему жила скромно, и если бы взялась записывать свои расходы, то, исключая такие крупные покупки, как пальто или сапоги, она не поднялась бы выше той суммы, которую тратила в училище. Поэтому за два года Лена скопила деньги и теперь была рада этому, поскольку именно они, как ей думалось, и могли спасти брата.
Миновала еще неделя, а известий все не было.
«Что делать? Что делать?» – у Лены все из рук валилось.
– Не терзай себя больше, съезди, да и дело с концом, – почувствовав неладное, посоветовала ей тетя Маша. – Если чужой человек, извинишься. А письмо, оно и затеряться может. Хватит, девка, гадать, поезжай.
На следующий день Лена написала заявление на отпуск. А потом зашла в сберегательную кассу и сняла все деньги – 856 рублей. Кассирша выдала их одними пятерками, поэтому пачка получилась настолько крупная, что Лена не знала, куда ее спрятать. Нести деньги в сумочке было опасно, она не раз слышала, что сумочки разрезали ловкачи, стоит чуть зазеваться, и делали они это столь быстро, что владелец и почувствовать ничего не успевал. Лена решила, что пойдет домой пешком; разложила деньги по карманам, наивно рассудив, что если из одного кармана деньги у нее украдут, то в трех других уцелеют. От этой мысли она немного повеселела, поскольку была похожа на цыпленка, который прячет голову под крыло, думая, что тем самым спасается от опасности.
Но вскоре беспокойство ушло, уступив место радостному чувству, что теперь она, Лена, приедет не с пустыми руками и этот ее приезд повернет судьбу брата, вернее, соединит их судьбы и направит по новому руслу.
В тот же вечер она сбегала на вокзал, купила билет и дала брату телеграмму, что через день приедет сама.
Лена даже не знала, спала она в поезде или нет; в Москву приехала под утро, тут же побежала разыскивать вокзал, с которого шли электрички на Калугу.
Словно во сне, сошла она на перрон и сразу забыла о том, что в сумочке лежат у нее завернутые в полиэтилен деньги. Чтобы не плутать по городу, взяла такси, и, когда машина остановилась возле желтоватого четырехэтажного дома с дощатым навесом над входной дверью, у нее даже слезы на глаза навернулись: «Так я и знала!..» Она снова увидела крохотную комнату, серые обои и грязные стекла… Вылезла из такси и, прижимая сумку к животу, пошла к дому.
– Эй, барышня, а за проезд кто платить будет?! – остановил ее недовольный голос шофера.
Она вернулась, протянула ему трешку и уже быстрее зашагала, а потом побежала к дому. Возле десятой квартиры остановилась и несколько раз поднимала руку к белой кнопке звонка, но все не решалась; вдруг неосторожно коснулась ее и услышала за дверью короткую трель. Потом наступила тишина. Раздались шаркающие шаги. Дверь приотворилась.
– Это ты? Приехала, значит, – коротконогая старушка в синем фартуке отступила в глубину коридора.
– Я… Я не ошиблась?
– Проходи, проходи. Я вот хотела на базар сходить, да, думаю, только уйдешь, а тут ты приедешь. Неудобно получится. – Голос у старушки был тихий, будничный. Лена чуть-чуть успокоилась, вошла в коридор.
– Колька-то на рыбалку с друзьями укатил. К вечеру будет.
– Как… на рыбалку? – Лена подумала, что, может, ослышалась или квартирой ошиблась.
– Давно они собирались, да вот собрались. Он хотел было остаться, да потом подумал, что ведь ты можешь и вечером приехать, а он к тому времени будет.
– Да, конечно, – смутилась Лена. – Я бы предупредила, но сама не знала, когда приеду.
– Ты поставь сумочку под вешалку и на кухню проходи. Мы сейчас чайку сообразим… Проходи, дай я тебя на свету посмотрю. Да, вылитая Гущина. Колька, тот больше на отца похож.
Старушка прошаркала к плите, зажгла газ под зеленым чайником и присела напротив Лены.
– А вы?..
– Я – твоя двоюродная тетка. Кольку вот вырастила, а тебя не подняла бы. Он у меня техникум закончил, цветные телевизоры ремонтирует. Я почти не вижу его. Все или на работе, или у друзей пропадает.
– А я…
– Да знаю, – остановила ее старушка, – из письма все знаю. Колька его мне вслух читал. Не шибко, вижу, живешь. Квартиру-то не скоро получишь?
– Не знаю. Я ведь даже еще на очередь не вставала.
– Понятно. Только ведь я тебе прямо должна сказать, что у нас, конечно, две комнаты, но Колька собирается жениться, так что самим тесно будет.
– Да что вы, да я ведь… – Лена залилась липкой краской стыда, поднялась.
В наступившей тишине хорошо было слышно, как, прыгая, задребезжала крышка на закипевшем чайнике.
– Чайку-то не попьешь? – старушка выключила газ и спрятала руки под фартук.
– Нет. Спасибо. – Лена подхватила сумку и, поскольку дверь была не закрыта, вышла.
– Ну, уж это твое дело, пить чай или не пить, – сказала ей в спину старушка.
Лена с час, наверное, пешком шла до вокзала, плутая по узеньким калужским улочкам; ни слез, ни боли в душе не было; ей казалось, что опять произошла ошибка, просто совпали фамилия, имя, но старушка не захотела ее расстраивать. Она села в электричку, бросила сумку на верхнюю полку, прижалась к стенке и прикрыла глаза.
Ее укачало, и через час она заснула, и приснился ей давний знакомый сон, что лежит она на лесной поляне, положив голову на замшелую кочку, а высоко в голубом небе, мерно взмахивая сильными крыльями, белым клином плывут лебеди.
1984
Воскресные поездки за город
В воздухе парило.
Андрей Ильич лежал на спине; закусив стебелек горчащей травинки, смотрел на редкие глыбастые облака и думал о том, как странно устроена жизнь, вернее, человек; – город, страхи и горести, навалившиеся в последние годы, хоть на три часа, но могли бы остаться там, вдалеке, но он притащил их с собой, как улитка свою жесткую неуклюжую раковину; забыться бы на мгновение и очнуться тем, прежним, которого почти забыл, тогда можно бы вытянуться в струнку и, как не раз делал в детстве, катиться по лугу, катиться до тех пор, пока не уткнешься в мягкую влажную кочку. Андрей Ильич, располневший, какой-то водянистый – сними с него одежду, и он тут же растечется по земле, завел руки за голову, сцепил их замком и выпрямил до хруста – по всему телу прошел бодрящий ток, пробежала легкая сладкая судорога.
«Хорошо!» – вздохнул Андрей Ильич, резким движением распахнул ворот белой рубашки и расслабился; рядом на коленях стояла дочь Лена, и он боялся неосторожным движением напугать ее. Тоже пухленькая, большеротая, похожая на лягушонка, Лена перебирала цветы и что-то безумолчно лепетала.
– Папа, ромашки сегодня такие улыбчивые, их надо с краю, – сказала она, – в середине букета им будет тесно, правда, папа?
– С краю лучше, – рассеянно согласился Андрей Ильич.
Он смотрел в небо; почему-то в городе высота его не замечается, а в поле она завораживает, и те высокие мысли о смерти и бессмертии, о бренности и величии человеческого бытия не кажутся чужими, волнуют и беспокоят, и ловишь себя на ощущении, что они не покидали тебя ни на секунду; в небе огромными кругами ходили стрижи; отсюда, снизу, казалось, что их полет – сущий пустяк – длинные саблевидные крылья опираются на воздушные потоки, так можно парить целую вечность. Андрей Ильич в юности занимался в аэроклубе, летал на планере, и он-то прекрасно знал, сколь высока цена легкому парению; воздушные потоки коварны, и птица, и человек в планере ежесекундно испытывают и восторг, и ликование, и страх, что вот-вот восходящий поток воздуха иссякнет и крылья потеряют опору; – это олицетворяло для него жизнь в ее наивысшем пике, о котором когда-то страстно мечтал, а в последние годы лишь вспоминал, да и то временами, как о прошедшей юности.
– Папа, тебе не надоело смотреть вверх? – спросила Лена.
Андрей Ильич ничего не ответил. Он думал о том, что ведь это вчера еще было: ночи взахлеб над книгами о Циолковском, Кибальчиче, первый прыжок с парашютом, первый полет… «Теперь отлетался, да и летал ли?» – грустно усмехнулся он; странным, непонятным образом, юность, вернее, самое ее начало, занимала огромный промежуток времени и помнилась до самых мизерных подробностей, а годы зрелости, их было целых двадцать, словно бы и не существовали; от них осталась только щемящая боль в левой половине груди; до развода с женой он не знал, что такое – сердечные приступы; сердце побаливало и раньше, из-за него Андрею Ильичу был закрыт путь в большую авиацию, но те боли рождались случайно и не тревожили; теперь же боль разрасталась настолько, что захватывала все тело, душу, и Андрей Ильич погружался в пугающую пустоту; жизнь казалась так и неначавшейся.
Он с надеждой ждал выходные дни, вкладывал в них почти мистический, сокровенный смысл: выходной – маленькая отдушина, умышленное нарушение привычного ритма; за выходной человек должен осмотреться, подвести итоги и воодушевиться, не зря же выходной называется в о с к р е с е н и е м. Андрей Ильич всем своим естеством ощущал, что все больше и больше утрачивает кровную живительную связь с миром; в минуты отчаяния говорил себе: «У меня есть дочь – милое, отзывчивое существо»; похожая на несмышленого котенка, она терлась мокрым носом о его руки, щеки, тоненькими, насквозь розовыми пальчиками легонько касалась его жестких кустистых бровей и, уколовшись, со смехом отдергивала руку; расчувствовавшись, Андрей Ильич утешал себя тем, что преувеличивает беду, хотя была в его опасениях маленькая горькая правда, она-то и не давала покоя.
«Странно», – подумал он и лениво перекинул травинку из одного уголка губ в другой, словно проводил глубокую границу между воспоминаниями; двадцать лет были наполнены сначала ожиданием квартиры, потом – добыванием нужных и не очень нужных вещей; он говорил себе: «Потерпи чуток. Пройди через горнило суеты. У тебя в жизни все немного смещено. Мечтал об авиации, закончил архитектурный; презирал мелочи быта, они наваливаются так, что не вздохнуть… Правда, это еще не значит, что жизнь идет наперекосяк. Главное – выстоять чисто человечески…» Андрей Ильич с непонятной даже близким исступленностью хотел ребенка; рядом с детьми, которые смотрят в мир наивными, доверчивыми глазами, даже самые черствые души светлеют, пусть на мгновение, но оттаивают; а в нем еще жила потребность возрождения. Жена этого не понимала; шесть лет назад она забеременела и с несвойственной ей бесшабашностью сказала:
– Ну и пусть! Рожу на старости лет.
Андрей Ильич, уже тяготившийся, как он в порывах откровения говорил друзьям, «полусемейной жизнью», вновь обрел крылья. «Господи! – корил он себя. – Я – сухой, бесчувственный пень. Я просто не замечал ее нежности. У нее все было по-настоящему, глубоко».
– Ты хочешь ребенка? – с глупой улыбкой спрашивал он жену.
Она отвечала на его вопрос серьезно, с чувством какой-то непонятной ему вины:
– Не то чтобы хочу, а просто – пусть.
– Да что я спрашиваю? – он звонко хлопал себя ладонью по лбу. – Наверное, свихнулся. Совсем свихнулся… О чем спрашиваю? В твои годы это очень опасно, а я спрашиваю: хочешь?
– Каждой женщине, говорит она об этом или нет, хочется понять э т о. Каждая ради этого рискует.
– Ты – молодец. Ты стала собранной, а я совсем расклеился от радости. Нет, ты – большой молодец! – Андрей Ильич восторгался женой, впадал в чуждый его натуре мелодраматизм; впервые за восемь лет участвовал в конкурсе на проект детской площадки в новом микрорайоне и завоевал второе место. Потом получил повестку в суд, подумал: ошибка; они не ссорились, жили, как прежде, как всегда; – он был погружен в радостные хлопоты о дочери, покупал ей ползунки, платьица, постоянно путая размеры, и все боялся, что этому крохотному существу с тонким требовательным голоском чего-то не хватит; жена мягко вышучивала его, предлагала устроиться няней в детские ясли, и вдруг – повестка в суд.
«Что она сказала тогда?.. – напрягая память, Андрей Ильич наморщил лоб. – Ах да, она сказала, что влюбилась, а желание родить ребенка возникло от тоски по настоящей любви… Красиво». Это слово «красиво» Андрей Ильич произнес без иронии, сухо, словно отмечал какой-то незначительный факт.
Жена оставила ему квартиру и все, что в ней было.
– Я хочу начать совершенно новую жизнь. Я еще способна на это, – сказала она.
– Да, – то ли спросил, то ли удивился Андрей Ильич, – только пусть Лена…
После некоторого раздумья жена тихо вздохнула:
– Я уже и так принесла тебе столько горя. Я только иногда буду видеть ее. Ты не откажешь мне?..
Такой выбор показался Андрею Ильичу невероятным, чудовищным; он бы, не раздумывая и доли секунды, отдал все, лишь бы Лене было хорошо, а тут ею пренебрегали ради… Но тут же Андрей Ильич подумал, что раз жена идет на такую жертву, то без того, другого, ей все равно жизни не будет; растерялся перед этой, с одной стороны – святой, а с другой – жестокой правотой; жена уже не задумывалась над этим, да и вряд ли ей могли прийти в голову такие мысли; она после долгих и мучительных ожиданий, хлопот, уже отчаявшаяся, словно бы получила разрешение сменить гражданство и мысленно жила там, в ином мире, а тут ждала лишь той минуты, когда ей дадут въездную визу, и стыдилась своей прорывающейся радостью обидеть чувства тех, кто оставался за ее спиной, по другую сторону границы.
Из-за развода она перессорилась со своими родителями, с друзьями, которые негодовали, требовали, чтобы Андрей Ильич вел себя жестче, принципиальнее, а у него в ушах звучал ее тихий голос: «Я уже и так принесла тебе столько горя…», и он мучился оттого, что в ту минуту ничего не сказал о своей вине; жена оказалась выше его, бескорыстней, – таким в те последние годы он считал только себя и упрекал ее в черствости; оказалось, что ошибся и страдал, неся в душе эту вину и обиду: он же хотел ей только добра, столько лет жил только для нее, а почему-то тот, другой, оказался более достойным ее слепой, по-юному пылкой любви.
– Папа! Папа! – позвала Лена.
– Да… Что? – рассеянно отозвался Андрей Ильич.
– Смотри, какой одуванчик. Я его прямо боюсь, – Лена осторожно сорвала одуванчик, поднесла его к лицу и сильно дунула – сотни маленьких парашютиков, покачиваясь, повисли в воздухе.
– Прямо как Новый год! Правда, папа, здорово! – радостно засмеялась Лена, отмахиваясь от белых хлопьев, цеплявшихся за ее распустившиеся волосы.
«Новый год?.. Интересно», – удивился Андрей Ильич и с горечью подумал о том, что у него эта картина не вызвала никаких ассоциаций; он равнодушно смотрел на летящие белые пушинки – только и всего. «Неужели это отмирает как корни у деревьев», – грустно подумал Андрей Ильич. После развода он жил в каком-то оцепенении, то ему казалось, что жена вот-вот вернется, то Андрей Ильич говорил себе, что его личная жизнь уже кончилась и его главная забота, – дочь; он отпрашивался с работы пораньше и бежал в детский сад; брал Лену и с упоением играл с ней дома; Лене быстро надоедали и паровозики с красными и зелеными колесами, и заводные прыгающие игрушки, и книги с забавными картинками; она просилась во двор к своим маленьким подружкам, копавшимся в песочнице; Андрей Ильич обижался и выставлял ее за дверь.
«Она какая-то чужая, – с болью говорил он себе, – чужая. Мы оба – чужие».
– Папа? – с легким испугом в голосе позвала Лена.
– Да, – тотчас отозвался Андрей Ильич.
– Вон тот репейник у дороги похож на собаку тети Даши. Такой же лохматый и хвостатый!
– Какой еще тети Даши? – без особого интереса спросил Андрей Ильич.
– Разве ты ее не знаешь? – Лена недоверчиво посмотрела на него, словно хотела убедиться, что он не шутит; лицо Андрея Ильича было спокойным, даже вялым.
Лена занялась букетом и, как бы между прочим, стала рассказывать:
– Тетя Даша живет в нашем подъезде. Она – зубной врач. Я у нее спрашивала: можно ли мне есть конфеты? А то мама говорит, что от них зубы болеть будут. Тетя Даша сказала, что можно, только еще нужно есть суп и кашу. Тогда они болеть не будут…
«Откуда она ее знает? – удивился Андрей Ильич, – я живу в этом доме десять лет и совершенно не представляю, кто живет этажом ниже или выше. Эти большие дома только внешне похожи на общежития. На самом деле каждая квартира – маленькое обособленное государство. Собственно, так они и проектируются. Человеку хочется жить то совершенно одному, то вместе со всеми. Эти дома – метафора его уродливого компромисса…» Еще в студенчестве Андрей Ильич, словно брал реванш за несостоявшуюся карьеру воздухоплавателя, ночи напролет сидел у чертежной доски; его пылкая фантазия рождала огромные жилые массивы; замкнутые в кольцо; искусственный климат, сосновые рощи, розарии – все это продлило бы человеческую жизнь до ста пятидесяти лет; чем будут заниматься долгие годы жители его сказочных жилищ – об этом он не задумывался; над его кульманом висел клочок бумаги со стихами Тао Юань-мина, написавшего еще в третьем веке до нашей эры:
Жалок тот, чьи проходят дни в бессмысленной суете,
На земле кого помнят лишь один прожитый им век, —
но эти слова он понимал только как предостережение самому себе, не распространял на других; и лишь теперь стал понимать сколь опасно жить той растительной жизнью, если знаешь, что есть другая, на которую тебя не хватило.
– Папа, тебе не наскучило смотреть вверх? Там – ничего интересного. Только солнце. И когда на него смотришь, глазам больно. А само оно неинтересное, просто круг. – Лена крепко перетянула букет гибким стебельком ромашки.
Андрей Ильич был еще во власти размышлений, воспоминаний и ответил неохотно:
– Видишь ли, этот круг необычный. Он – волшебный, – но тут же подумал, что его объяснение слишком абстрактно для пятилетней дочери, и торопливо добавил: – Помнишь я читал тебе сказку про волшебные зерна? Так вот он, этот круг, так же приносит людям счастье. Все травинки, цветочки, большие деревья, да и мы с тобой своей жизнью обязаны ему.
– А те волшебные зерна похожи на солнечные зайчики, правда, папа? – Лена отложила букет в сторону и подсела поближе к отцу.
«На солнечные зайчики? Как это у нее любопытно получилось», – Андрей Ильич приподнялся на локте и ласково посмотрел на дочь; он каждое воскресенье ездил с ней то в лес, то на речку; его пугала некоторая обособленность Лены; казалось, что она постоянно, хотя и не говорит об этом, вспоминает о матери, и его многочисленные подарки, поездки радуют ее лишь на мгновение; она все больше и больше замыкается в себе и не впускает его в свой, пусть крохотный, но уже сложившийся мир; и каждый день он открывал для себя, что совсем не знает дочь, а она растет, меняется – и ему уже не угнаться за ней; наступит тот момент, когда слово «чужая» будет произноситься без тревоги, как само собой разумеющееся; и он останется совершенно один в этом городе, в этом мире, да и во всей Вселенной, останется один на один со своей незадавшейся жизнью; поездки за город отвлекали от мрачных мыслей; от одного лишь предчувствия, что через какие-то сорок минут он упадет в холодящую луговую траву, теплело на душе; и он думал о том, что и для дочери это полезно; слово «полезно» коробило, но другого, более подходящего, он не находил; связывал его со старинным словом «пользовать»; и теперь, услышав, что «волшебные зерна похожи на солнечные зайчики», обрадовался столь живой и глубокой ассоциации.
«Любопытно, даже очень!» – поддаваясь начатой игре, Андрей Ильич продолжил:
– Этот круг подарил людям добрый старый волшебник из тридевятого царства, тридесятого государства…
Не зная, что еще сказать, Андрей Ильич озадаченно замолчал; его фантазия иссякла.
– А злой волшебник в черном-черном костюме, – вдохновенно подхватила Лена, – все время старается его стащить. Он пускает ветры и каждый день, к вечеру, присылает ночь, – последние слова она произнесла шепотом, словно боялась, что ее могут подслушать.
Андрея Ильича тоже охватил радостный озноб вдохновения; еще секунду назад он и не надеялся на то, что сможет поддержать эту игру, где все условно и в то же время всерьез настолько, что это уже и не игра, а сама жизнь; Андрей Ильич наклонился к дочери:
– Злой волшебник иногда похищает круг и зарывает его в поле, чтобы никто не мог найти. Но добрый волшебник посылает дождь. Он размывает землю и освобождает круг, который поднимается на небо… по радуге.
– Злой волшебник убегает в дремучие леса и снова думает, думает, как бы ему выкрасть у людей солнечный круг… – Лена испуганно округлила глаза, осмотрелась и тревожно прошептала: – Папа, смотри, злой волшебник облаком закрывает круг!
Андрей Ильич запрокинул голову. Большое, с синеватым подтеком облако насторожило его.
– Папа, смотри, какие тени побежали по траве. Злой волшебник уже близко. И темнеет, ты видишь, папа, темнеет! – Лена испуганно дернула его за руку.
– И впрямь дождь будет, – то наивное, восторженное настроение, столь внезапно и глубоко захватившее Андрея Ильича, угасало, – я с тобой заболтался и ничего не заметил. Теперь до станции не успеем. Тут не меньше двух километров!..
Андрей Ильич достал сигареты и раздраженно закурил; разгоряченное воображение еще не хотело принимать тревогу всерьез, а в голове уже мелькало: «дождь… холодный…» и еще какая-то чепуха насчет бюллетеня, аптеки; Андрей Ильич словно разделился на двух человек: заземленного, живущего перипетиями службы, заботами о хлебе насущном, и – одухотворенного, уверенного, что уже сделал первый робкий шаг по пути к бессмертию; оба эти человека и презирали, и опасались друг друга.
Первые капли с шумом упали в траву, и пропыленная зелень, впавшая в тягостную дремоту от душного преддождья, ожила; сверкающие водяные струи соединили тусклое, холодное небо и разгоряченную, истосковавшуюся по влаге, землю, притянули их друг к другу; казалось, там, вдалеке, лохматые облака цепляются за кусты ивняка и вот-вот опустятся посреди луга, словно диковинные летающие тарелки; ликуя, кивал красными головками клевер; вспыхивали ослепительные солнца ромашек.
– Дождь, папа, дождь! – обрадовалась Лена и подставила раскрытую ладошку под крупные, по-летнему теплые капли.
Андрей Ильич не ответил и прибавил шагу; он думал о том, что в грязных ботинках, в мокрой обвисшей рубашке и таких же брюках, которые местами уже покрылись коричневыми пятнами грязи, неприлично ехать в электричке, а тем более – идти по центральным улицам.
Лена еле успевала за ним; она удивленно вертела головой, ничего не видела и принимала в себя все разом, как опрокинутые навстречу дождю лиловые чашечки колокольчиков или распрямивший жесткую узловатую ладонь приземистый подорожник; на мгновение она опомнилась, посмотрела на отца, всплеснула руками и звонко рассмеялась:
– Ой, папа, какой ты весь мокрый, грязный и смешной. Прямо жуть!..
Андрей Ильич хотел сощелкнуть с белой рубашки комочек прилипшей грязи, но под пальцем осталась жирная коричневая полоса; он смущенно посмотрел на дочь. Смеясь, она убирала со лба мокрые пряди волос и была до того радостной, сияющей, что и его лицо невольно осветилось улыбкой, словно протерли мутное стекло, и в сумрачную комнату хлынули потоки солнечного света.
– Не беда. Грязь отмоется, вода высохнет! – заговорщицки подмигнул он дочери и протянул руку, – пошли! – а в левой половине груди возникла боль; Андрей Ильич замедлил шаги; ему всегда в такие моменты становилось страшно и стыдно, что это случится с ним на глазах у Лены, она напугается и останется совсем одна; и вот он, взрослый, проживший жизнь, бессилен что-либо поправить, словно все эти долгие годы рассеянно смотрел по сторонам, как несмышленый школьник на последней парте, и ничему не научился.







