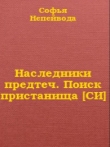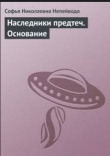Текст книги "Книга Предтеч"
Автор книги: Александр Шуваев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
An Out-low.
XIV
Танюша меняется очень быстро, прямо не глазах: я пару раз отвел ее в уборную, и после этого она начала ходить туда сама. Ест ложкой, и опять-таки она научилась чуть ли ни с первого раза. Резким, визгливым, скрежещущим голосом повторяет все слова. Казалось бы – потрясающий, невероятный успех, чудо, которое, если вдуматься, хлеще всего, что творил сам Иисус Христос, – идиотка становится человеком! Ан нет. Далеко не так все просто: если она не хочет есть или пить, то способна просидеть совершенно неподвижно часами. Повторяя слова, она абсолютно не понимает их смысла, и даже не пытается вникнуть в него, хотя и пользуется ими, когда ей что-либо нужно. Это трудно объяснить словами, но это видно любому мало-мальски понимающему человеку. Да, она ест ложкой, но нужно видеть движения, которыми она делает это! Пластика, не имеющая ничего общего с человеческой. У нее совершенно нечеловеческая, неописуемая походка, как у деревянной статуи, чьи ноги переставляет кто-то, кто никогда не видел, как люди ходят. Она молча, неподвижно сидит в углу, толстая, пучеглазая, без шеи, с открытым ртом, похожая то ли на идола, то ли на какую-то первобытную амфибию, и глаза у нее не шевелятся. Полное отсутствие нервной деятельности? Вряд ли: в остальном – странные, но совершенно поразительные успехи. Тут имеет смысл говорить даже не о двух, а о трех планах происходящего: она обретает какие-то навыки, проявления их – выглядят совершенно дико, как будто ее не научили двигаться, а вставили какой-то блок, который при нужде включается и производит... Как бы это поточнее выразиться? Минимально-необходимый набор мышечных сокращений. Не весь – набор, иногда даже – не вполне тот, но все-таки подходящий случаю набор мышечных сокращений, поскольку движениями называть это язык как-то не поворачивается. И третий план происходящего: в том, что уже встроено, она, похоже, марионеткой быть перестает, это – уже ее собственное, ее часть, способная действовать хотя бы отчасти самостоятельно. После того, самого первого инцидента, который так нас напугал, ничего подобного больше не повторялось, она сидит себе и сидит... Хорошо, конечно, что с ней стало куда меньше возни, но этот ее новый облик иногда просто пугает, не знаю даже – почему. Если же постараться коротко подытожить творящееся с ней, то можно сказать так: в теле идиотки идет последовательный монтаж души, в потенциале, может, и разумной, но уж во всяком случае нечеловеческой... Не царапается, хотя орать, бывает, и орет еще, особенно по ночам. Интересно, кончится ли на этом, или же изменения продолжатся? А если да, то чем они закончатся? Но для сегодняшнего дня это еще дале-еко не все, о чем можно написать. Вчера у нас на физкультуре был первое в этом году занятие по лыжной подготовке: это мы взяли лыжи, проехались две остановки на трамвае, и переоделись, как обычно, в раздевалке "Альбатроса", там прямо через две улицы – и улица Крайняя (так и называется!), а за ней – то, что называется лесопарковой зоной, в переводе на русский язык – "чисто поле на холмах, да с перелесками" и тянется это дело до реки, и за рекой. Ну, побегали кругами, только это я разошелся, во вкус вошел, потому что соскучился за семь месяцев, а урок-то и кончился. Нас, как овец, пересчитали по головам, и сообщили особым, "строевым" голосом, что: "урок окончен". У меня лично – лыжи свои, и решил я, если уж так получилось, и еще покататься часика два-три. Слава богу, проблем с барахлом у меня теперь, благодаря униполярному вывороту, нет никаких, – свернул, и как нет его, ни капли не мешает. Я хорошо вошел в ритм, увлекся, и только пар валил от свитера, да лыжи свистели. Где-то через час начало смеркаться..."
Где-то через час начало смеркаться, но соскучившиеся по работе мышцы, разогревшись, будто бы зудели и требовали еще большего напряжения, еще большей скорости, ритма еще более напряженного... Чего-то на грани неистовства, и он несся вперед все быстрее, как стрела слетал с пологих склонов, только встречный ветерок свистел в ушах, да снег морозно визжал под лыжами. Была особая красота в бескрайней снежной белизне, безлюдьи, темнеющем небе над далеким горизонтом, даже в подчеркнутой, аскетической, отрешившейся от жизни черноте голого леса, даже в мертвых сухих стеблях прошлогоднего бурьяна, упрямо торчащих сквозь снег. Особенное удовольствие доставляло, помимо стремительных спусков под уклон, вдруг сбросить скорость и вроде бы как вообще без усилий, по прямой, но и с боковым скольжением проплыть с замирающим шорохом вдоль опушки леса, и тогда казалось, что это сами деревья, словно притянутые невидимым канатом, надвигаются на него и проплывают мимо. Ожесточенно прищуренные глаза его видели все, а обстановка вечернего, морозного безлюдья создавала особое настроение отрешенности и Дороги Никуда. И вдруг он понял, что никогда не был в этом месте. Более того, – не представляет даже, где бы могла найтись подобная степная ширь, с трех сторон не имевшая ни конца, ни края, и где, в какой стороне от почтенной лыжной базы "Альбатрос" растет такой лес исполинских черных деревьев, что бесконечно, насколько хватает глаз, продолжается в обе стороны по правую руку от него. Некоторые деревья выступали из общего строя, словно в отчаянии простирая в стороны руки своих громадных, кривых черных сучьев, что бесконечно ветвились, образуя шарообразную крону. Между стоящих вроде как поодаль друг от друга древесных гигантов только изредка виднелись стволы потоньше, темнели чахлые силуэты каких-то хвойных деревьев, да торчали растрепанные метлы кустарника. Лыжник остановился, растерянно оглядываясь по сторонам, и почуял, как сердце его гулко бухнуло, пропуская удар, от понимания того, что он все-таки не знает дороги. Незаметно загипнотизированный тишиной и неподвижностью, он замер и простоял какое-то время без мыслей, не осознавая, где он и что с ним. Из оцепенения его вывел громкий, какой-то плотный визг снега под лыжами. Как будто целый полк шел на лыжах в ногу и церемониальным маршем, или Гаргантюа смазал свои из цельных стволов тесанные – да и вышел себе прогуляться вдоль опушки на сон грядущий. Он повернул голову в сторону шума и увидал вдруг, как из-за ближайшего отрога безмолвного леса вдруг выдвинулись, чуть кренясь на один бок, и заскользили вдоль леса по направлению к нему две странных снаряда под парусами. Это были настоящие сухопутные корабли, выкрашенные в белый цвет и попирающие снег своими огромными полозьями. Огромные, прогонистые корпуса не уступали размером фюзеляжу хорошего самолета и двигались настолько плавно, что скольжение их казалось бесшумным невзирая даже на хрустящий, скрипучий крик рассекаемого полозьями белого снега. И вообще, согласное, плавное скольжение двух белых кораблей на фоне почти совсем уже померкшего неба делало их похожими на призраки, вызывало ощущение полнейшей ирреальности происходящего. И только спокойный, желтый, очень какой-то домашний свет, горевший в круглых окошках успокаивал, убедительно доказывая присутствие людей. Движимые невидимыми лебедками, неторопливо спустились одни и поднялись другие, поменьше, паруса, и ближайший из буеров-гигантов, накренившись, подкатился к нему. Еще раз в сложном движении двинулись поворотные полозья, корабль замедлил ход, а потом и вовсе замер, остановленный двумя враз выдвинувшимися из под днища тормозными стержнями с основанием в виде массивной металлической спирали. В нависающей над ним выпуклой стене медленно растворился люк в виде вертикального овала, а из него, со звоном зацепившись за край, выскользнула легкая металлическая лесенка и появился какой-то мужчина. Свет падал на него сзади, и оттого трудно было разглядеть, какое у него лицо. Видно было только, что человек этот – бородат и массивен. Держась за края люка, он несколько мгновений разглядывал фигуру внизу, а потом сделал не требующий перевода приглашающий жест и произнес:
–WellСome!
Господи, только этого не хватало! Но, с другой стороны, они должны знать по крайней мере, где находятся, и если уж сказать не смогут, то, может, хоть карту покажут... Придется подниматься. Он отстегнул лыжи и, несколько тяжелее, чем ожидал, поднялся по крутому трапчику. В ярко освещенном тамбуре незнакомец сказал ему по-английски и еще что-то, но он был, согласно школьной классификации, "немцем", хотя и подозревал при этом, что попытка его беседовать с немцем настоящим была бы, пожалуй, не намного более успешной... Поэтому он только развел руками:
–Не понимаю по-английски...
–O, I see... Master!
На его зов откуда-то изнутри явился еще один мужчина, тоже бородатый и в такой же овчинной безрукавке поверх тонкого черного свитера. Мужчины перекинулись парой фраз, и тогда вновьпришедший обратился к нему на чисто русском языке:
–У тебя все в порядке, парень?
И все-таки в речи его чувствовался не акцент, не пресловутая излишняя правильность речи, не чуждая интонация даже, а какое-то смещение привычных оборотов речи, чуть "сдвинутый" набор их.
–Как будто бы да... А в чем дело-то?
–Только в том единственно, что по картам нашим выходит, что до ближайшего жилья верных восемьдесят пять километров, а ночь – вот она. Может, заночуешь?
Он небрежно пожал плечами:
–Мне уже недалеко. Эти самые восемьдесят пять я как раз и прошел за сегодня, с трех ночи.
–О-о-о... Тогда проходи, посиди хоть посредственно в кумпании.
Он сидел за столом, вытянув ноги, и блаженствовал, а свитер его тем временем исходил паром и распространял запах мокрой овчины, будучи распят на раскаленной дуге сушилки.
–Выпьешь?
–Спасибо. Даже вкуса знать не хочу. За меня мой папа все выпил в молодости...
–Поешь?
Но он опять, несколько удивляясь себе, только помотал отрицательно головой:
–Лучше поголодать, чем размякнуть, вы же знаете.
Кликнутый "master"-ом понимающе покивал головой:
–Это, однако, так... А ты не хочешь, случайно, присоединиться к нам? А чего, в самом деле? Нашу жизнь, если хочешь знать, ни с чьей не сравнить: и тихо, и привольно, и за окном каждый день что-нибудь новенькое.
– А куда вы сейчас?
Тот только пожал плечами:
– Да как обычно... Торнишляхом вдоль всего Леса с востока на запад. Самую малость только к югу забирая, так что весну встретим на полмесяца раньше. А там – на "катки", да и в Пески на все лето, вдоль Гуннарова Тракта. Давай, право, парень ты стоящий, я вижу... Хельга! Вдруг позвал он, прерывая себя, и очень скоро на зов его в "кумпанию" вошла какая-то светловолосая девица его приблизительно лет. – Вот, дочке компанию составишь, у нас ее сверстников нет, а натура своего требует, далеко ли до беды...
Гость чуть прищурился, окидывая девушку оценивающим, но не бесцеремонным взглядом. Девица оказалась довольно рослой, длинноногой, крутоплечей, статной, с румянцем во всю щеку и огромными серо-голубыми глазами. Что называется, – кровь с молоком. Неожиданно для себя он восхищенно покрутил головой, а потом с его языка совершенно привычно сорвалась обыкновенная вроде бы, но абсолютно, совершенно немыслимая для него фраза:
– Не-ет, мастер Марк... ТУТ ТОЛЬКО СВАТОВ ПОСЫЛАТЬ ВПОРУ... ЕЖЕЛИ ДАМА НЕ ПРОТИВ, РАЗУМЕЕТСЯ.
– О, да ты, оказывается, знаешь мое имя?
– Наслышаны, как же. Не такие уж мы пеньки лесные.
– Ну, с ней я поговорю... Только как посылать-то будешь?
– НУ, ДЛЯ НАС ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА, ВЫ ЖЕ ЗНАЕТЕ...
Помолчав, хозяин спросил все-таки еще раз:
– Может, останешься все же, переночуешь?
– Спасибо, мастер Марк. Я не просто так, как вы сами понимаете, отправился за сто километров на своих двоих, у меня дельце есть. Небольшое, но неотложное. И – ждут меня, боюсь, начнут волноваться.
–Что ж... Тогда не смею задерживать. Но и отпускать тебя просто так – уж совсем не по-людски. Дочка, налей ему фляжку "Дикой Розы", да погорячее...
–А чего ж сородичи на Крылатом не подкинули-то?
Но он, натягивая сухой, восхитительно горячий свитер, только оттопырил губу:
–Кланяться еще из-за мелочей...
–Да, за-анятный ты все-таки парень...
"Дождавшись, когда два немыслимых корабля скроются в дали, слившись с молочно-серым под ночным небом снежным покровом, я как-то сразу вспомнил (Почуял? Понял?) куда мне надо направляться теперь, и очень скоро увидал уже знакомый, занесенный снегом овражек. Отсюда мне было не больше получаса хорошего хода. Удобнее всего было бы счесть происшедшее сном, но этот удобный во всех отношениях вариант, к сожалению, не вытанцовывается: фляжку с двойными стенками гладкого белого фарфора, расписанную девоголовыми птицами и пернатыми колесами, налитую горячей жидкостью с незнакомым запахом – тоже никуда не денешь. Кстати, – жидкость эта обладала свойствами первоклассного стимулятора, так что Мастер Марк, чье имя я вспомнил таким загадочным образом, совсем не случайно дал мне именно ее. Уже трясясь на очень кстати подвернувшейся "четверке", я подумал: а на что, спрашивается, рассчитаны наши школьные программы по иностранным языкам? Худо-бедно каждого, кто мало-мальски не дебил, – да и из дебилов кое-кого, – наша школа вполне надежно обучает писать, читать и считать. Приложив мало-мальское старание, почитывая кое-какую дополнительную литературку, можно изучить физику, химию, биологию, и учителя за редким исключением не откажут в помощи. Что же касается иностранного языка, то я не знаю ни единого человека, который хоть на минимальном уровне изучил бы его в обычной нашей школе, и, наверное, таких просто нет. Я утверждаю, что зная школьную программу по иностранному языку назубок, разговаривать, читать, писать, переводить во всяком случае уметь не будешь. Иногда мне кажется, что программа эта специально с таким расчетом и составлена. После этого происшествия я, во всяком случае, дал себе торжественную клятву изучить, по крайней мере, английский. Не знаю только, откуда произношение взять? Ладно, решим как-нибудь. Должен сказать, что этот случай меня не напугал. Прогрессирую, а может быть, как говорится в известном анекдоте, просто привык. Сам униполярно выворачиваться пока не решаюсь, хотя вполне представляю себе теперь, как это можно сделать: кого-нибудь другого из свернутого состояния я бы вернул запросто, но кто, спрашивается, распакует меня? Сам? Да в том и беда, что я не представляю себе, какие способности и цели сохраню после выворота. А жаль: если бы такого рода попытка удалась, проблема любых линейных расстояний, по моему расчету, навсегда потеряет для меня всякую актуальность, и не будет никакой нужды в каком-либо транспорте.
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, КАК ВОЗБУДИМАЯ СРЕДА ОСОБОГО РОДА
Для начала этого, ведущегося наполовину в шутку, разговора, мне хотелось бы привести два весьма мудрых, вообще говоря, но ставших от частого употребления банальными, высказывания. Одно из них авторское, и гласит, что нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Другое, что бы там ни утверждали всяческие исказители и злопыхатели, автора, скорее всего, не имеет и гласит, что дорога в ад вымощена именно благими намерениями.
Последнее утверждение, по крайней мере, близко к истине, и тому можно привести множество убедительнейших примеров, но интересно все-таки – почему? Почему в Ад? Следует ли утверждать, что именно благие намерения вообще и заранее обречены и, тем самым, бесполезны? А если это так, то какого плана намерения могут вести в направлении, так сказать, – противоположном инфернальному? Для ответа на эти а, возможно, и еще на некоторые другие небезынтересные вопросы, кажется целесообразным хотя бы в самых общих чертах проследить ход самого процесса. Любая идея, которую мы пока условно назовем "благой", рождается сначала в одной светлой голове, непременно завоевывает первоначальный, сравнительно узкий круг сторонников, как правило достаточно бескорыстных, достаточно-честных, и твердых, – до фанатизма порой, – в своих убеждениях. Круг этот, особенно на первоначальном этапе, является своего рода прямым продолжением учителя, своеобразным расширением его тела, и опыт истории показывает, что такие первичные ядра способны действовать с неслыханной эффективностью, – наподобие настоящих артиллерийских снарядов в каких-нибудь театральных декорациях из фанеры и крашеной бумаги. Затем идея, учение или концепция вроде бы как побеждает, что проявляется, понятное дело, в охвате широких людских масс... И тут начинается самое интересное, охватив эти самые широкие массы, идея начинает потихоньку, но зато непрерывно трансформироваться: вдруг выясняется, что каждый из тех, кого имеет осчастливить данная идея, может совершенно неожиданным для Учителя образом может представлять себе это самое счастье и несколько непредсказуемым способом понимает излагаемые ему идеи и даже прямые законы. Овладевая массами (опять-таки цитируя одного Очень Умного Человека) идея действительно становится реальной силой, но при том массами этими отчасти – не понимаются, отчасти – не принимаются, а отчасти – сознательно используются для достижения собственных целей, иногда, – увы! – не столь высоких, нежели поставленные Основоположником, но зато значительно лучше понимаемых и более практичных для держателя... К числу наиболее известных примеров этого рода относятся, разумеется, известные случаи смены религии, – не малым числом адептов, из первых-апостольных-равноапостольных, а всем народом, с тяжкого благословения власти и под фактическим ее нажимом. Не было ни единого случая, чтобы прежние боги сразу же после этого умерли: они, в зависимости от терпимости нового вероучения, переходят в разряд младших богов, становятся врагами божества – дьяволами и, наконец, исподволь сообщают торжествующему новому Богу иные из своих атрибутов. Они расплываются, искажаются, забываются, теряют порой индивидуальность, пропадают из виду, но парадоксальным образом никогда не умирают до конца. Человек, живущий среди людей, неизбежно проникается общей моралью, взглядами, словесными штампами, даже двигательными стереотипами и не бывает свободен от них, даже сознательно пытаясь восстать против общепринятого. В обществе, подобно волнам по воде, прокатываются моды, слухи, мифы, манеры поведения, и отдельно взятый человек становится точкой, молекулой, вовлеченной в такую волну вне зависимости от того, проводит ли он дошедшее до него дальше, трансформирует, преломляя через свою личность или же отражает, в попытке неприятия. В столь сложной среде распространения волн при сохранении источника энергии неизбежно формируются постоянные, самоподдерживающиеся динамические структуры типа "стоячих волн", которым в конкретных условиях человеческого общества соответствуют такие феномены, как обычаи, традиции, господствующие предрассудки, ритуалы и, что самое важное, – разного рода сообщества, со своими специфическими чертами организации и межчеловеческих отношений. Давно потерявшие главенствующее положение в обществе типы отношений не отмирают совсем, соседствуя с современными, накладываясь на них, образуя поразительные порой сочетания, и человек не может не быть деталью подобных образований, как точка не может не иметь координат. То, что столь смело именуется "свободой воли", накладывается поверх общественно детерминированных черт личности, и попытки как-то изменить положение предпринимаются личностями, которые сами являются неотъемлемыми частями этого положения. В обществе помимо сознательно созданных (неизбежно – возникших сначала в чьей-то одной голове) связей и, зачастую, куда успешнее их складываются связи стихийные, системно обусловленные и, нередко, при этом для всего общества в целом вредные. Попытки ликвидировать их неизбежно порождают новые структуры, структуры противодействия. Не раз и не два гибли государства, накопившие колоссальный опыт управления, но перегруженные стихийно складывающимися и постоянно нарастающими в количестве связями, которые потом окостеневают, никак не завися от воли отдельных лиц. Иногда положение в какой-то мере исправлялось под воздействием внешних сил, вроде прибывших издалека захватчиков, относительно-чистых от паразитических связей данного общества. Неизбежность нарастания энтропии в замкнутых системах – вещь в физике известная настолько, что давно уже стала общим местом, но по какой-то причине (возможно, мифологического характера, вроде пресловутой "свободы воли") положение это упорно не относят к закономерностям, управляющим функционированием общества. В современном, до предела интегрированном обществе, никакой надежды на такого рода внешнее вмешательство, разумеется, нет. Бессмысленные с общих позиций, вредные связи распространяются, пересекаются, интерферируют, образуя поразительно сложные порой структуры, и при современной, громадной численности населения в какой-то мере радикально избавиться от паразитических структур становится абсолютно невозможно. Рациональные попытки воздействия попросту образуют новые волны, сложно взаимодействующие с прежними самоподдерживающимися процессами, а ситуация в целом не меняется или даже усугубляется. Самым наглядным примером, пожалуй, может служить срастание организованной преступности с полицией и юстицией. Утверждают, кстати, что нормы взаимоотношений, наличие особого языка и иных атрибутов в уголовной среде до мельчайших подробностей напоминают обычаи "мужского дома" в первобытных обществах, и здесь трудно допустить чисто-конвергентную природу сходства. А в поведении более примитивных, – молодежных, – шаек явственно проявляются некоторые черты организации и еще более архаичной, типа первобытного стада или ватаги первобытных охотников. В самом наисовременнейшем обществе продолжают блуждать, приспособившись к нему, побуждения первобытного стада, обычаи "мужского дома", законы пещерного общежития, тактика межплеменных войн. И, кроме того, – каждая революция, война, конфликт, спор, акт конкуренции порождает бесконечно циркулирующие в обществе волны. Принципиальная невозможность для сложных систем избавиться от однажды образованных внутренних связей за счет только внутренних ресурсов является общим свойством любых достаточно сложных систем; живая природа борется с этим явлением весьма безжалостным и радикальным способом, создав сопряженные механизмы смерти и размножения. Так есть ли у современного общества хоть малейшие шансы избавиться от паразитических связей исключительно за счет внутренних сил? На наш взгляд, – это совершенно нереально: положение в этом аспекте при фактической уникальности цивилизации будет в дальнейшем только усугубляться и приведет современную цивилизацию к гибели, механизм которой следует ожидать близким к "естественной" смерти организма от старости, каковая, по сути, и есть нарастающая со временем перегруженность системы различного рода связями. Если гибель человечества при этом не является совершенно неизбежной, то более чем вероятным является вариант с субкритическим падением численности населения в глобальном масштабе с полным распадом прежних связей. За этой высокоученой формулировкой на самом деле практически следует понимать чудовищную, не имеющую прецедентов в истории катастрофу. В этих условиях следует обдумать возможность вариантов, в том или ином виде предполагающих образование полностью изолированных от общества групп всесторонне подготовленных людей с перспективой формирования дочерней цивилизации. Помимо того, что такого рода деятельность в любом случае, даже при практически-невозможном благоприятном развитии событий, послужит к благу как этих групп, так и всего человечества, мне кажется чрезвычайно-несправедливым, что отдельные люди должны будут отвечать за грехи никак не зависящего от их воли общего целого. Я вообще отношусь к той нечастой категории людей, считающих отдельную личность вполне равноправной со всем человечеством.
Некто В Сером."
XV
Этим утром мы снова проснулись от маминого вопля: кажется, у нас в семье начинает формироваться добрая и, главное, оригинальная традиция. На этот раз, видимо, – набравшись опыта, я мгновенно обулся в обе тапочки и только после этого кинулся к Танюшиному закутку. А там ничего особенного и не было: Танюша спит мертвым сном, крепче даже, чем обычно, одеялкой накрыта, коленочку из-под нее высунула... Вот только поверх одеяла у нее в живописном беспорядке валялись клочья чего-то вроде толстой паутины с металлическим отблеском и наличествовала целая россыпь пронзительно-сиреневых, даже вроде бы как светящихся прозрачных камешков или стекляшек, одинаково плоских и шестигранных и лист чего-то вроде черного пластика. На нем продольные черные линии, с вроде бы как нанизанными на них косыми, продольными, поперечными четырехугольничками: контурными, на разный манер штрихованными или же залитыми сплошь. Смотреть на эту картинку до жути неловко, буквально через полминуты начинает нестерпимо рябить в глазах: непонятно, конечно, абсолютно, но все равно совпадает с чем-то во мне, и вряд ли это узор. Проснулась, по-прежнему молчит, по-прежнему повторяет диким, как "поставленный" у глухонемых от рождения, голосом наши слова, но употребляет их вне всяких грамматических форм только когда хочет есть, скрипит одно: "Кхгу-ушгхать"– голосом охрипшего патефона и брызгая слюной. Откуда камешки и прочее – никто не знает, я тоже могу только догадываться, но молчу. А вот после школы, когда родителей еще не было, я застал ее за совсем новеньким, с иголочки, развлеченьицем: она сидела в углу, перекосив голову, подняв руки на манер хирурга перед операцией, и играла пальцами. Никогда не поверил бы, что движения, которых ни один человек не делает ни при каких видах деятельности, могут произвести такое дикое, но, бесспорно, все-таки сильное впечатление: она вроде бы и пробовала, что получится, если напрягать мышцы в разных, ни на что не направленных сочетаниях, а вроде бы и нет. Больше всего, пожалуй, это напоминало язык глухонемых, только гораздо более быстрый, сложный и не содержащий ни единого узнаваемого знака. Параллельно с этим она то надувала щеки, то далеко высовывала свой толстый язык, с шумом всасывая его назад, и жутко вращала глазами, на разный манер кривя губы. Все это молчаливо, очень как-то целеустремленно и в страшном темпе, как движения деталей в каком-то сложном механизме. А в такт движениям ее и гримасам по стенам бежали едва заметные, очень прихотливые и изменчивые световые узоры, да еще раздавался откуда-то шум вроде мышиного топота за стенкой, только несколько громче и много ритмичнее. Потом все разом прекратилось, она как автомат встала, проковыляла до кровати, будто неживая, не сгибаясь, бревном рухнула в кровать. Накрылась одеялом. Все. Отключилась не больше, чем за две секунды.
Гнилозимье в этом году продолжается с редкой последовательностью, достойной лучшего применения: до марта еще неделя, а оттепель сожрала, почитай, весь снег. Днем – плюс четыре плюс пять, в общем, – мерзость, но, так или иначе, переносится все-таки лучше мороза, не так быстро загоняет в тепло, и мы при обстоятельствах наших скорбных рады даже и такой малости. Убрели сегодня в черный, невероятно сиротливый какой-то в такую погоду скверик, сидели на укромной, но мокроватой все-таки скамейке, болтали, целовались, обнимались. Даже, пожалуй, слишком крепко. Точнее – тесно, потому что отреагировал сильнее, чем хотелось бы. Вообще же от этих самых объятий и поцелуев, о которых так недавно я еще не смел и мечтать, и мечтал все-таки как о немыслимом счастье, становится только тяжелее. Этот процесс очень крепко придуман Тем Самым таким образом, чтобы, однажды начавшись, неукоснительно вести нас, грешных, к уготованному им для нас финалу. И это, как сегодня выяснилось, относится не только ко мне. Она сказала мне:
–Мне приснилось сегодня, что я танцую перед тобой голой, а ты вроде бы и ты, а не похож. Смуглый, немного раскосый, с короткой черной бородой и в костюме из черного бархата с серебряным шитьем. Я танцую, чувствую страшную силу в каждом своем движении, и знаю, – это для какого-то бога, и танец мой только воплощение чьей-то не имеющей образа воли... Вот ведь чушь, правда? – И она заглянула в мои глаза так, как будто бы очень хотела отыскать подтверждения того, что да, мол, чушь...– У меня и мыслей-то таких не было никогда не было, а тут верчусь, тишина абсолютная, ни единого звука, никакой музыки, а вокруг меня, от меня отходят волны Влияния... Какого Влияния, что это такое, – не спрашивай, не знаю. Приснится же такое, правда?
–Страшно было?
Сам спрашиваю, а сам кладу голову ей на коленки, жмусь лбом поближе к ее животу. Она перебирает мои волосы, а я жмурюсь от безгрешного почти удовольствия. А она тем временем:
–Как тебе сказать? Это, наверное, не то слово. Это чувство, когда уже решился и шагнул в люк самолета... или выпрыгнул из окопа, когда над головой во все стороны текут реки пуль. Понимаешь? Уже решился. Тело горит холодным пламенем, а голова при всем буйстве ясная, и нереальная легкость движений. И усталость где-то в стороне, не имеет права иметь отношение ко мне и танцу...
А я слушал ее и думал: а когда же это ты, подруженька, успела научиться так разговаривать? Полгода тому назад, – клянусь! – ничего подобного и в помине не было. Я вздохнул, закрыл глаза и, чувствуя, что сей момент либо растаю, либо умру, и ни то, ни другое меня ничуть не расстроит, начал ее гладить по спинке и чуть ниже, понятное дело, через пальто. А потом и говорю:
–А вот как бы ты отнеслась к идее сходить в одно тут место и слегка покутить?
Потому что возникла во мне странная смесь помраченности сознания и, в то же время, возбуждения. Какой-то сумрак, легкий лунатизм наяву. Ответа ждать, кажется, не было никакой нужды, и потому я подал ей руку, мы поднялись и просто пошли прочь из сквера. Скоро путь повел нас куда-то вниз, на горбатые, худо мощеные, кривые улицы бывшей слободы, мир маленьких домишек частного сектора. Проход здесь располагался вроде бы как по дну все более глубоких ущелий..."
Проход здесь располагался вроде бы как по дну все более глубоких ущелий, в большие дожди, а пуще того – когда таяли снега тут сплошняком, равномерным тонким слоем шла к реке вода, дома же, рябые, очень разные, карабкались по склонам вверх. В местах этих, против ожидания, никогда не было особенной грязи: вода давным-давно смыла здесь почву, как и до сих пор продолжала смывать в речку нечистоты, и обнажила истинную суть этой здешней земли – серовато-белый, слоистый, достаточно жесткий известняк. Именно его косые слои слагали склоны ущелий-промоин, именно из его неровных плит были сложены здешние бесконечные, до трехсот-четырехсот ступеней высотой, лестницы, стены вокруг дворов, сараи, пристройки разномастных домов. Она почти не знала здешних мест, но это же можно было сказать и о всех почти жителях города, – разумеется, за исключением здешних постоянных обитателей. Наконец, они вышли из какого-то бокового путика на улицу пошире, тоже наклонную, но покрытую ровным, толстым, темно-серым асфальтом, а выйдя – сразу же увидели ЭТО. Очевидно, – здесь подпертый кое-где древней кирпичной кладкой серый известняковый склон достигал самой большой высоты и, соответственно, был наиболее пологим. И как раз на середине, приблизительно, этого высоченного косогора был аккуратно выбран, словно ножом – в сыре вырезан, громадный кубический объем. На образовавшейся таким образом площадке с небольшую площадь размером, располагалось огромное красного кирпича здание, тоже почти кубическое по форме. И к нему тоже вело от основной дороги хорошее, в два резких витка серпантина, серое шоссе, не сопровождавшееся пешеходным тротуаром. Для пешеходов служила обычного для здешних мест устройства лестница из разновысоких, разной длины, неровных ступенек все из того же камня. Но было и отличие, сразу же, в первое же мгновение бросившееся ей в глаза: по обе стороны от лестницы, на всю ее высоту до самого верха в два ряда стояли разноцветные киоски и палатки. Местами лестница даже скрывалась под полукруглыми, длиной метров по восемь – по десять навесами из светлого металла. К подножью ее они сейчас как раз и направлялись, никуда не торопясь и с чувством собственного достоинства. Кивнув в сторону диковинного здания она приглушенно спросила: