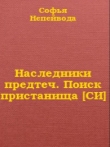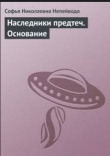Текст книги "Книга Предтеч"
Автор книги: Александр Шуваев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
– Что ж, – ты победил, римлянин... И пойдем-ка поскорее в одно тут место неподалеку, потому что надолго оставаться здесь – неудобно, а если мы не поторопимся, то и вовсе не дойдем.
Когда мы вышли, я убедился, что определенная правда в его словах содержалась: пока мы проходили очередной десяток шагов, становилось заметно холоднее, все, что располагалось между фонарями, заливал мрак такой же плотный, как в самую сволочную из ночей, а потом раздался Вздох, напоминающий больше всего начало артподготовки перед наступлением группы фронтов, слышимое с некоторого удаления, гулкий, воющий грохот, а потом небо словно бы раскололось круглой паутиной радиально направленных молний, треснутым в тысяче мест огненным куполом. А потом, смешанный с ледяной водой, что застывала на одежде, как стеариновые слезы свечей, нас настиг ветер, рухнувший вертикально вниз, и мы попадали, и не знаю, каким святым молиться, что попустили добраться до противоположной стороны улицы да ползти, – согнувшись в три погибели или вовсе на четвереньках, – прижимаясь к несокрушимому камню испытанных стен. Грохот ветра, как тысячи свихнувшихся поездов, рев тысяч громов, и снизу, постепенно нарастая, донесся обвальный грохот моря, угодившего в лапы урагана. Я довольно быстро приспособился Пролистывать время самых страшных порывов, и мой попутчик ни капельки от меня не отставал, но мы успели увидеть, как первым порывом ветра несло в океан громадную стаю молчаливых белых птиц, и некоторые из них пытались сесть на землю, снижались, но вместо этого бесшумными снарядами врезались в стены и превращались в кровяные кляксы, окаймленные перьями... Так, в импульсном режиме, мы и добрались до места, и никак нельзя было как-то облегчить этот процесс, потому что места назначения следовало достигнуть с предельной точностью, а располагалось оно слишком близко. Тут оба фонаря горели исправно, и даже сквозь сплошную завесу огня я аж метров с трех сумел прочитать скромную и солидную вывеску "Бюро найма Гудгеймера", а потом мы, изо всех сил цепляясь за леерные перила, по входному тоннелю достигли двери. Раздался гул, щит по освещенной годами традиции поднялся вверх, и мы угодили прямиком в приемную бюро. Хозяин сбросил такой же, как у меня, комбинезон и остался в мундире. Что-то в последнее время на моем пути все время попадаются ряженые в мундирах: и ладно еще, если это черный мундир сотника, но когда перед тобой предстает некто в ладно сидящей голубенькой форме комкора Военно-Воздушного Флота Народной Армии Федеративной Республики Тангал всего-навсего... Он бы еще тогу напялил и лавровый венок. Плотный, среднего роста дядечка с густыми, коротко стрижеными русыми волосами и классически голубоглазый.
– Ну? Чему обязан такими настойчивыми попытками встретиться? Неотложное дело, праздное любопытство, или же, – не дай бог, – смутные духовные искания? Впервые сталкиваюсь с такой манерой доставания меня самого...
В глубине души я, очевидно, ждал подобного начала беседы, и потому решил не показывать стеснения:
– А чем плохо-то? Просто, технично и вполне эффективно... А насчет цели, – спасибо за вопрос. До него я и сам не знал – зачем, а потом подумал: должен же кто-то, в конце концов, за все это ответить?
– Во-он оно што! Не скрою, поначалу отнесся несерьезно, но ты прилип, как маркианская "липучка", и я решил, что от меня, в конце концов, не убудет. И каких же откровений ты ждешь от меня, мой юный друг?
– Простого, человеческого жизненного опыта. Начиная поиски, я хотел встретить кого-то, кто во всем этом пребывает давно, и сейчас хочу задать самый простой вопрос: куда? Куда идут дальше те, кто добрался до этого места?
– Хорошенькое дело! Ты же стремился куда-то, была у тебя эта самая мечта... Вот и делай теперь с ней, что хочешь, а других не спрашивай! Чего-то хотел, путешествий, приключений, замков, садов... грудастых девок с во-от такими, – он показал, – задницами и во-от разэтакими ляжками, так жри теперь все это, пока не затошнит! На! Сколько хочешь и даже еще больше! Раньше надо было думать, а теперь поздно, потому что больше у тебя не будет никакого раньше, даже если бы и захотел. Понимаешь, как оно интересно получается? Бесполезно додумывать теперь, а уж спрашивать – так бесполезно сугубо. Поезд ушел навсегда, и теперь ты даже с собой не сможешь покончить, а думал ли ты раньше, что такое – навсегда, на больше, чем вечность в твоем прежнем понимании?
– Как положено в молодости, хотелось всего.
– Ага, а потом, значит, увидел, что "все" – это несколько больший кусок, чем казалось раньше. Так сказать – проглотить трудновато, – голос его напоминал какое-то ядовитое шипение, – и обрати внимание, с какой неизменностью, во вроде бы совершенно разных обстоятельствах повторяется одно и то же смертельное разочарование варвара, дорвавшегося-таки до императорского трона и вдруг увидавшего, что – не только за тысячу, но и за три-то глотки жрать не можешь! И, как ни изгаляйся, не сможешь в конечном итоге обслужить одновременно больше одной бабы, потому что у тебя всего-навсего один прибор для этой цели. Как вдруг оказывается... Только у него выход был, посвятить себя дальнейшему хапанию, а вот у тебя – отнюдь-с, и без того ВСЕ есть, то самое "все" которого, как мы упоминали выше, не проглотишь. Не надо было брать без спросу, если не знаешь, зачем это предназначено...
– Простите, – говорю, выдавив улыбку, и сам чувствую, какая она у меня выдавленная, – что-то не пойму последней фразы. Ни у вас, ни у кого другого я ничего не брал.
Он нахмурился, глядя на меня с крайним неодобрением:
– Что-о?! А ну-ка дай глянуть твои карты!
– У меня на данный локус ничего нет... То есть я могу найти какие-нибудь, только это будет бесполезно, потому что я ничем таким никогда не пользовался. Хотя, наверное, смог бы...
Тут в его пронзительных, аж светящихся светло-глубых гляделках впервые мелькнул интерес, – это-то я заметить смог, а вот на оттенок, в том интересе присутствовавший, как-то не обратил внимания. Надо думать, – на нервной почве либо же просто по глупости.
– Да что такое ты несешь? Надо глянуть...
Тут он отвернулся от меня и за "поводок" достал (я сам так делаю – с часто употребимыми вещами) стандартный набор, тянущий, пожалуй, на Расширенную Последовательность, и всецело погрузился в изучение. Хмыкнул, включил стоявшую у него на столе "мельницу" какой-то фирмы с Земли Оберона. Классная штука, это сколько же нужно было развивать ЭВМ, чтобы вышла такая удобная, универсальная, быстродействующая штука, да чтобы еще на стол можно было поставить! Впрочем, как и обычно в этих местах, это была одна только видимость, потому что была машинка погружена в солиднейшее Расширение, – я-то видел! А он, покрутив на экране а потом и за его пределами объемы поначалу с шестью, а под конец – аж с девятью переменными на точку (так что не сказать, чтобы уж очень сложные) изволил, наконец, сызнова обратить на меня свое высокое внимание. На этот раз интерес в его глазах был заметно гуще, тот самый Оттенок – тоже, но я опять-таки ничего не заметил:
– Такого не может быть, но я перепроверял три раза, так что придется все-таки считать за факт...
– Да в чем дело-то?
– Ой, прекратите вы паясничать, – в голосе его прозвучало явственное раздражение, – чего уж теперь, на самом-то деле... Явился, значит... То-то я думаю, никуда от него не денешься...
– Клянусь Четой и Нечетой, Левым и Правым – НЕ ПОНИМАЮ.
– До конца значит? Экзамен устроить решил? Так будь по-твоему: перво-наперво ни в каких последовательностях тебя нет, а это значит, что ваша милость не только не существует, но и не имеет ровно никакого права на существование. Это, – согласен, – пол-беды, это бывает, хотя в здешних местах об этом мало кто знает, но я лично такое уже видел, и не раз... Но вот на то, что у этой вот, – он опять показал, последовательности радикал только кажется мнимым, а на самом деле мнимость эта кажущаяся, и радикал, таким образом может считаться случаем, описываемым Нестандартной Грамматикой номер, – черт, запамятовал, сколько их раньше-то приводилось? Короче, – связь все-таки есть, но она такова, что от всей последовательности вы и впрямь никак не зависите, но отношение к ней имеете... чуть ли не причиной являетесь... В-вот ведь ч-черт побери-то совсем!!! Но, так или иначе, – доказано и можете снимать инкогнито. Я тоже обозлился, отнял у него набор и доказал, как и каким образом могу ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не понимать даже в том случае, если он и прав. Дошло, и он улыбнулся с необыкновенным радушием.
– О-о, но это совсем меняет дело, не так ли? Парадоксальным образом может считаться прецедентом, так что почту за честь... Только вряд ли я смогу вам помочь, потому что слишком уж мы все разные, и слишком уж для нас неприменим чужой опыт. Я в плане предположения...
Он откинулся в кресле и замер, сцепив руки, а потом начал:
– Как ни крути, а все живое неизбежно стремится к удовлетворению...
Нет, я далек от вульгарных биологизаторских теорий, удовлетворение может быть и от хорошо выполненной работы, и от того, что другому хорошо, и доходит порой до самопожертвования во имя идеи, всеобщего или же чьего-то персонального блага, – все это есть, но общей сути не меняет: бывает, что люди переносят жестокие пытки, не выдавая ближних, но это потому, что моральная боль предательства у НИХ – страшнее физической боли. Все в конечном итоге стремится к удовлетворению, какова бы ни была его природа. Но... Что такое больше удовольствия? У вас, насколько мне известно, есть очень красивая подружка?
– Есть, – вспомнил, и просто-таки не смог не улыбнуться, – очень красивая.
– А... Простите, только сейчас понял, – вы ведь с ней... до того еще, как получили... новые возможности?
– Можно и так сказать. Но я до сих пор не могу понять, к чему вы все это? То, что вы сказали об удовлетворении, это, простите меня, не откровение. Это даже уже не банальность, это самоочевидная аксиома. Правда, я не формулировал ее для себя, но это только потому что не чувствовал ни малейшей необходимости.
– Так и сидел бы, если не чувствуешь! Отношение самое непосредственное... Вот, мы худо-бедно можем представить себе, как это – увеличить возможность мыслить, как это – стать умнее. Но вдумайся, что в нас есть то, ЧЕМ наслаждаются. Такой же, в конечном итоге орган, как то же ухо или глаз, и так же, как ограничена острота твоего зрения, есть физиологические пределы способности испытывать наслаждение. Ты не кривись, ты думай... Это, в конечном итоге, вопрос ЦЕЛИ, а значит – самое главное.
Потому что отсутствие стремлений в своем пределе – СТРОГОЕ определение не-жизни, не-движения. Когда ты вдумаешься в смысл слов: "большая способность к наслаждению", – то убедишься, что мысли тонут в этом, как в какой-нибудь проклятой проблеме космогонико-полубогословского толка... Ты никак не сможешь себе этого представить, потому что ВСЕ в твоей личности обусловлено существованием такого предела стремлений, а никак не наоборот. Все мысли, привычки, привязанности, память созданы и развиваются под имеющееся значение этого предела, и если бы возникла какая-то сила, способная его отодвинуть... Вся твоя прежняя личность неизбежно будет смолота в порошок, как...
– Как вся теория шахматной игры, если хоть чуть-чуть изменить хотя бы одно правило.
– Как была бы смолота в порошок любая вселенная, если бы изменилось значение одной из констант. А? Стремиться стать тем, кому не будет ни малейшего дела до тебя прежнего, – в чем тут отличие от самоубийства?
– Спасибо за поддержку. И ваш коан мне тоже оченно понравился.
– Не так быстро. Учти еще, что при всем при том – это единственный путь, потому что путь этот только в одну сторону, и ты на него уже стал.
– Ничего такого пока не чувствую.
– Да? А ты погляди на улицу, – он подошел к окну и отодвинул плотный ставень, и по непонятному фокусу открылся вид на бухту, и видны стали совершенно неподвижные, будто заколдованные, корабли среди беспорядочных волн, гребни которых достигали верхушек мачт, пена, как слюна бешеной собаки, светящаяся в таком же бешеном блеске молний, – это же самое творится как минимум в миллионе минимально-различимых альтернатив по обе стороны от нас, и все потому только, что ты чувствовал некую тягу, и стремился к чему-то такому. Ты сплел вместе такое количество маловероятных событий, что какая-нибудь в этом роде пакость просто не могла не произойти.
Он был слишком многословен, – или возбужден, и оттого говорил слишком много. Казалось мне, что он с трудом сдерживается от того, чтобы не начать потирать руки. Он сказал дело, но сам по себе все равно мне не понравился. Кроме того сказанное им по его же определению было для меня бесполезно. Мое неодобрение он почувствовал, или, может быть, просто увидел и потому принял вид глубокой задумчивости. Потом лицо его просияло:
– А! М-м... знаешь, что? Пожалуй, не все так безнадежно вблизи. Словами объяснить нельзя, взять и врезать тебе Безусловный Символ – не хочу брать на себя такой ответственности, а вот ежели на примере? Поймешь – так хорошо, а нет...
Я кивнул с видом такого пон-нятливого, но при этом скромного слушателя:
– Значит, – пока что и не нужно.
– Вот и ладно. Пойдем...
Путь наш во всяком случае лежал через входную дверь, и мы снова оказались под дождем, только дождь этот был неожиданно теплым, он шумел в кронах и наискось лупил по кронам деревьев, которых сроду и не росло на мысе Хай. Здесь в густом, парном тумане угадывались а поверху и виднелись настоящие заросли, заливаемые потоком теплого дождя, затопленные неровным туманом, насыщенные неожиданно-сильными и разнообразными запахами. Я насторожился и вдруг почувствовал, что шевельнул ухом в направлении какого-то шороха, и поразился этому своему собственному движению.
Оглянулся, – и прямо в лицо мне вместе с облаком густого смрада грянул чудовищный рев. Я не успел разглядеть его, потому что было не до того, и потом запомнил только это свое впечатление: олицетворение Смерти. Не тот символ ее, который давным-давно принят между мистиками и книжниками, не Костлявая Леди в клобуке, а настоящее: тусклый блеск громадных клыков в разверстой пасти, на расстоянии одного короткого броска или же нескольких моих, странно-коротких шагов. Никаких подробностей Ее лика, потому что достаточно этого Знака, понятного по крайней мере для всех обитателей суши. И я метнулся в страшном прыжке прочь и в сторону, и стремглав понесся сквозь влажные, мягкие, хрупкие от избытка сока заросли, а волосы дыбом стояли у меня на загривке, в крови и голове гудел неподвластный рассудку Ужас, и рассудку, вещи весьма условной, не было тут места, потому что, явив свой безусловный знак, за мной гналась без условная смерть. Что-то напрочь лишенное мистического флера или таинственности, а, наоборот, простое, как хруст костей на зубах, как десяток раскаленных когтей, вонзающихся во внутренности. Не страх – знак, заставляющий сделать все-таки выбор, а страх – приказ, который не обсуждают. Беги! Прочь, потому что тут не рассуждают. И это, и все дальнейшее я изложил человеческими словами по возвращении, припомнив и разобравшись в своих переживаниях. Тогда я не понимал и не рассуждал. Потом моя тактика бега по мелколесью и с резкой сменой направления, очевидно, принесла свои плоды и мой страшный преследователь потерял меня. Тут высокие деревья стояли реже, а низкие – чаще, и выглядели по-другому. Но не только они по-другому выглядели: Я ПО-ДРУГОМУ ВИДЕЛ. Туман здесь стелился низкими клубами, и ливень сменился изморосью. Не сказать, чтобы мое зрение ослабело, видел я по-прежнему далеко, но все видимое стало подобием рисунков, лишенных деталей реального образа, фотографии или же хорошего живописного полотна. Цветная графика, задний план мультфильма. Символ на дорожном знаке, когда не важны подробности и совершенно достаточно простого Узнавания, обличения немногого важного от всего прочего и равно-неважного. Цвета – были, только воспринимались они в /Графилон стандартного вида. Прим.ред./ аспекте. И с той стороны, откуда за мной погналась Смерть, раздался ровный, пронзительный, всепроникающий вопль, могучий, бесстрастный и угрожающий, как сирена воздушной тревоги, только такая сирена, которая возвещает конец света. Хрустнули хрупкие стволы деревьев с листьями-перьями, листьями-веерами, и с той стороны возник громадный, возвышающийся над туманом силуэт, движущийся с невероятной, уверенной ловкостью. Теперь мне не было нужды видеть крепкие, здоровые зубы Безусловной Смерти, потому что достаточно было видения этого темного силуэта, пары фаз его движений, – а я видел движущееся именно так, как будто снято на кинопленку не с двадцатью четырьмя, и не с двенадцатью даже, а с шестью кадрами в секунду, – и видение это включило механизм бегства во мне, как рычаг включает двигатель в автомобиле, совершенно не спрашивая, как это ему нравится, и не предпочел бы он какого-нибудь другого стиля поведения. Внешнее, не спрашивая моей воли, распоряжалось моими конкретными действиями, соединялось со мной просто напрямую, воедино при каждом случае, который считало важным. И я понесся снова, с необыкновенной силой и легкостью, то переставляя ноги, как привык делать это в своей прежней жизни, то без усилий меняя аллюр и прыгая боком вперед почти одновременно на двух ногах или вообще по-лягушачьи. Никакой усталости в обычном понимании тут не существовало вообще: это устройство было много проще, оно драпало, пока Силуэт присутствовал с одной из сторон и пока само оставалось живо, и останавливалось, когда сигнал переставал поступать, или когда бегство оказывалось не под силу, и оно в этом случае просто-напросто дохло. Так что бежалось хорошо, как никогда, и могу еще отметить великолепную реакцию, с которой я во время этой пробежки уворачивался от летящих навстречу стволов и ветвей. То, что заменяло страх, и что я могу назвать Императивным Страхом или "предужасом" хлестало меня, как ветер, состоящий из свистящих на лету метательных ножей, летящий параллельно земле ливень тяжелых тусклоблещущих клинков, так, что отдельные удары, при всей своей многочисленности, воспринимались порознь, и ветер этот нес меня, как ветер обычный гонит парусную лодку. И – постепенно начало проявляться то, что я впоследствии расценил как перегрев, образовалась равнодействующая из двух стремлений, одно из которых гнало меня "от" а другое "к", и благо еще, что направления эти совпадали. Скоро под ногами моими начал дробиться пленками и брызгами лучший и вожделенный источник прохлады, единственное спасение от перегрева – вода мелкого, сильно заросшего и очень обширного водоема, и мне стало труднее улавливать переходы от одного своего состояния к другому. Блаженный покой, невесомость и плотный, податливый Мир, без малейшего зазора прилегающий к телу. Что-то вроде серовато-белого светового верха. И вообще кругом ровная сероватая мгла, из которой то, что движется и поэтому только и может быть сколько-нибудь значимым, при необходимости ПОЯВЛЯЕТСЯ. И достаточно мне шевельнуться, чтобы мир двинулся вокруг меня, став важным и потому зримым. Но и здесь покой оказался недолгим, каленым стрекалом коснулось тела издалека дошедшее колебание, острое, быстрое, пронзительное, каждый следующее острие его было длиннее и вонзалось глубже, а это значило, что упругое и быстрое тело, от которого исходят острия волнения, стремительно приближается, и пора двигаться прочь, а потом пришел... запах? Это, пожалуй, было бы самым точным из имеющихся слов, но только запах этот слился с доносящимися издали толчками и изменил их: "то, с пути чего следует убраться" превратилось в "Трепещущую Смерть", лишая выбора и заставляя бежать, бежать, бежать... На одном из извивов моего бегства гонящий даже появился из серой мглы, прогонистым, длинным Знаком, который обозначал все ту же Безусловную Смерть ЗДЕСЬ. Потом, помню, свет еще как-то был, и было где-то, не могу пока сказать – где, мое представление о самой возможности видеть, память моя в форме /Схематизированный графилон. Прим. ред./несомненно присутствовала во всем этом, иначе я не смог бы ничего запомнить и потерял бы способность к дальнейшему движению через Обходимые Двери, даже пассивному, но сказать, что я ВИДЕЛ в обычном понимании этого слова, – ей-ей не могу. Именно здесь, если и не на месте назначения, неизбывном и вечном Поле Чудес в Стране Дураков, то где-то весьма близко к нему, начали проявляться парадоксальные вещи: окончательно потеряв способность хоть как-то вмещаться в пределах одной минимально-различимой альтернативы, личность моя расширилась. Поэтому с продолжающейся редукцией восприятия вновь возросла способность к интерпретации воспринятого: это был ад. Не наивно-огненный, навеянный горячечными галлюцинациями, а Страна Ночных Кошмаров, иной раз прорывающаяся у многих в виде боязни пауков-жуков-тараканов и прочей суставчатой живой машинерии, а у большинства – в виде так называемого "отвращения", как правило направленного на что-то полужидкое, слизистое, клейко-сочащееся мутной жижей. Так вот Там – я ощущал присутствие жгучего, хищного студня, слизистых пропастей, бездн всеразъедающей влаги с такой силой, что почти видел их. Отделенные, тончайшие струйки пищеварительных соков смрадным суховеем касались глубин моей личности непосредственно, без всех буферов, воздвигнутых человеческим организмом, дикая чаща смертоносных хитиновых шипов, когда всепоглощающий мир окружает со всех сторон, и нет выхода. Когда НЕИЗБЕЖНОСТЬ смерти через несколько десятков минут есть НОРМА жизни, и все твое ничтожное, случайное жизненное пространство окружено чудовищным числом ловушек и невообразимо, непредставимо мерзких тварей, что сплавляют в себе бесконечный ужас и нестерпимое отвращение, и сам ты, почти никак не выделимый из того, что не ты, являешься ничем не защищенной, открытой ареной для ужаса в химически-чистом виде, когда он даже не заставляет спасаться, а предупреждает: через столько-то вдохов ты будешь пожран. Некуда бежать, со всех сторон плотной стеной обступают черные Знаки отсутствия всякого "будет", ряды их смыкаются. Место Назначения, финиш, Последний Предел, за которым – что-то уже поглубже, чем смерть. Но пока ряды не сомкнулись, до меня донесся иной призыв, и его тоже никак не интересовала моя воля, он просто требовал отдать тот долг, который обязано до смерти отдать все живое. Для меня, кажется, уже не существовало направления: здесь летящий в мире Зов сильнее, а здесь слабее, а я сделан так, что не могу не двигаться на этот зов. Впервые за все это страшное безразмерное время – не бегство. Стремление. Где-то, прорвав сочную, многозначительную плоть, в мир явилось яйцо, и сопроводившие его в путь соки разнесли эту весть. Если ты готов, то отдай свое семя, это твой путь в обход Знаков Последнего Предела, в конечном итоге – единственный путь из замкнутого смертью кольца, это не меняется, только движение в сторону Зова становилось в течение миллиардов лет все более сложным. Движение мое поначалу было медленным, но быстро набрало ход. Я – всплывал все стремительнее, натянутая до предела суть моя все-таки выдержала, и теперь со всем проворством сокращающегося резинового жгута вытягивала за собой все остальное. За широкими окнами во всей красе стоял полдень, на идеально чистом полу светились и мерцали радужными искрами драгоценные белые шкуры, полотнища Эманации, струясь и потрескивая, здесь были сложены в пологие кресло самой изысканной формы. Я ощутил себя стоящим рядом с одним из этих кресел, до ослепительного восторга знакомая рука придерживала меня, обнимая сзади, а пониже левого плеча я чувствовал ни с чем не сравнимую плотную нежность Мушкиной груди. Проводничок, наставничек мой, находился прямо передо мной в двух шагах и при всей своей закалке все-таки глядел, сука, в сторону и отчасти вниз. Я был мокрым насквозь и липким от заливавшего меня смертного пота, чувствовал себя невообразимо грязным, и внутри у меня все дрожало, но уже поднималась злость понимания, а потому все эти обстоятельства не были очень важными. Тем более, все это было достаточно легко исправить. Мушкино высказывание я начал понимать не с самого начала.
– Рекорд, значит, решил поставить? Сделать то, чего сроду никогда не было? Честолюбец ты, дядя.
– Меня, деточка, тоже можно понять. Соблазн, понимаешь, слишком был велик... Ведь это совершенно невозможным считалось, по определению, – а тут такой случай... Ну как было не попробовать?
– Ага, а такое понятие, как "подлость", на вашем уровне, насколько я понимаю, окончательно теряет всякий смысл?
– Только без моральных проповедей, ладно? Зря иронизируешь, потому что оно в данных обстоятельствах ДЕЙСТВИТЕЛЬНО бессмысленно. Понимаешь? Не имеет смысла. Потому как ЧТО можно назвать подлостью по отношению к личности, которой НЕЛЬЗЯ причинить вреда? Никакого, в том числе того, что в плоскостях называется "моральным". Это все равно, что писать друг о друге гадости с тем, чтобы никто и никогда не увидел написанного. Нет скверных поступков там, где нет и не может быть никакого вреда, подобные нам "веретена", столкнувшись друг с другом, как правило, этого даже не замечают... Только ему, видите ли, понадобилось найти... Вот и нашел соответственно, и нечего тут обижаться, все вполне закономерно...
– А... остальные?
– Кого это ты имеешь ввиду? "Блинов", совершенно не связанных друг с другом? Прости меня, но мораль по отношению к ним, это мораль по отношению к собственноручно намазанному за-пару-минут-всего-пару-минут-назад-между-делом рисунку. К пешке в партии, которую играешь сам с собой. К литературному герою. Я предвижу, что когда-нибудь ваш туристический подход изживет себя, и вы перестанете искать гармонию, райские места и беспорочную красоту. Вам захочется Душераздирающего, страстей, а страсти – возможны только и исключительно только, как порождение дисгармонии, как горячая кровь, хлещущая из разорванной плоти бытия, звон, издаваемый осколками вдребезги разбитых жизней. Правильное – просто, красота, как и истина – единственна, а вот причудливых изгибов дисгармоничного возможно поистине бесконечное число, интересно же, на какие осколки разлетится какая-нибудь хорошенькая игрушечка, если ее, к тому же, и не жалко? Цивилизация, сокрушенная приблудным астероидом, – но непременно так, чтобы пришибло все-таки не всех. Романтичная недотрога, проданная в публичный дом на предмет, скажем, анального секса. Распад империи, но обязательно так, чтобы с одной стороны – вроде бы как ни с того, ни с сего, а с другой – чтобы загнивание было ра-аскочным... Война, – но такая, чтобы, значит, инициатива переходила из рук в руки много-много раз, и совсем вроде бы побежденные вдруг, под оч-чень логичным соусом, воскресают, и вот уже согнуты их торжествовавшие супостаты. Не встречались ни с чем подобным, а? Вы из любопытства захотите посмотреть что будет, если, к примеру, вот ето – да поменять на во-он енто, как когда-то из любопытства заглядывали в конец книжек, но при чем тут какая-то мораль? Где ей тут найдется место?
На протяжении всего этого времени я только слушал их разговор, приходил в себя и во всяком случае помалкивал. Вспышка ослепляющей злости, слава богу, миновала без внешних проявлений, и теперь ярость моя горела ровным, прозрачным, гудящим огнем. Я поднял голову и процитировал: "По мере того же, как Нечистый дух непреодолимой Божьей волей вздымался ввысь и все ближе к источнику всякого Света и всякой Благодати, его одолевали все более сильные корчи. Он закрывал глаза и прятал их от света, изгибаясь. Тело его как бы обгорело и оплыло. Когда же бес был подъят и еще выше, глаза его лопнули и вытекли, а потом не выдержало и все существо его, в конце концов совершенно превращенное во прах..." – Точно не помню, но, кажется, дальше там было что-то о том, что:"...сама Благодать не во благо тем, чей удел пребывать в седалище у Сатаны. Всеблагий в бесконечном милосердии своем не отвергает, разумеется, не только грешников, но и самих Адских Духов во главе с Повелителем их, но всякий дух отыскивает место свое сообразно природе своей, и отвергающий Благодать соответственно этому как можно дальше бежит ее, оказываясь в чертогах вечной погибели". Насчет седалища Сатаны – сильно сказано, правда?
Он прервал свои соловьиные рулады и зыркнул на меня так, что я бы, наверное, перепугался, не произойди всего предшествующего.
–.Ты это к чему?
– Не знаю, – я старательно пожал плечами, – наверное, – так просто. Пока я слушал вашу компетентную и эмоциональную речь, нет-нет – да ловил себя на предательской мысли: а не выдаете ли вы за суть вещей собственную свою тягу к тому, что называется Цветами Зла? К эстетически-совершенным и причудливым бедствиям? Мне приходилось слышать о таких, кого подобное привлекает, как запах падали – гиену. Так нет ли здесь, – вы только поймите меня правильно, – чего-нибудь подобного?
– Нет ни добра, ни зла для игрушек. Нет ни добра, ни зла в игре. Когда до тебя дойдет эта простейшая мысль? Ведь все варианты того, что ты так красиво назвал Цветами Зла, – спасибо тебе, – все равно в некотором роде существует, присутствуешь ли ты при сем или нет, знаешь об этом, или нет... Ведь это же совершенно бесспорно!
– Не знаю, – я опять пожал плечами, почувствовав, что мое бесстрастное умничанье выводит его из себя, – более того, – знать не могу. Принципиально. То, чего я вообще никак не знаю, в некотором роде и не существует. Увы! А насчет игрушек... Вот мне тут ни с того, ни с сего в голову пришло: а что на свете – не игра? Когда в шахматы играют два гроссмейстера, получается произведение искусства. Понимаете? Я к тому, что до игры ее не было, этой партии, они оба были меньше ровно на эту партию. В результате этой игры она возникла, как некая сущность и обрела уже собственное существование. Любой творец из истинных играет с равнодушной реальностью, и эта игра извлекает из абсолютного небытия – небывалое. Да, чуть не забыл, путь мужчины и женщины, достойных каждый – своего высокого звания, друг к другу, тоже называется любовной игрой, и речь тут идет не только о постельных изысках. В результате получается новая сущность, которую прежде по наивности именовали душой, – а вы, если не ошибаюсь, именно ее именуете "блином"? И неизменно, если играет с камнем, со словами, с кистью или с другим человеком мастер – получается новая сущность, а если за то же самое берется...