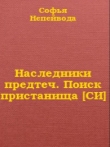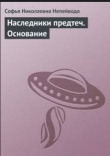Текст книги "Книга Предтеч"
Автор книги: Александр Шуваев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
Третье включение. Народ
Под вечер жар немного спал, но нельзя сказать, чтобы стало прохладно. Горы поодаль стали уже совсем синими, ясно синело и быстро меркнущее небо, а не редких, рваных облаках тревожным, красным огнем догорал закат, обещая назавтра ветреную погоду. Он уже и сейчас тянул откуда-то, этот упрямый холодный ветерок, трепал полупрозрачное от жара пламя приземистого, почти бездымного костра. Поодаль стояло несколько четырех местных палаток, а людей – у костра и на всей территории лагеря вообще было всего пятеро. Один из мужчин, тяжелый, темноликий и бородатый, сидя на корточках тихонько перебирал гитарные струны, а трое других просто молча глядели на огонь. Молчала и единственная в компании женщина, что сидела на каком-то ватнике, вытянув ноги строго вперед, словно кочевник, так что понимающим людям даже смотреть на это было жутковато. Костер, таким образом, хорошо освещал безупречно-чистое, без единой даже складочки обтягивающее ноги трико, новенькие, белые, идеально-чистые кроссовки "Пума" и выглядывающие из них белоснежные, – не от мира сего, – грубошерстяные носки с аккуратнейшими отворотами. Один из мужчин пошевелился:
– Чер-рте что! До сих пор никого... Может, – заблудились?
Его сосед только неопределенно пожал плечами.
– Да нет, в самом деле! Кстати, – это ведь ваша идиотская затея, чтобы непременно встретиться в этой дыре... Ну точно ведь не найдут!
– Вам легко говорить... Куда захотели, туда и выехали, когда захотели, тогда и выехали... А нам каково? По-моему, – так самое подходящее место: с одной стороны – центр туризма, с другой – можно спокойно поговорить без боязни, что нам помешают. А кроме того, я вообще не понимаю, к чему вся эта паника? До истечения контрольного времени, если не ошибаюсь, еще далеко...
– Контрольное время – контрольное время...
– Уважаемый Об, – вмешался в разговор третий, – не ворчите. Все мы в той или иной мере нервничаем. Не знаю, как Нэн?
Он обернулся к женщине, а она терпеливо улыбнулась в знак того, что слышала, и промолчала.
– Мама!
Бородатый с гитарой, дернулся в сторону, потерял равновесие и сел. Гитара, упав на камни, издала протяжный, глухой звон, а следом на ноги вскочили и все остальные, кроме женщины: косо, со стремительностью налетающего коршуна и басовитым свистом с темнеющего неба сорвалось громадное треугольное крыло, выкрашенное в пиратский темно-серый цвет. Подвешенный под ним летун ловко освободился от своей хитроумной сбруи и во всей красе предстал пред честной компанией. Это был невысокий, поджарый, носатый мужчина с энергичным сухощавым лицом.
– Здорово, ребята, – проговорил он, обводя их нахальным взглядом, и, распустив, откинул отороченный мехом капюшон, – я не ошибся адресом?
– Тьфу! – Названный Обом ожесточенно плюнул. – Между прочим дурацкие шутки!
– Зависит от вкуса...
– Кем слывешь?
– Как? А, понял... Это уже дело. Позвольте представиться, Тайпан.
И он обошел мужчин, энергично пожимая руку каждому из них, коротко заглядывая в глаза и отрепетировано улыбаясь. К женщине он подошел в последнюю очередь, – за все это время она так и не сменила позы. Нагнувшись, он изящно взял ее узкую руку и по всем правилам поцеловал, потом глянул в ее лицо и отвел глаза:
– Господи, красивая-то какая, – пораженно проговорил он, – как зовут вас, леди?
– Тут не спрашивают, как кого зовут, – в голосе ее едва заметно прозвенела насмешка, – все равно тут никто никого не видел раньше, и если мы не придем ни к какому решению, то имена нам будут вовсе ни к чему. Здесь спрашивают, – кем слывешь? Этого достаточно. Нэн Мерридью, – к вашим услугам.
Он еще раз осторожно посмотрел в ее длинные, насмешливые глаза и тихонько спросил:
– Я вам понравился?
Она опять сдержано улыбнулась и кивнула головой:
– Очень.
Между тем откуда-то снизу послышался приглушенный говор, и через несколько минут на площадку вышла первая группа гостей. Народ тут все собрался пунктуальный, и за оставшиеся до контрольного времени полчаса собрались все, из имевших быть, в отличие от слывшего Тайпаном избрав исключительно древнейший способ передвижения.
– Кажется, – все, – подвел итог давешний пугливый гитарист, обводя собравшихся цепким взором, – и кто же начнет первым?
– А вот хотя бы вы, – пожав плечами, проговорил высоченный молодой мужчина южного типа, с округлым крутым подбородком, – как хозяин...
По-английски он говорил с каким-то странным акцентом.
– Пожалуйста, – легко согласился бородач, – только я, если можно, сидя, а? И, восприняв молчание за знак согласия, он с медвежьей мягкостью уселся по-турецки.
– Итак, леди и товарищи, граждане и мистеры, положение у нас создалось несколько парадоксальное: мы отлично знаем, зачем собрались здесь, мы очертили и охарактеризовали друг друга до подробностей, но за глаза, и теперь, зная о человеке все мыслимое и немыслимое, зачастую не можем сказать, – о каком именно человеке. Назрела ситуация, замечательно подходящая для веселых розыгрышей, когда о возможном соратнике известно все, кроме его внешнего вида... Поэтому предлагаю каждому выступающему сообщать по крайней мере, кем он слывет. Хотя, конечно, кое-кто кое-кого здесь знает... Воспользовавшись правом Зачинщика, я, как говорится, повторю общеизвестное, подведя черту минувшему. А резюме это состоит в том, что все собравшиеся здесь, за редким исключением, совершенно независимо друг от друга, не сговариваясь, на основе совершенно разных наборов сведений равно пришли к выводу о сомнительных, мягко говоря, перспективах земной цивилизации. Пусть даже речь идет не о биологической гибели вида Нomo Saрiens, а всего-навсего о безобразных, кровавых, сокрушительных потрясениях, неизбежных, по нашему общему мнению, в самые ближайшие десятилетия. Другое, что объединило по крайней мере, большинство собравшихся, это активное нежелание пропадать вместе с остальным человечеством, не подчиниться тому грядущему ататую, многообразные механизмы которого сами же и открыли. Реалисты, мы понимаем совершеннейшую невозможность не только переломить к лучшему, но даже и в малейшей степени облегчить судьбу человечества, поскольку на современном этапе любая новация технологического или социального плана парадоксальным образом приведет только к нарастанию дисбаланса между различными социальными и национальными группами и может просто-напросто ускорить катастрофу, заменив один ее механизм на другой. Никто из нас до сих пор ни разу не произносил вслух идеи о создании дочерней цивилизации, но, если не ошибаюсь, идея эта просто носится в воздухе. И не только идея. Это еще и эмоция, субъективное, очень личное нежелание многих подчиниться нежелательной тенденции, отвечая за чужие глупости, чужую неспособность провести оптимальные решения, за былые ошибки и неподъемное бремя греховЕ "Лично мне это не подходит..." – это серьезно , господа и товарищи. В отличие от всяческих рациональных обоснований произвол – это божественно, это вообще, на мой взгляд, самое важное в жизни и к такому проявлению согласных воль необходимо отнестись со всей серьезностью. Я, например, не желаю подыхать в атомной войне, которую без моего согласия затеяли какие-то идиоты. Я не согласен довольствоваться тем количеством всякого рода благ, которое положат мне непонятным образом сцепленные чиновники. Я не желаю дышать отходами промышленности, выпускающей совершенно ненужные мне вещи и бездарно спроектированной не мной. И случилось так, что мы имеем по крайней мере теоретическую возможность без всякой помощи государственных институтов уйти из этого мира, с этой планеты и из этого времени... Потому как что есть время, как не какие-то его характерные признаки? А еще меня лично раздражает то обстоятельство, что в последнее время все на свете обосновывают потребностями прогресса: если вот это, значит, прогресс, так оно уже поэтому хорошо... Кому – хорошо? А вот ничего подобного, если это не нравится лично мне! Знаменитое высказывание относительно "после", относительно "меня" и еще про потоп, имеет помимо всего-прочего глубокий позитивный смысл, ускользающий от тупиц, свихнувшихся на морали: на свете нет ничего вечного, а время моей жизни, если это хорошая жизнь, – тоже время, не хуже и не лучше никакого другого. Поэтому скажу откровенно, что главной и единственной задачей своей считаю прожить свою жизнь так, как мне это нравится. Этот символ веры убежденного, воинствующего индивидуалиста даже нельзя считать аморальным, потому что применение любой веры всецело зависит от апологета, а лично мне не нравится издеваться над людьми, и скучно обжираться, и никак не подходит проводить жизнь в пьянстве и блуде... Хотя я люблю и то, и другое. Так вот, спрашиваю я, чего худого будет в том, что я буду заниматься тем, что я хочу и так, как хочу? Среди почтенной компании, собравшейся здесь, есть люди, мягко говоря, весьма состоятельные из стран, где это не является преступлением, поэтому они могут не вполне понять мои побуждения, а для меня – одна только возможность не иметь над собой идиота-начальника – уже очень дорогого стоит! Этим людям просто приходится меня терпеть, потому что без этого кое-что просто-напросто не получается, но это кое-что – служит их тупоумным, бескрылым, безобразным целям, а это обидно, и если есть хоть малейшая возможность изменить это обстоятельство, – я пойду на все. Даже если придется сдохнуть по ходу дела, – это будет исключительно мой выбор, а помирать все равно когда-нибудь придется... Относительно же моих возможностей собравшимся, по-моему, известно достаточно, и на эту тему распространяться мне не хочется. Добавлю только, что, помимо всего прочего, я занимаю достаточно высокое положение в том своеобразном виде, который характерен для нашей страны, и, если потребуется, могу... Внести свой вклад и в этом планеЕ Об, призываю вас подхватить эстафету...
Тощий, весь жестко-пружинистый, с коротким ежиком серо-серебристых, стальных волос на голове, Об неторопливо прикурил от веточки, выхваченной из костра и неторопливо разогнулся:
– Мир, полный людей, отвратительно-инертен. Это аксиома, всю нестерпимость которой в полной мере могут оценить только математики, да еще, разве что, писатели. И тем, и другим писан закон, его мы блюдем и развиваем, но и развивая – блюдем. Зато в остальном – наша воля, и строительство наших городов, что крепче камня и прозрачней воздуха – зависит только от нас, от нашего умения, от нашей силы и от нашего вкуса, наконец... И, смертельным контрастом этому, – тупая, инертная, анти-логичная, анти-справедливая, полная анти-смысла жизнь вокруг. Мы постоянно, только за редким исключением проигрываем из-за странной смеси нетерпения с отвращением, и только хуже бывает, когда приспособишься и научишься не проигрывать вполне приспособленным к этой жизни тупицам, потому что это только усиливает внутренний разлад. Масса тупиц и людей, которым и так очень даже хорошо, стоит между мной и делами, которые с обычных позиций пришлось бы считать магией, чудом, – так чего же мне еще желать, если не превращения окружающего бытья в мягкий воск, который можно лепить в соответствии с собственной волей? Пределом моих стремлений по характеру, по профессии и по призванию является такой порядок вещей, когда самим бытием становится моя овеществленная мысль, и мир зависит только от меня... При том, что я реалист и прагматик до мозга костей, я – раб этой холодной и ослепительной в своей неосуществимости мечты. Впрочем, – иначе она не была бы мечтой... Поэтому, если мы не предпочтем безделья, я – с вами, и теперь мне хотелось бы выяснить, кем слывешь ты, любезный корреспондент?
Поименованный таким образом поднялся, оказавшись ростом и фигурой под стать бородатому гитаристу, разве что самую малость пониже и помускулистей. Квадратное лицо удивляло странным выражением, смесью флегмы с абсолютной самоуверенностью, бледно-серые глаза смотрели сонно и веско, а громадные руки с узловатыми, длинными пальцами висели вдоль туловища, как гири на якорных цепях.
– У меня все просто. Всю жизнь я работал. Взявшись за дело, я никуда не спешил и очень старался. Неудивительно поэтому, что очень скоро это дело оказывалось сделанным, я слегка досадовал и брался за следующее. Пока я работал исключительно на себя, мне казалось, что так у всех, и вообще – все это в порядке вещей, но потом стал браться за проблемы все менее очевидные, за дела все более сложные, со все более сомнительным, – как говорили мне Люди Знающие Жизнь, – исходом. Я по-прежнему никуда не торопился и очень старался, после чего, – увы! кончались и эти проблемы, и я почувствовал, что мне тесно в прежних рамках, они затрещали под напором изнутри. Тогда оказалось, что дела мои почти никому не нужны. А когда нужны, то пугают. Я доказываю свою правоту, как дважды – два, и с моими доводами соглашаются, но из этого все равно ничего не выходит, потому что для Людей, Знающих Жизнь доводы волшебным образом оказываются отдельно, а их неверие и трусость – отдельно. Плодовые быстрорастущие кактусы – пожалуйста! Многолетний хлопок для засушливых районов? Ради бога! Плодовые дубы с урожаем в пять центнеров с корня? Никаких проблем! Взял заказ на выращивание леса в пустыне Тар, и выростил.
– А, так это, значит, вы?
Тяжелорукий медленно кивнул.
– Да, это я... Но после этого выяснилось, что не позволяют политические соображения, и кому-то я крепко с этой пустыней наступил на ногу... Что прокорм голодающих – суть совершенно пагубная вещь для производства и Высокого Дела торговли п-продовольствием в этом охреневшем и оскотиневшемся мире... Что есть более существенные и насущные дела, вроде как, к примеру, постройки еще двух авианосцев, а поэтому новая страна там, где жить совершенно невозможно, неактуальна, а осуществление проекта даже и при технической исполнимости – как минимум вредный бред, – или бредовый вред, точно не помню, – с точки зрения идеологии и Блоковой Политики... Ну скажите, куда мне девать себя после всего этого? Так что, господа мои, другого выхода у меня просто-напросто нет, и если бы не подвернулся вариант с вами, пришлось бы придумывать какой-нибудь другой выход, вроде свержения правительства в Аргентине или скупка какой-нибудь страны в Черной Африке. Мне жизненно необходимо действительно неподъемное дело, которого хватило бы на всю жизнь. Если на этот раз не ошибаюсь, то предстоит именно этот вариант. Я буду полезен, как биолог и парабиолог широкого профиля на стадии подготовки, а после... После предполагаю действовать в пределах собственной специальности...
– Полагаю, господа, что мы имеем дело с опасным фанатиком и еще хлебнем горя с господином... Кем слывешь-то, подвижничек?
Тот поднял ручонки и с некоторой задумчивостью поглядел на них, а потом, наконец, проговорил:
– Фермер. Разве ж это не видно с первого взгляда?
С этими словами он сел, уступив виртуальную трибуну давешнему летуну.
– Да будет известно почтенному собранию, что я слыву Тайпаном, но имя это отражает, скорее, мое происхождение, а не натуру, потому что с самого раннего детства я чувствовал в себе нечто птичье, причем не от тех вполне реальных пташек, для которых полет – только средство, а от Птицы Вообще, смысл которой – лететь, а цель имеет, в общем, второстепенное значение. И если кто-то летает сейчас, то существовало же и стремление к полету, не могло не существовать, было движение в этом направлении, чтобы подняться над двумя измерениями. Вот и меня, военного летчика, прежде всего по-птичьи тянет в то, что находится над полетом точно так же, как полет находится над ходьбой, и уже во вторую очередь этот вопрос интересует меня, как теоретика. Так вот, узнав, как сопрягаются мои воззрения на этот счет с некоторыми новыми для меня работами из числа тех, что почтенное собрание оставило для внутреннего потребления, я не колебался ни секунды: для меня упустить такую возможность значило бы смерть до смерти. А главное, – зачем? Смерть в бою или в деле должна для всякого настоящего мужчины и, тем более, – для офицера и джентльмена считаться естественной и желательной. И уж во всяком случае возможность смерти не должна влиять на решение мужчины в моем возрасте. Вы?
– Я боюсь повторить уже сказанное, – проговорил очень высокий и очень красивый молодой мужчина "южного" типа, с тонкими черными усиками, – потому что в первую очередь тоже хочу видимых сдвигов, больших свершений. Практика показывает, что подобные вещи происходили тогда, когда возникали или складывались безупречные, лишенные слабых мест общности людей. И тогда не имело значения сколько и чего им противостоит. Так македонцы били персов в любом количестве, сколько бы их не встретилось, а христиане развалили и опрокинули Рax Romana. Так нить из бездефектного алмаза режет закаленный рельс, как будто бы это воздух. Дело в том, что отсутствие дефектов само по себе совершенно меняет свойства целого, и у меня возникло ощущение, что именно с такой, практически-лишенной слабых мест общностью я имею дело. Одно только это обстоятельство внушает определенный оптимизм. А кроме того – для чего жить, если не для хорошей компании? Обо мне вы слыхали, как о Ресибире, и это прозвище, очевидно, хорошо передает мой характер. Столкнувшись с законом социального противодействия, я сатанею, и тогда, хоть и осмотрительно, но все-таки лезу на рожон, либо же, напротив, подставляю шпажонку под прущий на меня в лобовую атаку танк... Если мы придем к соглашению, обещаю использовать эту свою особенность исключительно во внешней среде.
– А по-моему здесь собралось не Безупречное Общество, проговорил доселе молчавший Оберон, – а банда самовлюбленных демагогов и надутых павлинов... Господа! Мало того, что вы говорите много и с удовольствием: вас еще и самих много. А вот дама у нас, наоборот, одна... Надеюсь, никому не придет в голову возрожать? Нэн, прошу вас...
Она осталась сидеть, и только подобрала ноги под себя:
– С одной стороны, – приятно, что здесь есть джентльмены, проговорила она с обычной своей холодноватой и бледной улыбкой, – и относятся к тебе вроде бы как к леди, но я так рассчитывала, что обо мне в ходе этого мероприятия забудут. Разумеется, я понимаю, что вы всего-навсего хотели быть любезным и внимательным, но мне-то вовсе не хотелось говорить на эту тему... Ладно, если уж это строго необходимый ритуал, я отмечусь, поскольку не в моих привычках увиливать от каких бы то ни было обязанностей. Так вот, у меня причина проста: в последние несколько лет мне стало холодно и скучно жить. Настолько, что становится попросту нечем жить. В той или иной мере это было всегда, и вся жизнь моя – стремление уйти от этого холода. Тридцать три года, – а я помню себя с очень раннего возраста, – я живу, как бесчувственная машина, однажды запущенная с целями, которые не известны никому. В том числе и мне самой. И всю свою жизнь я ищу пути, чтобы уйти от этого странного положения, хотя не могу сказать, чтобы и оно сильно меня волновало, и успела испытать для этой цели много всякого, хотя кое-что совершенно неожиданно оказалось для меня полностью неприемлемым. За мной неоднократно пытались ухаживать мужчины, и я честно пыталась принимать эти ухаживания, а потом наступал определенный момент, тогда я как будто бы стеклянела, и на этом обычно все и кончалось. Пару раз за мной пробовали ухаживать лесбиянки, которые принимали меня за подобную себе, но уж это было мне и вовсе ни к чему, я чувствовала это. Встреча с вами – еще один, до сих пор неиспытанный путь. Его необходимо пройти, как все прежние, потому хотя бы, что он по крайней мере ничем не хуже всех других возможностей. Поэтому я с вами, а специальность и квалификация у меня, кажется, подходящие... И скажите, кто именно из здесь присутствующих слывет Тартессом?
Из тени выступил среднего роста человек с кучерявыми черными волосами, пристальным взглядом как будто бы прищуренных глаз и крутым угибом на подбородке, обычно свидетельствующим о страшной силе воли и большом упрямстве обладателя. При том, что был он невысокого роста и телосложения был хоть и крепкого, но отнюдь не избыточно-массивного, при первом же взгляде на него непонятным образом чувствовалось, что он обладает страшной, стихийной физической силой, что сродни силе дикого зверя с железным костяком и стальными мышцами. Есть такие люди.
– Я точно знаю, что есть только одна вещь, которую следует искать: это проявления воли Господней во всем. Мне – жизненно необходимо убедиться, что и под другим небом душа моя останется частицей Его. Говорю вам заранее, что считаю вопросы веры делом сугубо личным, интимным и уже хотя бы поэтому никому не намерен навязывать своих воззрений. И я, как положено настоящему баску, многое умею и никогда не отступаю перед трудностями.
– Пожалуй, – проговорил некто, именующий себя Хагеном, высказанных в этот вечер деклараций было вполне достаточно, так что предлагаю присутствующим определиться в своем отношении к тому, что предварительно названо Исходом, а после этого перейти к практической выработке плана наших дальнейших действий. Или кто-то не согласен и желает еще высказаться?
Таковых не нашлось и собравшиеся с необыкновенной организованностью и быстротой перешли к обсуждению чисто-практических и никого не касающихся вопросов. А итог дискуссии, совсем уже поздно, внезапно подвел Некто в Сером.
– А знаете, что?– Он сделал паузу, обводя собравшихся взором, полным сомнения. – Сдается мне, что ни х-хрена у нас не выйдет... И знаете, почему? У нас все-таки не хватает какой-то стержневой фигуры, и я, к сожалению, не представляю себе – какой. Страшно представить себе – какой.
XXIII
У зла все-таки есть – цветы. Теперь-то я вспомнил один эпизод, который мог бы и раньше объяснить мне этот немудреный факт, если бы я только проявил тогда это желание – понять. Тот случай относился к той категории, которую мы все более всерьез именуем в последнее время "одиночным разрядом". Там не было ничего особенного, просто-напросто, будучи в сумрачном настроении я в своих одиноких блужданиях забрел в широкое и бесконечно-длинное ущелье, где в сером небе над самым горизонтом, касаясь его в вечном закате, светило мрачно-лиловое светило. Здесь, в берегах из густо-синего, монолитного, чуть морщинистого гладкого камня текла горячая красная река, и ровный, мощный, всепроникающий рокот сопровождал ее неукоснительный бег. Кое-где на берегу виднелись то ли какие-то подобия тощих зеленовато-желтых хвощей, то ли вовсе древовидные кристаллы. Из бесконечности – в неизвестность текла река, и с трудом можно было разглядеть противоположный берег у Реки Крови. Тут же мне пришло в голову, что впадать она должна непременно в Море Мутного Огня, и я успел прикрыть рукой свои глаза, чтобы судьба не привела увидеть еще и это. Я был на ее берегах – как муравей, но понял однако, что это и во мне, в моей душе протекает бесконечная Река Крови. Не жила мироздания, не кровеносный сосуд чудовища или чудовищного символа, не какая-нибудь там аллегория череды поколений, а река пролитой крови, река без моста и брода, потому что и во мне – она, и оттого не уйти мне с этого берега совсем и навсегда. Тогда я не понял этого, и ушел просто так, как уходил до этого всегда и отовсюду. А вспомнился мне этот полузабытый и не имевший последствий эпизод в связи с происшествием, относившимся уже к "парному разряду". Вернувшись в тот раз с ночной охоты, мы дали-таки себе волю. Потом я довольно-таки ядовито спросил, как ей понравилось пережитое приключение, но она ответила неожиданно эмоционально и, к тому же, на полном серьезе:
– Да ну их к ч-черту! Никогда не подумала бы, что хищником быть так скучно... Все переживания как будто отлиты раз и навсегда, стандартизованы и лишены оттенков. Пьянка, течка, случка, спячка... А! У нас интереснее.
– Все равно надо было попробовать. Глядишь, – чему-нибудь новенькому и научилась бы... З-знаешь, как он ее за шиворот?
И показал.
– У-у, – отреагировала она и начала прогибать спину, потому что я начал водить губами по ее пояснице, вдоль позвоночника, касаясь даже не кожи ее, а почти невидимого пушка на коже, потому что знал: этого она сколько-нибудь долго терпеть не сможет, – а почему это мы сейчас ничего не делаем?
– А чего бы это нам хотелось де-елать?
И тут ее лицо приобрело характерное, никогда более не встречающееся выражение, характерное для тяжелого течения Морального Пароксизма. Интересно, что в подобных случаях она, кажется, сама верит тому, что говорит. На протяжении, может быть, целых десяти минут верит. Другое дело, что проявления этой веры, – согласен, – бывают достаточно-своеобразными.
– Уж по крайней мере – только не эту вещь...
– Угу.
– Нет, честное слово!
– Да я же не спорю...
– Ты себе, между прочим, не представляешь, как это ужасно!
– Само собой.
– Боль почему-то больше даже не там и не внутри, а отдает в голову... Как будто кто-то выклевывает мозги.
– Наверное, это и впрямь ужасно.
– Еще как. В общем – чтобы не смел больше!
– Можешь быть уверена.
Конечно, не будем. И "эту вещь" не будем, и про обезьяну с красным, голым задом – тоже не будем. У нее тем временем едва заметно участилось дыхание и чуть расширились ноздри, что для понимающего человека (а я, если отбросить ложную скромность, – ведущий специалист по мухологии) является достаточно показательным признаком. И он не подвел. Мы расположились в простой, безыскусной, совершенно первобытной позе, которую оба, тем не менее, любим. Я, в том числе, еще и за то, что руки свободны и их можно совершенно спокойно положить ей на талию. Кроме того – из окон этого номера открывается совершенно потрясающий вид. Она порядочно завелась уже загодя, в ходе своей моральной проповеди, и по ходу дела завод этот, понятно, только нарастал: через некоторое время она начала делать тонкие намеки, на разный манер прогибая спину, но я этих намеков не воспринимал. Принципиально. В конце концов, – обещания-то зачем было выбивать? И это длилось до тех пор, пока я не был исторгнут со всей решительностью и определенностью и не был с той же определенностью наставлен на Путь Неистинный. Наши прогулки по этой тропе можно пересчитать по пальцам, и до сих пор не понимаю, зачем ей это надо: если же исходить из экспериментальных данных, то, по-моему, только для того, чтобы жалобно кричать в начале, мучительно стонать – в разгаре, и бурно рыдать – по окончании. А потом еще час или около того со мной не разговаривать и люто меня ненавидеть. Правда, еще через пятнадцать-двадцать минут она отдается мне с совершенно-особенной страстностью. Как-то раз она мне все-таки намекнула этак вскользь, что один из ее близких анноунов, так называемая "крыса", приблизительно тринадцатилетняя девчонка, находящаяся, натурально, на содержании сорокалетнего светского льва, бездельника и отпрыска семейства богатейших магнатов. По ее словам, мужчина этот, при всем своем безделии, очень умен, крайне испорчен и может быть страшно опасным, а "крыса", как это и положено, жуткая стерва; это, собственно говоря, одна из основных причин моды на "крыс" вообще. Она не вдавалась в особые подробности, но по некоторым намекам тут можно предположить наличие какой-то связи. Так вот, на этот раз я, чуть в ходе процесса опомнившись, заметил, что нас в буквальном смысле занесло: сами мы все в той же позиции находились на поросшем сочной травкой бугре, а бугор этот непонятным образом, на манер миража, находился НАД совсем-совсем другой почвой, поросшей тонкими оливково-зелеными травами, с приблизительно полуметровым просветом. Верхняя часть бугра, вместе с нами, выглядела вполне реальной, но, чем ниже, чем ближе к непостижимому интервалу, тем более призрачной становилась материя этого подвешенного островка. То, что располагалось вокруг, можно, в общем, назвать редкой рощей кряжистых, узловатых деревьев с серовато-зелеными мелкими листьями. За деревьями, в некотором удалении, виднелся песчаный берег, а за ним – голубело море. А метрах в тридцати от нас, слева и чуть сзади, стояли, разинув рты, и глазели на наши упражнения какие-то человеки. Особей восемь. Худые, жилистые, косматые, с кожей, скорее загорелой, нежели по-настоящему смуглой. Мужчины, числом шесть человек, были одеты в серые от пыли и неотбеленности набедренные повязки. Женщины щеголяли в юбках все того же естественного цвета, демонстрируя отвисшие груди. У одной из них на руках был младенец. Кстати, – они, вообще говоря, косматыми не были и носили по две довольно сальных с виду косицы. Слава богу, что хоть напарница моя не заметила поначалу всех этих обстоятельств, довела дело до желаемого ей завершения и замерла, закрыв глаза и подавшись назад. Не знаю, какие подробности нашего взаимодействия смогли воспринять в этом ракурсе наши зрители, но только Мушка открыла глаза, увидела их, и я понял, что это зрелище к разряду бесплатных, похоже, не относилось: поднявшись, она двинулась к ним, и земля плавилась под ее шагами, и воздух клубился волнами раскаленного марева при каждом ее движении. Ее? Она осталась потрясающе красивой, и суть ее внешности, пожалуй, тоже сохранилась, но заявить, что ЭТО – моя Мушка, сейчас мог бы только слепой. Эта женщина осталась стройной и изящной, но это было изящество сосредоточенной, разящей мощи. При тонкой талии, – очень соразмерные, но больно уж широкие плечи, прекрасной формы, но массивные, широкие бедра, округлые, мягкой формы мышцы, налитые ужасающей силой, изящные, длинные пальцы, при первом же взгляде на которые очевидной выглядела их способность как цыпленку – свернуть голову любому атлету. Она выглядела, как тяжелая бронзовая статуя, которая ожила, обрела необходимую гибкость, но при этом осталась непостижимым образом по-прежнему металлической. У нее была довольно смуглая, бронзовая кожа, но без фиолетового негритянского или чуть пепельного индусского оттенков, и я вспомнил один из присущих ей эпитетов: Темная. Не могу сказать, была ли она в этот момент огромной, не могу сказать, потому что не знаю, потому что вопрос о размерах странным образом не имел никакого смысла. Была Она, вокруг которой гнулось, потрескивая, как оконное стекло – под напором нечисти, пространство, – и все остальное Мироздание, как сомнительная студийная декорация, вокруг, бледным фоном. Я упоминал уже о сути внешности, но тут еще и глаза остались по-прежнему желтыми, огромными, горящими лютой яростью, но при этом мрачными, такими, которые могут принадлежать только натуре отнюдь не порывистой, а глубокой и беспощадной. Очень темные, коричневато-красные губы приоткрылись, и раздался злобный визг, уподобить который в этом мире попросту нечему: очевидно, так визжал меч Младшего Сына Муи, отлетая от несокрушимой кладки небесного свода, когда этот самый Младший Сын в неизбывной злобе своей пытался его разрушить. Людишки, к которым она двигалась, повалились наземь, как подкошенные, и я далеко не уверен, что они были так уж живы и попадали просто так, но я знал, чувствовал, что это далеко еще не все, и ярость ее выплеснется на все окружающее, стирая его в порошок. Да что там н в порошок? В Ничто, в Изначальную Пустоту, в бессвязно бормочущий, слабоумный хаос, в котором блуждают одни только тени, сошедшие с ума от ужаса. Миг, – и все, что находится перед ее глазами, с грохотом рухнет в Ничто, потому что в злобе своей она, по-моему, обязательно позабыла бы про весь тот мир, что находился позади нее, и он, по крайней мере – временно, остался бы невредим... Экая, понятное дело, глупость, но именно в такой последовательности проносились в моей голове суматошные мысли: поначалу оч-чень отчетливо представилась картина Вселенной, – или чего-то сопоставимого с ней по масштабам, – когда она вот досюда – есть, а вот отсюда – нету. Совсем. И только потом возникла мысль, что ее необходимо любым способом остановить. А следом: КОМУ это – необходимо? ЕЙ – так хочется, и я никогда не видел ничего прекраснее Темной в ее миросокрушающей ярости, а есть ли какое-нибудь дело мне до всех остальных, и до ЭТИХ ВОТ – в особенности? Разве же я пастух для братьев моих? Для тупоумных, убогих, грязных... БРАТЬЕВ моих!? И, кажется, одна только эта мысль сама по себе, без всякого участия мускулов вздернула меня на ноги. Вот только после всего этого мне в голову пришло благоразумнейшее: А Я СМОГУ? Я вообще-то – смогу что-нибудь сделать? Тогда я посмотрел на себя и несколько подуспокоился, потому как оказался вполне-вполне даже подходящей ей парой. Вот представьте себе, если, достигнув зрелости, человек не начнет дряхлеть, стареть и болеть, не расплывется, не высохнет и не станет дряблым, а потихоньку продолжит развиваться в том же направлении, в котором развивался без помех лет с двадцати – и до наступления зрелости? И если это будет продолжаться неизвестно какой, но огромный промежуток времени? Вот именно, и для этих твердых, как корни дуба, огромных, жилистых мышц, прикрепленных к толстенным костям, вес собственного тела и впрямь не должен был иметь особенного значения. Я был как минимум вдвое массивнее ее такой, какой она была сейчас, и много превосходил ее той, другой Силой, соответственно /Графилон высокой степени безусловности. Прим.ред./ единой со всем остальным, что было в моем распоряжении. Я прянул к ней, в единый миг оказавшись рядом, как будто само это стремление перенесло меня. Это напоминало удар молнии, но успел я едва-едва, потому что все вокруг уже плыло и чудовищно перекашивалось, искривлялось, как в Лживом Зеркале, готовясь сразу же, целиком лопнуть и рассыпаться, как рассыпаются клепки на бочке, когда полопаются обручи. Я схватил ее на руки, и остановил исходящий от нее поток Полного Разрушения, и в море встали вихри, и ветви на деревьях вздыбились, а вершина единственной на этом острове горы с оглушительным грохотом поросла густой щетиной мрачно-сиреневых молний. Так разряжались остаточные напряжения, которые я не успел и не смог разгладить, а я уже волок ее через никогда не виданные темные, сводчатые коридоры, а она своими острыми, металлически-блестящими ногтями драла мое лицо, почти до глазниц поросшее курчавой русой бородой, и выла, как миллион обезумевших злобных кошек. Вдоль цепочки разноцветных огней, висящих в темной пустоте, я уносил Темную, за содомскими развлечениями которой осмелились подсмотреть, а она в ответ на это решила сокрушить все, что ее окружало. Чтобы вся подвернувшаяся ей под горячую руку вселенная схлопнулась, как пузырь на воде, угодивший между камнями, без следа, но красиво и эффектно, чтобы выросший Цветок Зла был бы уж по крайней мере махровым, как гвоздика, изысканно причудливым, как тропическая орхидея...И душистым, как смесь тех самых ее духов – с тухлым свиным дерьмом! Когда мой порыв прочь с того несчастного места иссяк, вокруг царили сумерки, а тусклый свет, разгонявший тьму проникал под своды этого места сквозь широкие окна, имевшие форму трапеции с закругленными углами. Вся обстановка этого помещения была угловатой, твердой, и окрашенной в темные, почти черные тона. И очень скудной. Тут до убожества не было ничего лишнего или хоть сколько-нибудь радующего взгляд. За окнами медленно, плавно, бесконечно проплывал туман, и внизу расстилалось туманное море, из которого торчали неимоверной высоты деревья с пучками грубых черных листьев на воздетых кверху, уродливых ветвях, а наше летучее обиталище проплывало метрах в пятидесяти-семидесяти над самыми высокими вершинами. Громадный черный скат со сводом посередине, обреченный вечно кружиться над этим бесконечным лесом, затопленным сумеречными, вечно клубящимися парами. Я узнал это место: безусловно, – один из вариантов Земли Пьера, и, судя по избранному им миру, был этот Пьер человеком чудаковатым и мрачным. Оглянувшись на свою спутницу, я увидал только смутную, неподвижную пепельную тень с неразличимыми чертами, и дело не только в том, что в этом летучем узилище не хватало света: на нее НЕВОЗМОЖНО было посмотреть пристально, так же, как НЕВОЗМОЖНО было заговорить. Серая, безмолвная, неподвижная тень в углу, на топчане из жесткой черной древесины, ничем не покрытой. Все, что осталось от недавнего сокрушительного Облика, явленного древним обитателям чего-то, на мой взгляд похожего на Средиземноморье. Обглоданная душа в обглоданном до чистых костей мире, и увидав это, я решил не выяснять собственного своего нынешнего облика, потому что почувствовал, – это еще не конечная станция, это только полустанок для моего порыва.