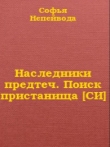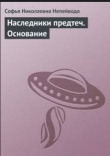Текст книги "Книга Предтеч"
Автор книги: Александр Шуваев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 28 страниц)
Следующим местом было подножие гладкой, черной стены, бесконечно устремленной вверх, у того места, где она плавно изгибалась, образуя подобие исполинской бухты. И под ногами – гладкая черная плита, чистая настолько, что нигде не было видно ни единой песчинки, словно бы ее протерли мокрой тряпкой, как протирают доску в классе. В черном небе по эту сторону стены горело не более десятка звезд, подобных меркнущим углям, и два небольших кольца мрачно-сиреневого цвета, с пугающей чернотой посередине. Неподалеку, непроглядной и безмолвной тенью неподвижно сидит она, ровно вытянув ноги вперед. Воздух – никакой, без вкуса, без запаха и без малейшего движения. Холодно, но как-то отдельно от меня, так, что я не мерзну. Метрах в двух от нее единственным диссонансом со всей здешней обстановкой торчат обрывки двух нетолстых цепей, непонятно как соединенных со здешней твердью, словно вырастающих из нее. Тут я, пожалуй впервые за все это время попробовал завести разговор:
– И как тебе здесь?
Она не ответила, продолжая сидеть неподвижно и безучастно, тогда, неожиданно для себя самого пожав плечами, я двинулся дальше, чувствуя незнакомое ожесточение, сродни всесокрушающему стремлению носорога.
Тьма. Ничего под ногами, но при этом – странная возможность идти в любую сторону и в любом направлении, если только можно говорить в этом месте с его считанными, жалкими квантами света – о направлении. Где-то, в такой дали, что уже не имеет смысла говорить о расстоянии, сгустками еще более непроглядной черноты угадывались неподвижные черные шары, дорога, по которой можно было бы идти миллиарды лет, Последний Предел, холодный уголь Творения, за которым не было бы места даже нам, воплощение отчаяния, куда более глубокого, чем любая смерть. Не знаю, сколько прошло бесконечных, неразличимых часов, дней и веков, потому что в этом месте само время было умирающим, уставшим нести перемены и охваченным предсмертной тоской, но потом возникло слабое движение и я услыхал безжизненный голос:
– Довольно. Все уже. Почти все. Только не нужно меня торопить.
Слабый, совершенно не мешающий, только чтобы почувствовать людское присутствие вокруг, гул приглушенных голосов, остекленная веранда, выдающаяся на вечернюю улицу, стекла завешены черными газовыми шторами, затканными серебряными цветами, и скатерть на столе – черная с серебром. Между домом и улицей – редкий ряд высоких деревьев, покрытых высокими, как будто бы светящимися в сумерках соцветиями, немного похожими на свечи каштанов, а под лиловым небом неторопливо прогуливаются нечастые пары. Тихо и тепло, похоже на позднюю весну, только не знаю – где, и это не столь уж важно, потому что это знает сидящая напротив меня. На столе горит, распространяя чуть заметный аромат тончайшего масла, маленькая лампа из полупрозрачного фарфора, расписанного райскими птицами, и своим мягким светом освещает ее. Черное платье с блестками, бросающими темно-лиловые блики, черные, как ночь, волосы распущены во все стороны, покрывая ее плащом, отливают синим отблеском вороненой стали, в волосах – когда-то, давным-давно, страшно даже подумать – когда, подаренная ей мною диадема из черных опалов. Глаза прикрыты и затенены, их не видно в густой тени, и она как будто боится поднять их на меня. Это она зря, потому что я не пугал ее, не сержусь, не знаю на что сердиться и не могу сердиться на нее. У нее замедленные, как будто бы через силу, движения, и сердце мое рвется на части, когда я вижу ее – такой. А ведь это не стыд и не раскаяние, потому что эти побуждения вовсе не присущи ей по самой ее природе, это нечто другое. Когда я читал мифы Древней Греции, частенько ловил себя на мысли, что не завидую их великолепным богам; всех хороших и вообще сколько-нибудь нормальных людей умиляют, радуют, забавляют детишки, вплоть до самых крохотных грудничков, но когда эти детские черты, продлеваясь дольше положенного срока, получают иное название, у тех же самых людей не остается никаких прежних чувств, кроме, в лучшем случае, жалости. Боги Эллады, не оставшись на уровне слабоумного детства, очень сильно напоминают вспыльчивых, жестоких, достаточно-легкомысленных и капризных подростков, не могущих и не желающих противостоять самым мимолетным своим желаниям, и положения тут не меняет ни могущество, ни огромные знания, ни опыт, потому что все это, вместе взятое, не делает их зрелыми. Они как будто замерли в своем развитии, и эти черты подростковости, отрочества у по-звериному красивых, бородатых, многоплодных, Семенем Обильных чудовищ вызывают нечто вроде легкой брезгливости, напоминающей отношение нормального человека к местному дурачку. Не вполне, согласен, но, однако же, есть что-то общее. Очевидно, даже и за Всеблагость нужно платить, только тут парадокс состоит в том, что платящий – не понимает этого. С нами этого не произошло, но тот, кто не оплачивает один счет, платит потом по другому. Оглядываясь назад, я не могу поверить, что с того дня, когда я начал писать дневник, прошло, если мерять днями нашей жизни, меньше ОДНОГО ГОДА!!! Я – осторожненько, с оглядочкой, не враз, а она – сразу и безоглядно, когда скрытые изменения накопились, переливаясь через Край, но мы оба стали взрослыми, и как бы не раньше времени, и на такой манер, о котором никто раньше и не слыхивал, если и было что-то, не оставившее о себе внятных свидетельств потомкам. Мы утратили легкомыслие (легко-мыслие, легкость мысли, легкость отношения и легкость ожиданий, утрата всего этого – серьезная утрата!), и никогда больше не сможем быть по-прежнему счастливыми. По-другому, – надеюсь, – будем, а вот по-прежнему – нет. У нас впереди – бесконечная жизнь, пусть бесконечность эта и другого сорта, нежели та, о которой тысячи лет мечтали наивные люди, даже не представлявшие, О ЧЕМ мечтают, и впереди, не сомневаюсь в этом, ждут нас другие кризисы, о которых мы сейчас не можем иметь представления, но первый нами достигнут. Я услыхал слабый звук, и, опомнившись от лихорадочных своих раздумий, поднял глаза на нее. У нее стучали зубы, ее буквально трясло в эти минуты, когда все уже, казалось, осталось далеко позади. Не глядя, я протянул руку, поднял тяжелый резной графин с Зеленым Огнем и выплеснул немалую его долю в два высоких бокала из хрусталя с радужными прожилками. Она выпила адское зелье и задохнулась, но снадобье все-таки помогло, потому что сумело выжать у нее слезы. Выплакавшись, она пригорюнилась, я почти никогда не видал ее такой, но это все-таки не было прежней, пугающей закостенелостью. Печаль пройдет, и все вернется на круги своя, пусть это будут и несколько другие круги. Я протянул ей руку и скоро почувствовал в своей руке ее чуть дрожащую ладонь.
Бесконечная жизнь потребует бесконечных деяний, идущих прямо от сердца и обладающих всей силой Непосредственной Страсти. Всего того, что так мало присуще мне, и составляет истинную ее сущность. Моя Темная Госпожа. Только недоумки и злобные фанатики, подобные тем, которые даже в христианстве нашли-таки место собственному изуверству, могли принять за зло твою беспощадность, которая столь же истинна в этом мире, как и твоя любовь. Моя Кали.
(Мы не знаем и, очевидно, никогда не узнаем, что произошло с автором "Дневника" после вышеописанных событий, хотя, безусловно, можем с известной долей вероятности предполагать это, но после вышеприведенных текстов характер записей претерпел кардинальные изменения: это всего около пятнадцати страниц все более отрывочных записей, все более насыщенных графилонами с чрезвычайно-высокой безусловностью. Среди них в том числе присутствуют образцы, модифицирующие реальность более элементарную, нежели человеческая психика, и таким образом уже не могущие считаться символами: такого рода сущности, будучи приведены, например, в специальных руководствах, даются исключительно в виде инструкций по воспроизведению, но ни в коем случае не в образцах. Без графилонов же эта часть документа, и без того малопонятная вне конкретного авторского опыта, должна считаться совершенно бессвязной, и по этой причине не приводится в данном издании. Следует отметить, что данный документ так или иначе приходится считать первым в длинной череде свидетельств, проливающих свет на истинные причины событий, послуживших причиной возникновения, в разных случаях, мифологических, религиозных, гностических и философских систем. Тут автор "Дневника" оказывается совершенно прав в своих предположениях, что впоследствии и было подтверждено в ходе специальных исследований, направленных на изучение роли "поперечных" взаимодействий в течении исторического процесса. Описание же известных событий, непосредственно связанных с так называемым "Исходом", не относятся к числу задач, которые ставила перед собой Редакция в ходе подготовки данной публикации).
Интерлюдия
– Спрашивай, я же вижу, из одних твоих слишком долгих поклонов вижу, что ты хочешь спросить что-то, но не осмеливаешься. Так дай себе волю, потому что неудовлетворенные желания ведут к болезням печени.
– Если бы я только мог осмелиться...
– Говори поскорее, потому что непонятное тебе очевидно будет непонятно другим.
– Зачем будущему повелителю нужно мастерство живописца?
– А вот это уж и впрямь не твоего ума дело... Нет-нет, это никакой не секрет, просто ты не сумеешь понять. Мудрость рождается не только из книг, но и от умения видеть. Художники из настоящих – умеют. И пусть не все видящие – мудры, но нет мудреца, который не умел бы видеть.
– Но все мы видим, господин мой!
– Я же говорил тебе, что ты не поймешь...
– Хорошо! Но тогда почему именно его, почему именно Безумного Художника? Почему не кого-нибудь из почтенных братьев, искусных в живописи?
– Потому что так будет лучше для нашего дела. Там, где ты видишь одно, он видит десять смыслов и восемь картин. Не только гору, но и духа горы, и характер этого духа. Безумный Художник знает канон, но без малейших сомнений оставляет его, если это хоть как-то мешает ему рисовать. Так что позови-ка его сюда...
Природа жестоко посмеялась над творцом прекрасного, наградив его этакой внешностью. Он был горбат, и оттого даже и на сидящего настоятеля смотрел несколько снизу. Лицо его, более узкое, чем у большинства местных уроженцев, было желтым и морщинистым, но при этом отчего-то было видно, что он совсем не стар, не более трех кругов лет. От согбенности тела его длинные руки с плоскими пальцами свободно доставали до земли.
– Знаешь ли ты, зачем тебя позвали сюда?
– Знаю, – ответил художник, нелепо боднув головой, что обозначало у него поклон, – и ничего не понял. Я никогда не учил малых детей и вовсе не хочу себе такого несчастья. Дело мое – видеть, и делать видимым для других.
Настоятель свел кустистые брови, чего местный люд в гневе обыкновенно не делал.
– Низко для тебя? Учить будущего Владыку – низко? Знай же, что мы все почитаем за честь сделать для него хоть что-нибудь.
– Вот я и не достоин такой чести.
– Хорошо же! Так не будет тебе места ни в округе обители Баданг, ни в округе других обителей.
– Ты грозишь мне, калеке? Так я не боюсь. Вольно мне уйти туда, куда не дотянется рука ваших обителей. Я бываю сыт немногим, и единственное, что мне нужно в жизни, – это работа, во время которой я могу забыть все остальное. Это я найду где угодно и как угодно далеко.
Пока он говорил это, Одонг со свойственной всем незаурядным людям гибкостью решил сменить ход разговора, и не настаивать, если уж нужный человек так неразумно заупрямился.
– Ты дерзок, – проговорил он как бы в раздумии, – и, что бы ты там не воображал себе, я мог бы крепко наказать тебя... Но я сам виноват, я сам согрешил недомыслием, начав угрожать, потому что наше делание требует только доброй воли. И понимания, насколько оно важно. А потому бессмысленно угрожать, заставлять и вынуждать. Иди и не жди беды или каких-нибудь притеснений. Просто я ошибся, обратившись к тебе.
Художник снова поклонился на свой нелепый манер, и молча вышел, – весь переломанный, искривленный, похожий на поломанное ветром, но все-таки выжившее дерево с непомерно-длинными кривыми сучьями. Одонг проводил его мимолетным взглядом своих прозрачных, ничего не выражающих глаз. Он отменно умел отступать: в его исполнении этот маневр никогда не был бегством, а всегда – только лишь маневром, предпринятым с целью быстрейшей победы. Он знал эту братию, и присущее ей детское упрямство. Все, что здесь требовалось, – это представить дело таким образом, чтобы художник воображал, будто сам хочет того, что нужно для дела. О чем говорил настоятель со стариком, бывшим его доверенным лицом, мы не знаем. Известно только, что на следующее утро, лишь только рассвело, в условленное место, куда специально прибыл настоятель, привели человека, с головы до ног закутанного в темную ткань одежд.
– Сбрось покрывало!
Несколько минут после этого он, ни слова не обронив, внимательно вглядывался в стоявшую перед ним женщину. Она тоже не была местной уроженкой, эта бездетная вдова, занесенная в здешние места кармой, истинным Ветром Невероятного. Приятное, спокойное, немного грустное лицо. Чуть раскосые, крупные глаза, совсем черные и с каким-то усталым блеском. Яркие обветренные губы. За складками широкой одежды легко угадывалось гибкое, крепкое тело. Напоследок скользнув взглядом по ее жестким, красным от нелегкой работы рукам, Одонг вздохнул, нахмурил брови и начал тоном торжественным и, самую малость, строгим:
– Женщина...
Дальнейшим своим разговором он остался полностью доволен. Разумный человек, и вообще то, что нужно. А что не молоденькая, около двух с половиной кругов, так оно и к лучшему: порода крепкая, выглядит она чуть ли ни вдвое моложе своих сверстниц из числа местных уроженок, а дури – заметно поменьше, чем у молодых. Единственное, что заботило его теперь, так это то, чтобы калека не убрел куда-нибудь после их вчерашнего разговора. Но обошлось, и через пару недель Безумный Художник оказался надежно привязанным к этим местам, а спустя еще короткое время легко согласился на вежливые уговоры доверенного лица Одонга. Зато теперь, взявшись за дело, он отнесся к нему с обыкновенной своей истовостью и полным старанием. И весьма необычными бывали порой эти уроки. В полной еще темноте художник прокрался в комнату, где на тонкой подстилке, брошенной прямо на глиняный пол, спал будущий Владыка.
– Эй!
Мальчишка, предупрежденный с вечера, поднялся тут же, будто бы и не спал еще мгновение тому назад.
– Пошли со мной...
Художник знал дорогу, а, кроме того, дополнительной парой глаз во тьме безлунной ночи ему служил посох, на который он при ходьбе опирал свое искривленное тело. В небе над головой алмазной россыпью сверкали холодные, яркие, крупные звезды высокогорья, вовсе незнакомые с трепетом долин, но и они почти совсем не рассеивали темноты. Такой вот ночи, – безлунной и ясной, – он дожидался давно. В полном молчании и не зажигая факелов они прошагали немало, пока, наконец, художник не приказал остановиться. Мальчик почувствовал прямо перед собой и под ногами, в нескольких шагах от себя безмерное пространство, залитую прозрачной тьмой пустоту.
– Смотри прямо перед собой, – сказал художник, – и можешь сесть.
Мальчик привычно опустился на собственные пятки. Впереди не было бы видно вообще ничего, не будь в открывшемся там многозвездьи вырезан угрюмый, черный треугольник.
– Сперва заметь себе, сколь таинственны свойства тьмы, странным, изменившимся голосом проговорил его провожатый, – не будь у нас над головой этих огоньков, мы были бы сейчас подобны слепым, а именно способность видеть делает нас поистине живыми, без нее мир есть, но его как бы и нету... Смотри! Нет его и сейчас, хотя никто не выкалывал нам глаз. Он замолчал снова, и теперь молчал довольно долго, до тех пор, пока, осветив гигантскую гору далеко впереди, не зажег на ее вершине ярко-алого пламени первый в этот день солнечный луч, и скоро вершина эта пылала, словно факел, водруженный в море мрака, затопившего дольний мир. Этот огонь, все более пламенеющий в страшной высоте, странным образом пока еще не разгонял окружающую тьму, и пик пылал огненной пирамидой и казался подвешенным в небе. Только потом начали, одна за другой, вспыхивать вершины пониже, а оттого мир нарождающийся был миром алых, розовых, оранжевых и огненно-золотистых оттенков бесшумного огня.
– Смотри и помни, навеки запоминай, маленький человек: так с каждым новым днем, с каждым новым восходом солнца мир рождается заново. А поэтому – разве мы рисуем? Разве рисую я? Рисует восход, рисует весь день до самого заката, но не мы. Посмотри, как солнце рождает их тьмы первый тон, простой, чистый, и яркий, без всяких оттенков, и только потом из него каждодневным чудом возникают, разделяясь, новые цвета... Разве же можно поверить поначалу, что из этого пламени, плоть от плоти его, родится цвет синий или же зеленый? Невозможно, – сказал бы любой непредубежденный, но ты еще увидишь, как благородно-просто утро решает и эту немыслимую задачу, и через миг, поняв это, воскликнешь: иначе и быть не могло! И будешь прав. Я знаю, слышал, что меня называли безумцем, а я – просто учился у восхода и раннего утра, которые каждый раз рождают из ничего весь этот мир.
Как он и обещал, ученик его успел заметить, как из недавних непроглядных теней рождалось лиловое и голубое. И нескоро еще они выбрались домой, где мальчик, не спавший большую часть этой ночи, все-таки не сразу сумел заснуть. Равнодушный, как будто бы ничего вокруг себя не видящий Одноглазый, – знал, что в сумраке лишенной окон комнаты ребенок еще долго шевелил губами, беззвучно шепча что-то, и странно водил в воздухе пальцами перед бессонными глазами. Поэтому, при следующей своей встрече с Безумным Художником он сразу же, едва успев поздороваться, спросил:
– Учитель, ты говорил мне, что солнце, утро, и весь день целиком рисуют... Но скажи еще, можно ли сказать так, что рисует также и тень? Тьма?
Услыхав такие речи от маленького своего ученика, горбатый художник вдруг застыл, пристально вглядываясь в его лицо:
– Наплывающая Тьма, хотел сказать ты? Это – истина. Кто поведал тебе ее?
– Никто.
– Хорошо.
В этот день он не стал вести никакого урока, и, как-то странно махнув рукой, ушел, и прошло несколько дней, прежде чем, собравшись около полудня, они отправились вместе с учеником к месту своего нового урока.
Маленькие, крепкие лошадки, родившиеся в этих горах, ступали среди камней и выбоин мерно и уверенно. Путники почти не разговаривали между со бой и поспели к месту назначения вовремя, когда свет дня едва заметно ослабел и начал обретать рыжеватые тона. Это место, – группа изъеденных, ветхих скал могла считаться редкостью в здешних горах с их победительной остротой и могучей выразительностью линий.
– Услыхав твои слова, я тут же вспомнил это место. Конечно, я его видел. Конечно, обращал на него внимание. Но почему не выразил в слове, и почему не передал никому? Смотри!
И то, что было ветхим, неровным камнем, начало МЕНЯТЬСЯ по мере того, как тени от неровностей заливали впадины и оттеняли горящие тревожным рыжим огнем выступы. Скала вдруг превратилась в подобие головы, защищенной шлемом, строго посмотрела на него, потом суровое лицо, изборожденное морщинами и шрамами исподволь обрело обиженное выражение, исказилось гримасой злобного безумия, а потом ученик как-то разом перестал понимать: а где вообще он видел тут голову и лицо? Ведь ничего похожего на плоскогорье не было, зато темнел тяжелой грудой чудовищный одногорбый верблюд, прилегший отдохнуть под темнеющим небом. Те же волшебные изменения захватывали и другие скалы, из которых особенно запомнилась мальчику та, что походила на головы двух гигантских змей сцепившихся челюстями.
– Да, рисует, рисует и тень, рисует Наплывающая Тьма. Наверное, я не случайно забыл про это, а по той причине, что старею, потому что боюсь смерти и потому что уж очень не люблю темноту. А так, конечно же, рисует наступающая ночь и подступающая осень. Рисую и я.
Поначалу, обучая мальчика держать в руках кисть, мелок или уголь, он был безмерно снисходителен, но потом, в какой-то день и час смутно заподозрив, с ЧЕМ ИМЕННО столкнулся, после чего стал весьма требовательным. Ему была виновата любая вина, а вполне угодить было делом почти невозможным:
– Ты следуешь своим выдумкам, а между тем – небрежен. Небрежность же хуже неспособности, хуже всего, потому что ввергает человека в порок и ничтожество. Что это за линии?
А в другой раз, вздохнув с необыкновенным терпением:
– То, что ты делаешь сейчас, быстрее и лучше сделает любая лужица. Даже самая мутная...
Порой Безумный Художник заставлял ученика выполнять весьма странные задания:
– Нарисуй божество-покровителя какого-нибудь места.
– Какое божество?
– То, которому пристало жить именно в этом месте.
Мальчик хотел пояснений, но его наставник жестом дал понять, что все разговоры закончены. Так родился "Дух Закатной Стены", но и тут учитель, цепким взором ощупав буйное многоцветие красок этой превосходной картины, которую и до сих пор могут видеть гости обители Баданг, не выразил одобрения:
– Самый простой путь. Когда желаешь изобразить сильную страсть, нет ничего легче, чем изобразить на белом лицо, искаженное гримасой. Даже и при надлежащем равновесии спонтанности и тщательности ты ищешь легких путей. Не все духи имеют лик.
Однажды он приказал нарисовать Одонга на тридцать лет моложе и Одноглазого так, чтобы он смотрел с картины двумя глазами. А однажды художник предложил мальчику нарисовать душу решившегося на самоубийство, и вернулся к нему спустя заметное время. Мальчик закончил работу, и теперь увлеченно прыгал по плитам двора, стараясь двумя ногами угодить на камешки, избираемые по какой-то непостижимой системе. Никакой особенной глубины, чистые, наивные детские глаза, какими им надлежит быть в семь лет, художник хотел выговорить ему, но сперва бросил беглый взгляд на доску. Непостижимым образом оттененный, выделенный блик, льдисто-голубой, холодный, как ветер в ноябре на промозглых перевалах, он сам собой, почти помимо воли художника через зрение его проник в его душу, вонзился, как клинок, оставляя за собой безнадежную пустоту и нестерпимое смятение. У Художника едва хватило сил прикрыть руками свои застывшие глаза. И руки его неудержимо дрожали, пока он собирался с силами, чтобы преодолеть осознание нестерпимой для человека истины. Он хотел, как лучше, но погоня за совершенством н опасное дело. Опаснейшее, потому что невозможно знать заранее, что именно ты рискуешь однажды догнать.
Апрель 1998 г.