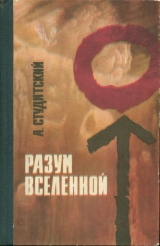
Текст книги "Разум Вселенной"
Автор книги: Александр Студитский
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Глава восьмая
«Будем работать вместе»
Юрий даже не пытался попасть на заседание комиссии по космическому снаряду. Он не смог забежать в больницу к Андрею и Зое ни в день защиты, ни днем раньше – часы приема совпадали с занятым временем. А на другой день после защиты приемные часы в больнице пришлись на вечернее время, когда в Доме ученых должно было состояться это заседание.
С Андреем, по-видимому, было что-то неладно – повысилась температура.
– Возможно, у него грипп, – сказала сестра. – Время весеннее – посетители заносят инфекцию.
Словом, в палату к Андрею Юрия не пустили. Зоя встретила Юрия не в палате, а в большом холле больницы, где родных и знакомых принимали выздоравливающие больные.
Уходящий июньский день лил желтовато-красные солнечные лучи сквозь раскрытые окна. Зоя шла навстречу Юрию, мягко ступая по нагретому солнцем паркету. Юрий, смущаясь, неловко подал ей купленную дорогой ветку темно-лиловой махровой сирени.
– Спасибо, – Зоя подняла ветку к лицу. Розовый отблеск упал на ее бледные щеки. – Я тебя ждала, – продолжала Зоя. – Тебя уже два дня не было. Как прошла защита? Сядем.
Она увлекла Юрия в дальний конец холла, где перед низким круглым столиком стояли два мягких кресла в светло-голубых чехлах.
– Ну, рассказывай, – Зоя положила сирень на полированную поверхность стола, села в кресло и взяла руку Юрия. Ее глаза, казавшиеся огромными от теней под ними, сияли нескрываемой радостью. Ветром колыхнуло открытое окно, и солнечный зайчик, отброшенный стеклом, упал на ее колени.
– Как хорошо, что ты пришел, – сказала она. – У меня сегодня такое хорошее настроение. Я проснулась и почувствовала, что я совсем – понимаешь? – совсем-совсем здорова. И передо мной длинная-длинная жизнь. И вот я стала думать, что я сделаю в своей жизни... Ты только не смейся...
Она не отпускала его руки. Юрий молча смотрел на нее и слушал, не отводя глаз от ее лица. Пальцы Зои потеплели, словно согреваемые идущим от них из ладони Юрия неведомым током.
– Не смейся. Я думала, что, может быть, испытания, которые перенесла, не зря выпали мне на долю... Может быть, то, что я сама знаю об этом, будет меня всю жизнь побуждать работать над лучевой проблемой. Я видела сама, что такое лучевое бедствие... Это было, может быть, не так чудовищно страшно, как в Хиросиме, но все-таки непереносимо страшно...
Ее пальцы вздрогнули и крепко сжали руку Юрия.
– Я пишу сейчас об этом, – сказала она. – Меня попросили... Маленький очерк для «Комсомольской правды». Я все восстанавливаю в памяти. Нужно, чтобы все знали, что такое лучевая стихия. И как еще много нужно работать, чтобы ее укротить...
Она улыбнулась.
– Укрощение лучевой стихии, – мечтательно-восторженно произнесла она. – Правда, этому стоит посвятить жизнь?
– Конечно, – сказал Юрий.
– И может быть, мы будем работать вместе, правда? – спросила она. – Как Ирен и Фредерик Жолио-Кюри, – добавила она, бросив на Юрия смеющийся взгляд.
– А почему бы и нет? – отозвался он без улыбки.
– А почему бы и нет? – повторила она, как эхо. Она ласково потрепала его волосы. Сердце Юрия замерло. Но Зоя отняла руку, откинулась на спинку кресла, и волшебство кончилось.
– Укрощение лучевой стихии, – сказала она с восторженно-мечтательной интонацией. – Знаешь, кто это сказал?
Юрий пожал плечами.
– Это слова Германа Романовича, – Зоя улыбнулась, сохраняя мечтательное выражение лица.
Очарование исчезло. Юрий вдруг остро почувствовал, что Зоя красивая, очень красивая, удивительно красивая взрослая женщина. А на нем простая спортивная рубашка, выбивающаяся из брюк. И брюки по-мальчишески помятые, с пузырями на коленях. И на ногах – простые, темные, не, по сезону, ботинки, – Юрию как-то совсем не приходило в голову заниматься своей одеждой. Он с поразительной ясностью представил себе сидящего на его месте Штейна в элегантном летнем костюме. И отчетливо услышал слова, произносимые его звучным баритоном:
– Укрощение лучевой стихии...
– Он был у тебя? – спросил Юрий, не глядя на Зою и все равно видя ее загадочно улыбающееся лицо.
– Да, был, – протянула она, и улыбка опять прозвучала в ее голосе. – Позавчера. Он мне рассказывал о плане Всеволода Александровича. Как это интересно!
– Что интересно?
– То, что он собирается делать. Это замечательный план. И я верю, что ему и его сотрудникам действительно удастся укротить лучевую стихию.
– С помощью ДНК?
– Да, Всеволод Александрович считает, что ДНК – это ключ к управлению живой материей...
– Хорош ключ, который сам не поддается управлению, – угрюмо сказал Юрий. Улыбка сбежала с лица Зои.
– Не понимаю, о чем ты.
– О том, о чем ты говоришь, – сказал Юрий, – о всемогуществе ДНК. Я не могу понять, о каком укрощении лучевой стихии можно говорить, не обманывая себя, если считать, как считают Брандт и Штейн, что лучевая стихия безнадежно разрушает это всемогущее вещество в живых клетках.
– Но план Всеволода Александровича в том и состоит, чтобы научиться заменять в живых клетках разрушенные молекулы ДНК целыми. Так мне объяснил Герман Романович. Разве это сейчас не делают на множестве организмов, в сотнях лабораторий? Правда, пока эти эксперименты ведутся на низших организмах – фагах и бактериях. Но разве ость сомнения в том, что в конце концов с более сложной методикой удастся прорваться и в клетки высших организмов? Герман Романович мне рассказывал, какие замечательные работы сделаны на кафедре Брандта по действию хромосом на синтез белка в облученных клетках...
– Да, да, я был на его докладе, – сказал скороговоркой Юрий.
– И да тебя не убедил?
– Возможна и другая трактовка этих опытов, – упрямо сказал Юрий.
Зоя с огорчением покачала головой. Ветер шевельнул рамой окна, солнечный зайчик скользнул по ее коленям и умчался в глубь холла.
– Как прошла твоя защита? – спросила она.
– На четверку, – отрывисто ответил Юрий.
– Не может быть, – огорчилась Зоя. – Герман Романович так хвалил тебя и твою работу.
– Он даже не удосужился ее как следует прочитать, – мрачно сказал Юрий. – И не заметил, что ее выводы никак не соответствуют их плану укрощения лучевой стихии.
– У тебя ничего не вышло?
– Так, по-видимому, думают Всеволод Александрович и Герман Романович, – ответил Юрий с усмешкой.
– И ты не согласен с ними?
– Да, не согласен, – сказал Юрий, чувствуя, каким нелепым мальчишкой выглядит он сейчас, на том самом месте, где два дня назад Герман Романович Штейн рисовал Зое величественную картину покорения лучевой стихии. И еще сильнее он это ощутил, когда Зоя в самом деле сказала не то с упреком, не то с огорчением:
– Какой ты еще... мальчик, Юра.
Он просидел у Зои еще с полчаса. Прощаясь, она опять задержала его руку в своей.
– Не понимаю, чего ты хочешь, – сказала она, смотря ему в глаза. Он вынес этот взгляд спокойно, хотя внутри у него все дрожало от обиды и злости на себя, на Штейна, на Зою.
– Ну, иди, – сказала, наконец, Зоя.
И вдруг быстрым и решительным движением она притянула его к себе и поцеловала в губы. Он застыл на месте, пораженный. Зоя остановилась в дверях холла, махнула ему рукой и исчезла...
Долгий-долгий июньский вечер на улицах Москвы. Юрий шел по Садовому кольцу, восстанавливая в памяти и переживая еще раз каждое мгновение, отсчитанное ему счастливой судьбой в этот вечер. Она сказала: «Как хорошо, что ты пришел!» А разве он мог не прийти? Она сказала: «Передо мной – длинная-длинная жизнь. – И добавила: – И может быть, мы будем работать вместе. Как Ирен и Фредерик Жолио-Кюри». – «А почему бы и нет?» – ответил ей Юрий. «А почему бы и нет?» – отозвался ее голос, как эхо.
– А почему бы и нет? – произнес Юрий вслух. Идущая навстречу девушка посмотрела на него смеющимися глазами. Юрий подходил к Крымской площади. Вечернее июньское небо светилось над рекой.
«Может быть, мы будем работать вместе», – сказала она. «Укрощать лучевую стихию», – сказал ей Штейн. Впрочем, не надо о Штейне. Она еще увидит, кто прав – Штейн или Юрий. «Ну, иди», – сказала Зоя. И поцеловала его.
Он остановился на мосту. Да, Юрий еще покажет, на что он способен. Они будут работать вместе, как Ирен и Фредерик Жолио-Кюри.
...Ярослав ворвался в комнату, как метеор.
– Не спишь, старик? – он в волнении буквально упал к Юрию на кровать. – А ты знаешь, что творится на этой планете?
Юрий приподнялся на локте.
– Который час?
– Первый, только не в этом дело. Знаешь ли ты, что я был очевидцем и участником исторического заседания?
– Так уж и участником! А в чем же выразилось твое участие?
– Я аплодировал. С сотнями других участников – гениальности Павла Александровича Панфилова.
– Постой, – остановил его Юрий и поднялся на кровати. – Расскажи обо всем по порядку.
– Милый мой! – сказал Ярослав, в волнении вскакивая и снова усаживаясь – теперь уж на свою койку. – Это была самая настоящая сенсация. Сундуки с сокровищами из космоса. Прежде всего, как я пробирался на заседание, ты себе не можешь представить! Я пришел в Дом ученых за три часа до начала. Час просидел в столовой. Потом в библиотеке. Потом в парикмахерской. Чувствуешь? – все ближе и ближе к заветным дверям. И упросил кинотехников, чтобы они разрешили мне помочь им нести их причиндалы в кинобудку, где я и пробыл до того, как стали пускать в зал. Было настоящее столпотворение – столько набилось народу. Докладывал Владимир Николаевич Тенишев. Все готово для вскрытия центральной камеры. Выстроен огромный павильон – Тенишев показывал фотографии. Центральный зал, куда помещен снаряд, – сорок метров в диаметре, тридцать метров в высоту. Все приспособлено к вскрытию. Внешняя капсула уже снята – Владимир Николаевич показал кинокадры, на которых было видно, как она отделяется от внутренней капсулы. Потом показал цветную пленку – вскрытие внутренней капсулы. Понимаешь, в ней расшатывают какие-то молекулярные связи в швах, которыми спаяны отдельные фрагменты ее стенки. Они отваливаются, как скорлупки с ореха. Для расшатывания этих молекулярных связей были применены чудовищной силы ультразвуковые колебания.
– Ну, хорошо, хорошо, молекулярные связи, – нетерпеливо перебил Юрий. – А что оказалось внутри?
Ярослав вскочил и забегал по комнате.
– Все было показано в цветном кинофильме. Оболочка рассыпается на фрагменты. Падает последний фрагмент. И вот открывается дно камеры в свете юпитеров, при которых ведется съемка. Ослепительное, феерическое зрелище! Представь себе – как бы широкая чаша из сверкающего, точно расплавленное серебро, металла. Это дно внутренней камеры. И на нем такие же сверкающие металлом сооружения, вроде гигантских шкафов. Шесть стоят вертикально, по кругу. И седьмой – горизонтально, в центре, похожий на огромный саркофаг. Владимир Николаевич называет их «контейнеры». Все они уже, конечно, детальнейшим образом обследованы – размеры, приблизительный вес, и с помощью рентгеновских установок выяснено, что в них может содержаться.
– И что же в них оказалось?
– Ишь какой скорый! – воскликнул Ярослав. – Этот вопрос и был предметом дискуссии. И какой дискуссии!
– Что же все-таки выяснилось?
– Вот тут-то и начинается схватка мудрецов. Большинство членов комиссии пришло к заключению, что в контейнерах должна заключаться информация с планеты, откуда прислан снаряд, и приборы для ее расшифровки. Оболочки контейнеров оказались почти непроницаемыми для рентгеновых лучей. Они сделаны из какого-то очень сложного сплава редких металлов. В полостях контейнеров смутно просвечивают какие-то правильно расположенные предметы. На фотографиях похоже на пчелиные соты. Отсюда и догадка о том, что это хранилища информации, а не какие-нибудь бытовые предметы или произведения искусства. Один из контейнеров решили прозондировать раньше, чем раскрывать. В нем обнаружился жидкий гелий – значит, содержимое содержится при температуре, близкой к абсолютному нулю. Это значит, что можно надеяться на хорошую сохранность содержимого контейнеров, так как при такой температуре внутреннее молекулярное движение практически отсутствует, и любое тело и любое устройство может храниться без изменений хоть миллион лет. Насчет шести малых контейнеров почти все члены комиссии сошлись на том, чтобы в ближайшее время их вскрывать – тем же способом, что и капсулу внутренней камеры. Но центральный контейнер у некоторых членов комиссии вызывает предположение, что он содержит что-то отличное от содержимого малых контейнеров. Он совсем другой.
– Как он выглядит?
– Ну, представь себе гигантский саркофаг. Метра четыре в длину и метра три в высоту. Все углы сглажены, закруглены, поверхность абсолютно гладкая, сверкающая, как серебро, даже, пожалуй, не серебро, а хром или никель, так что глазам больно смотреть. При просвечивании рентгеном чуть видны какие-то пятна, некоторым кажется даже, что это машины для расшифровки информации. В общем большинство членов комиссии склоняются к тому, чтобы именно этот контейнер вскрывать в первую очередь, потому что в нем, может быть, заключены инструкции или аппаратура для обращения с содержимым остальных контейнеров. Другие считают, что в большом контейнере что-то другое, так как остатки какой-то аппаратуры в совершенно искаженном, расплавленном виде нашли под камерой, с нижней ее стороны, где находилась нижняя камера, полностью разрушенная взрывом при посадке. Один из членов комиссии полагает, что в большом контейнере содержатся не хранилища информации, а предметы материальной и духовной культуры. И наконец, говорит Владимир Николаевич, нельзя исключить и того, что в большом контейнере находятся в витрифицированном состоянии тела живых существ, образцы флоры и фауны неизвестной нам обитаемой планеты. В зале – гул голосов! Общее волнение. Владимир Николаевич объясняет, что имеет в виду и тот опыт сохранения организмов в витрифицированном состоянии, который накоплен нашими учеными. И тут Брандт с места: «Но это показано только для низших организмов». Тенишев ему: «Во-первых, нам известны опыты оживления витрифицированных позвоночных, осуществленные нашим уважаемым Павлом Александровичем Панфиловым».
Всеволод Александрович опять: «Низших позвоночных». Тенишев разъясняет, что ящерицы и крокодилы, которые после витрификации оживлялись в лаборатории профессора Панфилова, не самые низшие, но довольно высокоорганизованные позвоночные, близкие нашим предкам – пресмыкающимся... Тут смех, аплодисменты. Вот почему насчет вскрытия большого контейнера комиссия еще не достигла единогласия в своих выводах. Ты представляешь себе накал страстей. Поднимается один, другой, третий, спрашивают, каковы перспективы решения этого вопроса. Владимир Николаевич отвечает, что в случае, если в большом контейнере действительно хранятся витрифицированные тела живых организмов, то, очевидно, необходимо подготовить технику для их девитрификации. И попытаться произвести оживление, во всяком случае, если это холоднокровные организмы. Тогда из последнего ряда поднимается Павел Александрович...
Ярослав встал, слегка сутулясь и положив руки на спинку кресла.
– «А если в контейнере теплокровные организмы?» – произнес он, копируя глуховатый, запинающийся голос Панфилова. Владимир Николаевич ему: «Что ж делать, если у нас с вами не разработана техника девитрификации теплокровных животных. Очевидно, мы должны удовлетвориться оживлением растений и низших животных, а теплокровных, если они окажутся в контейнере, изучим в мертвом состоянии... Холоднокровные, теплокровные, все-таки это животные, а не люди. Нельзя же допустить, что в контейнере законсервированы мыслящие существа, подобные нам с вами». Тогда Павел Александрович опять поднимается и говорит (в зале мертвая тишина): «А я вполне допускаю такую возможность!» Понимаешь? Ну, разумеется, гром аплодисментов. Вот это, милый мой, фантазия! Это озарение! Нет, я думаю, что он гений!
Ярослав не мог успокоиться часов до трех ночи. Он без конца вспоминал подробность за подробностью прошедшей дискуссии, изображая академика Ершова, Брандта, Тенишева, опять начинал восторгаться Панфиловым. И вдруг, перебив себя на полуслове, он неожиданно сказал:
– А с Андреем что-то неладно. Я звонил в больницу прямо из кинобудки.
По сердцу Юрия пробежал холодок.
– Да, сегодня меня к нему не пустили, – сказал он. – Его дела пока неважные.
Ярослав стоя помолчал минуту. Потом стал раздеваться и потушил свет.
– Эх! – услышал Юрий его горестный вздох.
Глава девятая
Опять тревога...
В состоянии Андрея действительно наступило резкое ухудшение.
Сначала оно выразилось в небольшом повышении температуры. Врач сердился, должно быть, занесли грипп. Были приняты все меры, чтобы ликвидировать случайную досадную инфекцию. Но температура у Андрея не спадала, и он чувствовал себя все хуже. Через неделю обнаружилось, что у него что-то неладно с кровью. Кривая лейкоцитов прыгала день за днем то вверх, то вниз. Андрей потерял аппетит, очень похудел и ослаб. Наконец стало ясно, что привитая кровь взбунтовалась против своего нового хозяина. Началось постепенное отравление тканей антителами, которые стала интенсивно вырабатывать прижившаяся кроветворная ткань в кроветворных органах Андрея. Вот почему и Зоя, которая продолжала себя чувствовать совершенно здоровой, все еще оставалась в больнице.
Юрий приходил к Андрею каждый раз, когда разрешали посещение. Первая встреча надолго осталась в памяти Юрия тяжелым, давящим воспоминанием. Андрей был истощен, бледен, предельно слаб, при виде Юрия его худое темное лицо чуть-чуть осветилось улыбкой. Но жизни в этой улыбке не было.
Когда Юрий сказал, что кровь Ярослава быстро поставит его на ноги, он равнодушно согласился – видно было, что ему просто не хочется возражать.
– Да, да, Славкина кровь не подведет.
И опять замолчал, глядя перед собой в пространство. Казалось, он думает о чем-то настолько серьезном и важном, что всякое отвлечение от этих мыслей ему неприятно и больно.
Это впечатление возникало у Юрия не раз и в дальнейшем, когда Андрей стал поправляться. Уже вернулись к нему обычная дружелюбно насмешливая манера обращения, его привычка острить по любому поводу, комически-самоуверенный тон его реплик, но временами он замолкал или отвечал невпопад.
Юрий понимал, что впечатление пережитой в Калифорнии страшной катастрофы не могло не отразиться на психике Андрея. Но Зоя, пережившая ту же катастрофу, возвращалась к жизни, а Андрею что-то мешало освободиться от угнетающих его воспоминаний.
Его мучили, по-видимому, не столько сами воспоминания о страшных днях катастрофы, сколько тяжелые раздумья, вызываемые этими воспоминаниями. Чаще всего Юрий заставал его лежащим на спине, с закинутыми за голову руками. На груди его лежала книга, раскрытая на первых страницах. Очевидно, любая случайная, даже вскользь брошенная, мысль, прочитанная Андреем, цеплялась за какое-то звено его мыслей и начинала разматывать бесконечно длинную цепь размышлений.
– Как дела? – спрашивал Юрий.
– Мудрец сказал: болеть лучше, чем умереть, но постигается это только после смерти, – отвечал обычно Андрей. – Вот я лежу и думаю, как бы исхитриться и постигнуть это раньше смерти. Впрочем, кажется, дела идут на поправку. Славкина кровь обслуживает меня отлично.
Еще несколько веселых реплик, и опять тягостное молчанье. Изредка оно прерывалось короткими фразами.
– Жить стоит, только когда все продумаешь до конца, – сказал однажды Андрей, точно разговаривая сам с собой.
– Цель – вот главное, – произнес он в другой раз. Юрий посмотрел на него в недоумении, но не стал расспрашивать, чтобы случайно не вызвать разговора на неприятную для Андрея тему.
Потом ему стало лучше. Наступил март, лучи весеннего солнца били в окна палаты, где лежал Андрей. В открытую форточку вливался влажный, пахнущий мокрым снегом и оттаивающими тополевыми почками весенний воздух. Лицо Андрея посветлело. Светлые, поредевшие после болезни волосы отросли и даже чуть-чуть завились.
И вот новая вспышка болезни.
– Дело плохо, – сказала сестра. – Собственно, вас не следовало бы пускать, да уж очень он скучает.
Сердце Юрия сжало тяжелое предчувствие. Он понимал – началась вторичная лучевая болезнь. Андрея убивали силы жизни, бьющие из кроветворной ткани Ярослава, которым организм Андрея, лишенный собственных защитных сил, не смог противостоять. Силы жизни одного организма несли смерть другому. И если в ближайшее время не произойдет чуда – возрождения собственной кроветворной ткани Андрея, он погибнет.
Андрей полулежал на кровати, откинувшись на высоко поднятую подушку и приподняв худыми коленями одеяло. Изможденное лицо с налипшими на влажный лоб волосами потемнело от жара. На одеяле лежала раскрытая книга. Он увидел входящего друга и так радостно улыбнулся, что грудь Юрия стеснила острая жалость.
– Как дела? – спросил Юрий, осторожно пожимая худые влажные пальцы Андрея.
– Какие же могут быть мои дела? – усмехнулся Андрей. – Мы с тобой биологи и специалисты в космической биологии. Со мной, брат, кончено. Попал под колесо, как говорил Базаров. У меня уж и Одинцова была – только что на этом стуле Зоя сидела. И, прощаясь, как Одинцова Базарова, поцеловала меня в лоб. Что ж делать. Она ведь это без умысла. Наверное, и сцену-то эту не помнит. А я вот лежу и думаю, и ловлю себя на том, что думаю как Базаров: мечтал, что еще успею, обломаю дел много, не умру, нет, задача есть, ведь я гигант. А теперь у гиганта одна задача – как бы умереть прилично...
Он говорил, чуть задыхаясь, но спокойно. Только глаза его лихорадочно, сухим блеском, светились из глубоких глазниц.
– Понимаешь, я уверен, что остался бы жить, если бы только понял, зачем мне жить, – продолжал он, всматриваясь в лицо Юрия, чтобы видеть, как тот воспринимает его слова. – Нет, нет, ты не возражай мне, я же понимаю, что со мной делается. Не хватило сил в организме, чтобы возродиться. Вот во мне Славкина кровь и разгулялась. Я сам чувствую, что не могу ей сопротивляться. Славка, брат, знает, зачем живет. Он хозяин своей жизни. А я вот никак не могу догадаться. Помнишь тот вечер в сентябре, перед началом занятий, на Ленинских горах?
Юнландия! Край утесов и струй!..
Где ввоз – пессимизм, чернила, бутсы,
А вывоз – любовь и революция.
Андрей произнес эти строки медленно, словно вдумываясь в значение каждого слова.
– Да, да, и вывоз – любовь и революция, – повторил он. – Ведь пессимизм – это прежде всего неудовлетворенность, страшная, до конца идущая неудовлетворенность, это незнание цели, это непонимание смысла. И мне все казалось, что рано или поздно я догадаюсь, я пойму, в чем цель, в чем смысл. И это будет моей революцией, переворотом, скачком в будущее. И ничего не вышло!
Он смотрел в лицо Юрия, но говорил, словно сам с собой, заглядывая в свои беспокойно мечущиеся мысли.
– Я поэтому и в Америку поехал, чтобы понять. Сопоставить, сравнить и понять. И уже через две недели понял, что напрасно ездил. Мне казалось, что понимание придет от отрицания. Отрицания жизни, которой нельзя жить. И понял, что не сумею. Кругом нас были американские студенты. В общем хорошие, доброжелательные, веселые парни. Вся их жизнь протекала перед нами. Хорошая, удобная комната. Душ. Телефон. Телевизор. Утром лекции. Потом лаборатория. Потом баскетбол, легкая атлетика, регби, они либо сами на поле, либо на трибунах. Вечером – флирт, танцы. Или телевизор. Вот так и живут. А мечта – хорошая, материально обеспечивающая, интересная служба, почет, собственный домик, автомобиль, семья, летом – путешествие с женой и детьми, либо снова спорт, флирт, вечером телевизор. Словом, это и есть какой-то уровень, нет, нет, не образ, а уровень материальной и культурной обеспеченности, ниже которого идут уже прихоти и извращения. Собственно, тот уровень, против которого нечего возразить. Но ведь этот уровень сам по себе не цель. Этот уровень – средство, чтобы двигаться к какой-то цели. А к какой?
Андрей теперь уже смотрел прямо в глаза Юрию пронизывающим взглядом своих сухо блестящих глаз.
– У некоторых из них, естественно, есть и другие цели. Но у большинства цель – достигнуть определенного материального достатка и положения в обществе, – сказал Юрий, нахмурившись. Он не любил говорить на эти темы. – По крайней мере у буржуазной американской интеллигенции, какую мы знаем по американской литературе. Но мы-то ведь знаем и видим эту цель.
Андрей выслушал Юрия, нетерпеливо облизывая пересохшие губы.
– А в том, что мы видим и знаем, ты уверен? – перебил он.
Юрий пожал плечами.
– Пора бы уж быть уверенным на втором полустолетии Советской власти.
– Бороться за мир и счастье всех людей на Земле?
– А разве это не цель?
– А у тебя есть уверенность в том, что ты понимаешь, в чем заключается счастье людей?
– Во всяком случае, прежде всего в том, чтобы не испытывать насилия и обид от других людей. Иметь хотя бы минимальный уровень материального достатка и удовлетворения культурных потребностей.
– А дальше? Я тебя о конечной цели спрашиваю.
– Дальше еще более высокий уровень материальных и культурных условий жизни. Ну что я тебе буду объяснять, ведь ты и сам это прекрасно знаешь.
– Я знаю, но хочу понять смысл движения к тому, что ты называешь – еще более высокий уровень материальных и культурных условий жизни. Я видел этот уровень. И нашим народом он уже достигнут. А дальше? Еще более высокий уровень? Ты пойми, я ведь не праздный вопрос тебе задаю, я беспрерывно об этом думаю.
– Ну, на наш век еще хватит борьбы за минимальный уровень жизни всех людей на Земле, – сказал Юрий, стараясь говорить шутливо. Возбуждение Андрея его пугало.
– Я вот лежу и думаю, – продолжал Андрей, откинувшись на подушку и устремив взгляд перед собой, – что вместе с ростом нашего благосостояния у нас растет и чувство самодовольства и тупого благодушия. Мы убеждаем себя, что достигли самого настоящего счастья, потому что у нас самый высокий в мире уровень жизни, мы имеем больше всех книг, кино и телевизоров и имеем самый короткий в мире рабочий день. А не кажется ли тебе, что это только условие для какого-то настоящего, высшего счастья, а в чем оно, мы не знаем? Мы не знаем и знать не хотим, нам кажется, что мы уже достаточно счастливы и никакого другого высшего счастья не существует. А я лежу и вспоминаю, что говорил Чехов: счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то этот смысл и эта цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом.
Он замолчал и закрыл глаза. Юрий осторожно поднялся со стула. Но Андрей сейчас же встрепенулся и протянул к нему руку.
– Нет, нет, ты посиди еще немного. Мне уж хуже не будет. Что-то я хотел тебе еще сказать. Да, насчет счастья. Я все думаю теперь, какая это непрочная, ненадежная вещь – личное счастье. Вот я стал поправляться, наступила весна, наша московская весна, с запахом талого снега, с чириканьем воробьев за окном, и мне уже стало казаться, что я счастлив, я повеселел, стал снова шутить и смеяться. А потом вдруг понял: ведь это во мне просто жизнь играет. Да еще и не своя – Славкина. А сколько миллионов людей вот такими воробьями – спорт, флирт, телевизоры – прыгали там, в Штатах, когда разразилась катастрофа?
Он опять замолчал. Видимо, ему уже было трудно говорить. Он пошарил рукой по одеялу – Юрий понял, что Андрей ищет его руку, – сжал пальцы Юрия.
– А вот Зоя, кажется, знает, зачем живет. По-настоящему, до конца знает. Только не затрудняет себя объяснениями. Смотри, брат, не упусти ее. Таких, как она, одна на миллион.
Юрий покинул Андрея в смятении.
Он шел по весенним московским улицам. Спускался теплый майский вечер. Недавно прошел дождь, и асфальт был мокрый. Пахло прибитой дождем мокрой пылью, березовыми и тополевыми почками. Юрий шел, не разбирая дороги, в сторону Садовой. Как всегда у него бывало, наиболее сильные и убедительные слова возникали в его голове только теперь, когда разговор был уже окончен. Его волновало, что он оставил Андрея в таком тяжелом состоянии, не найдя никаких слов утешения, не поделившись с ним бодростью, силой, уверенностью здорового, крепкого человека, знающего, зачем он живет и для чего делает свое дело.
Юрий понимал, что тяжелое душевное состояние Андрея – прежде всего результат упадка физических сил.
«Ну, что я мог ему сказать? – говорил себе Юрий, машинально прислушиваясь к стуку своих шагов по мокрому асфальту. – Все, что я сказал, ему известно: наша цель – коммунизм во всем мире. Андрей говорил о счастье. Но наша цель и есть счастье. Свободный труд свободного человека. Зачем же он вспоминал Чехова – что счастья нет и не должно его быть, а смысл и цель жизни в чем-то более разумном и великом? Но что же может быть разумнее и величественнее коммунизма?» Юрий хорошо помнил, как Маркс ответил в анкете, предложенной ему его дочерьми, на вопрос, как он представляет себе счастье: борьба. Да, борьба за победу коммунизма. Это смысл и цель, это содержание жизни всех настоящих людей. Все верно. Чем же мучается Андрей?
Юрий прошел Садовую и Зубовский бульвар и вышел на Крымский мост. Направо сквозь вечернюю дымку на светлой весенней зелени Парка культуры и отдыха светились пунктиры фонарей в аллеях. Четко слышалась ритмичная танцевальная музыка. С плывущих под мостом лодок доносились песни и женский смех.
Юрий долго стоял на мосту, облокотившись на перила, и прислушивался к отдыхающей Москве... На душе у него было смутно и беспокойно.








