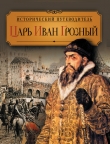Текст книги "Честь воеводы. Алексей Басманов"
Автор книги: Александр Антонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 38 страниц)
– Сын мой, я видел твой подвиг в спасении чудотворных икон и священных сосудов. Ты проявил воинский дух за честь обители. Потому достоин быть сыном Господа Бога. Приди ноне после вечерней трапезы в мою келью со свидетелем-побратимом князем Максимом, и мы свершим постриг.
– Многие лета тебе здравия, преподобный отец, – поблагодарил Фёдор Алексия да вскинул руки и прошептал: – Милостивый Боже, Спаситель и Человеколюбец, низкий поклон тебе за то, что услышал мою молитву. – И Фёдор земно поклонился.
Вечером всё в тот же бесконечный июньский день над боярином Фёдором Колычевым был совершён обряд пострижения. Ему отрезали прядь белых, как снег, волос, надели чёрные одежды – символ скорби и отказа от мирской жизни – и нарекли именем Филипп. В эти дни ему исполнился тридцать один год. И никто не ведал, что спустя двадцать восемь лет нынешний инок-рясофор, младший саном среди прочих монахов, поднимется на престол митрополита всея Руси, поведёт Русскую православную церковь путями праведного служения Господу Богу и россиянам.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
ОТЗОВИСЬ, АЛЁША!
Осенью того же года, как сгореть Соловецкому монастырю, Алексей Басманов приехал с береговой службы в Москву на побывку. При нём был неизменный побратим сотский Глеб. На Оке и в Диком поле было в минувшее лето довольно тихо. Прибегали из Казанского ханства малые орды, делали набеги и уходили, ежели удавалось. А крымчаки и вовсе не появлялись в пределах Дикого поля. И большой воевода князь Андрей Горбатый-Шуйский разрешил своему воеводе-полковнику Алексею Басманову провести месяц-другой дома.
И вот Алексей уже на Пречистенке, в палатах дворянина Михаила Плещеева, своего добросердого дядюшки. Встретили его с радостью, со слезами, с причитаниями и с пугливым взглядом пятилетнего сынка Федяши, который почти за два года разлуки забыл своего батюшку. Однако, расцеловав тётушку Анну и дядюшку Михаила, Алексей взял на руки сына и прижал его к себе.
– Родненький, Федяша, ты уж прости своего батюшку, что дал запамятовать себя.
– Я боюсь твоей бороды, – ещё дичился сын.
– Вот поруха! Так мы её с тобой вместе сабелькой и подрежем. И ты увидишь, что твой батянька молод. И мы с тобой поладим, сынок. Правда, поладим, дядюшка? Как вы тут, родимые, бедуете?
– Всевышний бережёт нас. Да ты бы с дороги-то умылся, племяш, переоделся в домашнее, сынок тебя и признает.
– Да, да, я сей миг. Вот только Федяшу рассмотрю как следует. – Алексей присел на лавку, посадил на колени сына, всмотрелся в его лицо, и на глазах у него появились слёзы. – Родимый, ты же вылитая матушка. Господи, как ты принял всё от своей матушки, от моей несравненной супруженьки Ксении. Глаза, нос, рот, волосы – всё её. Родимый, как же я тебя люблю! – Слёзы у мужественного воина продолжали невольно течь.
– А что, матушка моя сгорела, да? – спросил сын.
– Истинно сгорела, родимый.
Михаил и Анна стояли рядом и тоже плакали. Память вернула их к тем роковым дням, когда у них на глазах умирала ласковая, сердечная, как Богоматерь, невестка. Но старые люди быстрее одолели горестную немочь и засуетились. Надо было позаботиться о бане, накрыть стол. И они оставили наедине отца и сына. Алексей начал рассказывать Федяше, какая у него была прекрасная матушка и как она, умирая, наказывала беречь сына. Постепенно отец и сын отогрелись близ друг друга, и маленький Басманов стал расспрашивать отца, как он воюет с басурманами.
– Батюшка, а ты их много побил сабелькой, тех басурманов?
– Ой много, сынок, даже сабелька притупилась. А они всё лезут и лезут к нам. Вот как подрастёшь, мы вместе пойдём добивать их.
Три дня отец и сын были неразлучны. Они полными днями гуляли, ходили на торжища, покупали китайские игрушки, побывали в Кремле, помолились в соборах. Алексей показывал сыну великокняжеские палаты и говорил, словно приоткрывал завесу будущего:
– И ты в тех палатах побываешь, сынок. Может, государя-батюшку увидишь. Он немного старше тебя. Ещё и служить к себе возьмёт.
– Я бы пошёл служить ему. Только чтобы воеводой, как ты.
– Сие тебе доступно будет. Но чтобы воеводой быть, надо поучиться кой-чему.
– Я всё одолею, батюшка.
– Конечно. Ты будешь скакать на резвом коне, и я научу тебя этому. Ещё я научу тебя владеть саблей. Ни одному воеводе без той науки нельзя быть.
– А ещё бердышом. Я знаю, что такое бердыш, батюшка. Тю-тю-тю... – И Федяша замахал руками туда-сюда.
Отец и сын покидали Соборную площадь, которая старшему Басманову была очень и очень памятна. Подхватив на руки сына на Красной площади, где была теснота, Алексей подумал, что бы он делал без него, как жил. Прижав к груди Федю в первый день приезда, Алексей уже не мог с ним расстаться хотя бы на день, на час. Он овладел сердцем отца так же, как в своё время захватила Алексея ангел Ксения. Казалось Алексею, случись что-либо, и он жизнь отдаст за сына. И он готов был исполнять любую его просьбу, любую прихоть. А Федяша не был привередливым мальчиком, он оставался доволен тем, что у него есть батюшка, который бьёт басурманов и командует ратью.
Так прошла первая неделя общения отца и сына, и они были счастливы. Отец сдержал своё обещание и начал учить сына верховой езде. Ему помогал Глеб. Федяша не проявил никакого страха, когда его впервые посадили на коня. Он поелозил в седле и засмеялся:
– Как тут лепно!
Глеб дал мальчику в руки поводья, он сделал ими первое движение, и послушный конь пошёл по кругу. Алексей и Глеб шли рядом с конём, и отец заметил, как изменился сын. Он был горд собой оттого, что держал в руках поводья, что управлял конём.
Через два дня Федяша попросил отца прокатиться вместе с ним по набережной Москвы-реки. И на чистой луговине Федяша впервые узнал, что такое конская рысь. Он скакал и смеялся от радости. Они проскакали с версту в два конца и вернулись домой усталые и счастливые.
А дома Алексея ждал незнакомый человек преклонного возраста. С пытливыми серыми глазами, в дорожном одеянии. Дядюшка Михаил представил его:
– Сие паломник из Сасова, Рязанской земли, дворянин Анисим Петров. К тебе он, Алёша, с приватным разговором.
Алексей сошёл с коня, помог Феде покинуть седло и сказал ему:
– Иди, сынок, с дядюшкой, отдохни, а мы тут с гостем перемолвимся.
Когда сын с дядей Михаилом ушли, Алексей взял конские поводья и попросил паломника:
– Проводи меня до конюшни, Божий человек. Там в каморе и поговорим безлюдно.
В чистой рубленой каморе было тепло и пусто.
– Садись, странник Анисим, поведай, с чем пришёл, а потом и к трапезе пойдём.
Анисим осмотрелся, снял шапку, перекрестившись на образ Михаила-архангела, висевший в переднем углу, и сел к столу, сбитому из сосновых плах. Сел и Алексей напротив.
– Тут мы мирно и поговорим без помех, – сказал он.
– Я из дальних странствий возвращаюсь, – начал Анисим, – а к тебе, воевода Алексей Басманов, зашёл по просьбе твоего побратима Фёдора Колычева, ежели помнишь.
– Господи, как же мне не помнить Федяшу! – воскликнул Алексей и, взяв лежащие на столе руки Анисима в свои, сжал их с благодарностью. – Да где же ты с ним встретился? Здоров ли он? Ни слуху ни духу сколько времени!
– Просьба к тебе одна, воевода Алексей: чтобы услышанное тобою осталось между нами и дошло только до его близких людей. Он ведь в розыске. Разбойным приказом. А свёл меня с ним князь Максим Цыплятяев, ведомый тебе вельможа.
– Как же, помню и чту батюшку-князя Максима.
– Я уже возвращаться в родимое Сасово собрался, когда князь позвал меня на встречу с Фёдором Колычевым. Но теперь уже нет в миру боярина Фёдора. Он принял постриг и наречен Филиппом. И монашествует в Соловецкой обители. То ведомо только Максиму Цыплятяеву, игумену монастыря Алексию и вот ноне мне. Ты же будешь четвёртым в нашем братстве.
– Всё понял, дорогой мой батюшка Анисим. Ничто из этих стен не уйдёт дальше меня. На том целую крест. – Алексей достал нательный крест и поцеловал. – Поведай же мне, любезный, что с ним, где княгиня Ульяна, где их сын Степа?
Анисим долго молчал, затем тихо начал печальную повесть о том, что ему было известно от князя Максима Цыплятяева. Слушая грустную исповедь Анисима о судьбе Фёдора, Алексей и негодовал, и плакал, и слал проклятия на тех, кто порушил судьбу побратима. Потом сказал:
– Так ты уж говори, говори о том, с чем послал тебя Федяша.
– Трудное дело он просит тебя исполнить, воевода Алексей.
– Да, Господи, я для него на всё готов! Говори, батюшка Анисим. Я пока вольная птица.
– Жаждет он, чтобы его батюшка с матушкой знали, что он жив и здоров. Скажи одно – так он просил, – что ушёл служить Богу. А о причинах, уж и не ведаю, стоит ли говорить. Сдюжат ли?
– Колычевы мужественные люди, им всё посильно.
– Смотри сам. Конечно же, им надобно знать, за что молить Бога о милости к их сыну. Так ты уж побывай у них в Старицах.
– Ноне же в ночь и уеду.
– Поберегись, однако, и сам. Не показывайся в Старицах на людях. Держи путь прямо в Покровский монастырь, а там через игумена и выйдешь на родимых Фёдора.
– Всё верно, дорогой Анисим.
– Знаю по Рязани, как отлавливали и расправлялись с теми, кто клятву преступил и пособничал изменникам. А какие то изменники? Сам я в ту пору чудом уцелел, в своём сельце пребывал.
– Верно говоришь, отец. Разбойный приказ работает день и ночь. И князь Василий Голубой-Ростовский шастает по всей Руси в поисках крамольников.
– Ты воин и знаешь, как обойти супостатов. Учить тебя нечему. Вот так-то. – И Анисим потянулся за шапкой.
– Нет уж, гость любезный. Ты нынче у нас ночь проведёшь, отдохнёшь с дороги, а там как хочешь. Сейчас же нас к трапезе ждут.
– Ну спасибо. Что уж там говорить, приустали ноженьки. Эвон сколько прошли, от Белого моря.
Алексей и Анисим покинули камору на конюшне и ушли в палаты.
– И вот что ещё чуть не забыл сказать, – начал разговор Анисим по пути. – Погорельцам помощь нужна. В Новгород они посылали просителей, там откликнулись, но не щедро. Скажи о том боярину Степану, пусть порадеет посильно. Мы в Рязани и в Сасове тоже отзовёмся.
– Как же не отозваться на такую беду, – согласился Алексей.
В палатах их ждала трапеза. Только Глеба не было.
– Дядюшка, а где Глеб? – спросил Алексей.
– А они с Федяшей саблю ладят в столярной.
– Что же он про трапезу забыл? Да и мне он нужен. Пошлите за ним, – попросил Алексей.
А вечером, как уложили Федяшу спать, Алексей зашёл к Михаилу в покой. Присел возле стола, где тот читал книгу. Молвил:
– Сердешный дядюшка, я вынужден вас покинуть на несколько дней. Не спрашивай куда и зачем, одно скажу: дело у меня неотложное.
– Ты, Алёша, знай, что твои маеты мне близки, потому не пытаю. Федяше что сказать?
– Скажи, что помчал на Оку ватажку басурманов прогнать. И скоро вернусь, как поганцев накажу.
– Так воеводе и положено жить, – с улыбкой заметил дядя.
Сборы Алексея и Глеба были недолгими. Собрали в торбы брашно на четыре дня, Алексей взял из своего военного содержания тяжёлую кису с серебром. С тем и оставили палаты, попрощавшись с Михаилом и Анной. Ещё и заставы не были закрыты, как Алексей и Глеб покинули Москву. Уезжали через Можайские ворота, чтобы заморочить головы доглядчикам Разбойного приказа, а они на заставах всегда обитали. За селом Кунцевом миновали наплавной мост через Москву-реку и двинулись к Старицам. Ехали всю ночь, а днём отдыхали в глухой лесной чаще. Все эти предосторожности были не напрасны. Хотя и исчез с белого света князь Иван Овчина, но все шиши, доглядчики и послухи его остались на службе у Кремля. Они день и ночь выслеживали крамольников. А всякая связь со Старицами считалась крамольной. И началось это с того самого дня, как туда вернули из ссылки опального князя Владимира Старицкого и его мать-монахиню, бывшую княгиню Ефросинью.
В Старицы, как и советовал Анисим, Алексей не отважился идти. Не мог он знать, кому служат стражи у ворот. Да может, среди них и оборотень Судок Сатин кружится. А мимо стражей в город не попадёшь, разве что через стену лезть. Потому Алексей прямым ходом двинулся в Покровский монастырь. Игуменом в эту пору в обители стоял молодой Иов. Хотя рассвет ещё не наступил, но путников пустили в монастырь без проволочек. И вскоре же они встретились с игуменом Иовом. Алексей немного знал Иова, считал его сторонником князей Старицких и доверился ему, попросил позвать в монастырь боярина Степана Колычева. Игумен Иов исполнил просьбу воеводы не мешкая. И пока Алексей и Глеб отдыхали после ночного пути, он послал молодого инока в Старицы за боярином Степаном.
– Передай, что совет скорый нужен от боярина, – наказал Иов иноку.
Боярин не припозднился с появлением в монастыре, приехал вместе с иноком в крытом возке. Он и раньше в нём приезжал, потому на Колычева стража не обратила внимания. Встретились Степан и Алексей как родные, обнялись, осмотрели друг друга. У Алексея седина побелила волосы на голове и бороде. Боярин заметил:
– Рано мы стареем, сынок Алёша.
– Так жизнь-то, батюшка, вся во пламени.
Игумен Иов покинул келью, в коей дал приют Алексею и Глебу. Сотский ещё крепко спал, и Алексей, не затягивая время, сказал:
– А я к тебе, батюшка, с поклоном и весточкой через паломника от сына Федяши примчал.
– Господи милосердный, слава тебе, что внял нашим молитвам! Ведь как уехал в Заонежье Федяша с Ульяной и сынком, так ни слуху ни духу. Ну как они там, родимые?
Алексей посадил Степана на лавку, сам сел рядом, за плечо обнял и поведал обо всём, что услышал от Анисима, потому как счёл, что отцу должно знать о судьбе сына всё, что она ему уготовила.
– Ты только, батюшка Степан, наберись крепости и выслушай через меня Федяшину исповедь. Сейчас у него всё, как у истинного сына Божия. А было... Не приведи Господи никому пережить подобное...
Степан и впрямь был мужественный и кремнёвый человек. Он выслушал Алексея без стенаний, лишь изредка вытирал слёзы. Он даже не перебивал его и уже потом, когда Алексей замолчал, сказал:
– Всё это я предполагал, сынок. Знал, что ни опала, ни жестокости не минуют Федяшу. И я благодарю Бога, что он дал ему вынести все муки и страдания. Сердце от боли ломит за погибель благостной Ульяши и их сынка Стёпушки. Молиться будем до конца дней за них... – Степан пристально посмотрел в глаза Алексею и со стоном выдохнул: – Господи, да что же я о тебе-то ничего не спрашиваю! Вижу, вижу, что и на твою долю выпала кара немалая.
– Сверх меры, батюшка, как и Федяше. Одни и те же каты распяли нас на кресте. Да я-то посчитался со своим катом. А вот Федяша... Ему это, выходит, не удалось сделать.
– Ничего, Федяша возьмёт своё. Наш корень крепок, и мы не забываем обид. Скажи, Алёша, мне-то теперь что делать? Может, слетать на Соловецкие острова?
– Нет, батюшка. Тебе туда путь закрыт. Но ты можешь оказать Федяше помощь, дабы из пепелища подняться. И я ему окажу посильно. Вот кису серебра приготовил. Пусть поднимают обитель краше прежней.
– Да и я не пожалею вклада. Но как всё отправить туда?
– А ты попроси игумена Иова, чтобы он двух-трёх иноков паломниками послал на Соловки. Вот и будет знать Федяша, что мы отозвались на его беды.
– Эко старая голова. А ведь всё верно. Святой Иов нам не откажет. Да и иноки у него есть преданные, смелые и сильные.
И боярин поспешил позвать игумена Иова на беседу. Когда тот пришёл, обратился к нему с поклоном:
– Преподобный отец, вот свояк мой принёс печальную весть о том, что Соловецкая обитель от огня выгорела, а ведь я в ней бывал и многим обязан игумену Алексию. Так мы туда вклады посильные думаем сделать. Найдёшь ли ты иноков, достойных довезти вклады до погорельцев и вручить их игумену Алексию и иноку Филиппу, его пособнику в восстановлении обители?
– На богоугодные дела как не отозваться. Конечно же, есть радивые братья в нашей обители.
– Вот и славно. Так я слетаю домой, пару лошадок с возком пригоню, кису серебра прихвачу. А ты уж приготовь паломников. Ноне же чтобы и выехали. Осень ведь, каждый день дорог, а путь дальний. – Боярин Степан был нетерпелив, весь в движении и готов был сам лететь на Соловецкие острова.
Иову передалось рьяное стремление боярина. Он и сам загорелся подвижничеством.
– Иди, боярин-батюшка, обряди возок в путь, – согласился Иов. – А мы тут свой вклад посильный погорельцам приготовим да ждём тебя.
– Сынок Алёша, и ты подожди меня. На подворье я тебя не зову: не надо судьбу испытывать. А тут мы до вечера посидим и княжьей медовухи пригубим. – С тем и умчал Степан Колычев из монастыря.
Игумен Иов наказал Алексею отдохнуть, сам тоже поспешил собирать дары погорельцам и подбирать из братии нужных для тяжкого пути паломников.
Боярин Степан вернулся к полуденному богослужению. Он сам, без возницы, пригнал пару молодых и сильных лошадей, запряжённых в крытый возок, набитый всяким добром.
– Там, на погорелье, всё это в дело пойдёт. А что лошадки молодые, так это ничего, они сильные. Им поспешать придётся, дабы последний коч из Онеги захватить.
И пока монахи собирались в путь, пока не покинули обитель, Степан Колычев принимал самое деятельное участие в их сборах. Иов тоже не поскупился на вклад погорельцам: он снарядил пару своих лошадей с крытым возком и подобрал не троих, а четверых иноков. Старшему из них было сорок пять лет, все мужи в силе при оружии, способные постоять за себя в случае необходимости.
Иноки и две пароконные повозки покинули подворье монастыря вскоре же после обедни, постояв несколько минут на молении. Степан и Алексей проводили их вместе с Иовом до ворот, благословили в путь, Иов осенил их крестом. А проводив иноков, Степан позвал Алексея и Глеба в ту келью, где они вели утренний разговор. Там для них заботами Иова был накрыт стол и среди снеди стояла баклага княжьей медовухи.
– Мне, сынок Алёша, и ты, побратим его Глеб, хочется отвести с вами душу в беседе. Уж не обессудьте.
Алексей и Глеб только улыбнулись. Им было отрадно провести час-другой за столом с отцом их боевого друга, попечаловаться о гибели близкого им по сечам и схваткам с ордынцами воина Доната.
В тот же день, уже в поздних сумерках, Алексей и Глеб покинули Покровский монастырь и вновь по ночным дорогам поспешили в Москву. Алексею не терпелось прижать к груди ненаглядного сынка Федяшу, отдать ему весь досуг, всего себя.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
СПУСТЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Так уж происходило на святой Руси испокон веку: когда свершались великие деяния, всякий раз они вызывали чудесные явления. Шёл 1326 год, и летописец записал: «В декабре сего года, егда покори великий князь Дмитрий Михайлович Грозные Очи новгородских крамольников и, повернув на Москву, повеле свозить камень на церковное строительство, явися на небеси звезда велика, а луч от неё долог вельми, токо светлей самой звезды. А конец того луча аки хвост великия птицы распростёрся».
И совсем немного лет прошло, как деяниями россиян было вызвано новое чудо. Как завершили возведение главного храма державы, Успенского собора в Кремле, как освятили и началась Божественная литургия, так и вновь явилась звезда велика и в её лучах засверкал золотой крест на куполе храма. Тому чуду дивилась вся Москва.
Спустя сто тридцать лет тот деревянный собор обветшал, и великий князь Иван Третий повелел построить белокаменный храм Успения Богородицы, и ноне здравствующий. Как возвели новый собор, как вознёс хор на клиросах хвалу зодчим, вновь чудо пришло. «А по крещении други звезда явися хвостата над Летним Западом».
И гадали россияне, какими чудесами наградит их Всевышний в день венчания великого князя Ивана Четвёртого на царство. А было то венчание в Успенском соборе. Семнадцатилетний государь, движимый мудрыми помыслами возвеличения Руси над иными державами по обряду и подобию византийских государей, счёл нужным взять себе царский титул и во всех делах государственных именоваться царём и великим князем.
Во все земли державы полетели гонцы, дабы собрать в стольный град достойных россиян. Примчал гонец и в Соловецкий монастырь, привёз грамоту игумену Филиппу Колычеву быть в январе в Москве на венчании государя. В эту пору Филипп только встал на игуменство. Ещё был жив престарелый игумен Алексий, но уже умирал, и братия отсчитывала последние дни его достойной жизни. За минувшие десять лет Филипп Колычев ни словом, ни делом не досадил братии, не огорчил, шёл по стезе послушания твёрдо и многое успел. Прошёл все три ступени схимы, был рософором, малосхимником, великосхимником. А пришёл час, и братия единым духом подняла его в игумены. «Нет мужа, достойнее тебя», – сказали ему соловчане.
В Москву провожали его всей обителью. В семь санных упряжек были положены подарки государю, первым боярам, митрополиту. Посылали в Москву соловецкие монахи-умельцы пушной рухляди сорок сороков, много рыбьего зуба, чистого северного жемчуга, морской белорыбицы, по-монастырски мочёной морошки-ягоды от всех хворей, десятки искусно написанных икон.
Игумен Филипп, в прошлом Федяша, Фёдор Степанович, в сорок лет столько переживший, ехал в Москву не с лёгким сердцем. Десять с лишним лет провёл он вдали от неё. В них было немало печали о незабвенной Ульяше, о сыне Стёпушке, который так и не назвал его батюшкой за малолетством. В минувшие годы было много работы, порою изнурительной. Каково было поднять из пепла храмы, службы, жилища – всё, что составляло монастырь, в коем обитало, кроме монахов, более ста работных людей и паломников! Молодой-то братии в монастыре было не свыше двух десятков, всё больше преклонные старцы, а с ними бревно-комель не затянешь на высоту в десять сажен, не вскинешь на стену камень в тридцать-сорок пудов. Ан подняли монастырь краше прежнего. И не без помощи всего мира, всех россиян, благодаря богатым вкладам боярина Степана Колычева и побратима Алексея Басманова. Отозвались они вопреки татям из государева Разбойного приказа.
Вот и не хотелось Филиппу встречаться в Москве с приказными псами. Имелась у игумена и другая причина нежелания ехать в стольный град. Отвращали его иерархи церкви, сам митрополит Даниил, к коему нужно будет идти на поклон. За минувшие годы Филипп сильно преуспел в познании канонов, уставов, догм и истории православия. Особый интерес Филипп проявил к учению Феодосия Косого. Беглый холоп Феодосий скрылся из Москвы в одно время с Филиппом. Спрятался в одном из монастырей за Белоозером. Там Феодосий нашёл товарищей по духу своему, и все они стали учениками Нила Сорского, Вассиана Патрикеева и Максима Грека. Нелегко приходилось Феодосию добиваться того, чтобы его слово услышали православные христиане. Косого и его сотоварищей изгоняли из монастырей как еретиков, и после долгих мытарств по северным монастырям Феодосий и другие нестяжатели нашли приют в Кирилловом Новоозёрском монастыре, затерявшемся в дремучих лесах. Отсюда Феодосий бросил вызов иосифлянам-стяжателям. Этот вызов был громким, дерзким и задел иерархов православия. В гневе был митрополит Даниил. О Феодосии заговорили придворные юного государя Ивана. Он же пока лишь слушал возмущённых вельмож и своего государева слова не изрекал.
Чем же привлекало бывшего боярина Колычева учение бывшего холопа Косого? По главным утверждениям Феодосия Филипп был не согласен с ним и следовал Новому Завету. Феодосий отрицал троичность Бога. «Един есть Бог. И един Бог сотворил небо и землю», – утверждал Феодосий, добавляя при этом, что в Божественных писаниях нет слов о троице: «Несть писано в законе троицы, разве единого Бога».
Филипп считал размышление Феодосия Косого о Боге, об Иисусе Христе чистосердечным, но по-детски наивным. Однако Феодосий был сторонником чистого – раннего – христианства. Он проповедовал любовь к ближнему, милосердие, нестяжательство. Вольнодумец был неласков к стяжателям. Он называл их имена с амвонов церквей, добавляя при этом, что все они ночные тати.
Отрицая во многом Феодосия и многое в нём принимая, Филипп искал свой путь познания православия. Он относил себя к числу тех верующих, кто опирался на духовный разум, ибо только такой разум позволял познать божественную правду и не льстить себе силою человеческого предания. Истинная правда приближала человека к Богу, потому верующий человек с духовным разумом не раб, но сын Божий. Десять лет жизни в обители дали Филиппу право судить и о монастырской сути. Он считал, что те обители, в коих твёрд устав по божественной правде, – это ноевы ковчеги во времена смут и государственных потрясений, это пристанища для обездоленных и страждущих, это общежития высокой духовной среды и школы трудников. Нигде, как только в монастырях, не рождаются личности, достойные святости и всенародной любви. Сергий Радонежский, Нил Сорский, митрополит всея Руси Пётр, инок Пересвет – несть числа святым от монастырей.
Так, в размышлениях о вере, о церкви, о русском православии и своём месте в нём Филипп приближался к Москве, которая его пугала. Закончил ли великокняжеский престол сводить счёты со Старицами? Там, вернувшись из ссылки, уже выходил из отроческого возраста князь Владимир, сын Андрея Старицкого, корень истинных Рюриковичей. Помнил, однако, Филипп, что пока никаких слухов о новых гонениях на Владимира Старицкого по Руси не гуляло. Сказывали, что жил он тихо, мирно, не искал себе беды. А то ведь и угодил бы под горячую руку молодого государя. Она у него была уже тяжёлая. В свои тринадцать лет – это четыре года назад – великий князь вынес смертный приговор князю Андрею Шуйскому. А венчая приговор, захотел увидеть, как государевы псари выпустят в железную загородку, куда посадили несчастного князя, свирепых волкодавов. Великий князь перед тем подошёл к загородке и ломким, мальчишеским голосом спросил князя Шуйского:
– Почему милости не просишь? Пади на колени, и я прощу!
– Я ни в чём не виновен, государь, – ответил гордый князь.
– Виновен даже в сей миг. Ты вскинул голову и смотришь свысока. Ты виновен в гордыне и в помыслах. Теперь я и покаяния не приму, – сказал жёстко не по годам Иван, отвернулся от князя и крикнул псарям: – Ату его! Ату!
Те в миг открыли амбар, из которого выскочила свирепая стая псов. Князь Андрей и крикнуть не успел, как псы сбили его с ног, остервенело разодрали полотняное рубище и принялись рвать тело. А самый свирепый чёрный пёс вцепился князю в горло. И юный государь, в восторге хлопая в ладоши, закричал:
– Ату его, Крам! Ату!
Сей восторженный крик тринадцатилетнего великого князя при виде жесточайшего злодеяния испугал многих придворных, коим было велено зреть казнь крамольного князя. И многим из них вспомнилось откровение ясновидцев: «И родилась в законопреступлении и в сладострастии лютость». И то сказать, подобного страшного злодеяния на Руси до сей поры не творилось.
Слух о жестокости великого князя Ивана, словно гром небывалой силы, прокатился по всей державе и достиг Соловецких островов. Тогда инок Филипп подумал в тишине ночной кельи, что в суровости юного государя не могли быть виновны бояре, якобы породившие в нём лютость. Пришедшая от родительского корня и дремавшая до поры, она проснулась сама по себе. Сын литовки и черкеса становился самим собой, стоило для утверждения сего вспомнить ослепление по его воле князя Михаила Глинского. И спор по этому поводу бесполезен, считал Филипп. Даже такие предостойные россияне, как правитель Алексей Адашев и священник, духовный отец государя Сильвестр, не смогли изменить нрав своего воспитанника. За всю доброту к нему, за науку и за православное воспитание Иван наградил своих радетелей жестокой опалой. В безвестности, от зверского обращения государевых слуг закончил свою жизнь в расцвете лет умнейший государственный муж, дворянин Алексей Фёдорович Адашев. Священник Сильвестр, россиянин чистого славянского типа из рода священнослужителей, где из поколения в поколение являлись миру добродетельные пастыри, был заточен в монастырь под бесчеловечный надзор приставов. И лишь чудом его удалось спасти и спрятать в тихой пустыни на Соловецких островах. В том была немалая заслуга Филиппа Колычева.
В Вологде Филипп остановился лишь на один день. Занесённый глубоким снегом город с множеством церквей и берёзовых купин, казалось, ушёл в спячку. Ан нет, Вологда жила. Через неё пролегала столбовая дорога из южной Руси в северную. И на вологодских постоялых дворах круглый год было людно и шумно. А уж о летней поре и говорить нечего. На реке Вологде близ города собирались десятки насад, дощаников, челнов, малых кочей, кои уходили отсюда в дальние плавания с товарами. Видел Филипп летнюю Вологду однажды – весела, красива, опрятна. Колокола в вологодских храмах особо звонки, а звонари в благовест чудодействуют.
Обоз Филиппа проследовал прямо на Соловецкое подворье, не ахти какое богатое, но просторное и тёплое. До пятидесяти человек могло найти в нём приют. Вечером Филипп попарился в баньке. То-то страсть и любота наступили, как поддали на каменку квасу да пошёл гулять по спине игумена можжевеловый веник! Поначалу кажется, что по спине десять ежей прокатили, а потом и нега пришла. Закрыл глаза, и почудилось, что полетел в горние выси. После дороги в тысячу вёрст, после баньки даже монаху не грех пригубить хмельного. И хотя Филипп им никогда не увлекался, ан пришлось выпить, благо друг боярина Степана Колычева, а Филиппов благодетель боярин Игнатий Давыдов, наместник каргопольский, навестить игумена надумал. Он приехал в Вологду днём раньше, а как услышал, что соловецкие монахи появились, захотел увидеть вольную братию. И была встреча Филиппа и Игнатия полной для них неожиданностью.
– Господи, оказывается, и в нашей привольной Руси разойтись трудно. Федяша, любезный, как рад тебя зреть! – зашумел Игнатий, едва войдя в горенку, где Филипп сидел за трапезой. Всё так же худощав и строен был Давыдов. И борода по-молодецки опрятна – не в пояс.
– Боярин-батюшка, надо же! Как отца родного увидел! – воскликнул Филипп и поспешил к гостю, обнял его, и они трижды облобызались.
– Стёпушка-то, мой побратим, здравствует? – спросил Игнатий.
– Здравствует, родимый. И матушка с ним.
– И мы с супругой пока не разлучились. Ты-то, я вижу, облик сменил. И то, ведь двадцать годков минуло, как вы сами себя с Басмановым в Каргополь привели-пригнали.
– Двадцать, боярин-батюшка. Сколько воды утекло... – Филипп встрепенулся: – Да что мы столбами стоим! Тебе как, батюшка, может, в баньку или к столу?