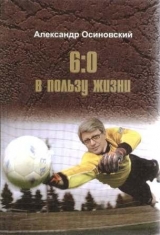
Текст книги "6:0 в пользу жизни"
Автор книги: Александр Осиновский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Но, поскольку мы продолжали продавать эти «бумаги», то на их выкуп направлялись деньги, которые выручали от продажи новых обязательств. Через три месяца «обязательства» заменили векселями, что, впрочем, ничего не изменило в отношениях с держателями бумаг. Одни обязательства обменивались на другие, задолженность росла и, тем самым, строилась классическая пирамида, которая рано или поздно должна была рухнуть и похоронить под собою её создателей.
Вначале мы об этом не задумывались – время тогда не располагало к размышлениям: все очень быстро менялось. Роман Гольдман стал называться президентом «Корпорации «Управленческие системы», и не уставал повторять, что иметь деньги – это не главное, а главное – это хорошая кредитная история.
Осенью девяносто второго года мы придумали чековый инвестиционный фонд, который назвали «Царскосельский». Второго января 1993-го года я обменял свой ваучер на акцию чекового фонда, став его вторым акционером.
В феврале девяносто третьего года мы с Лёней отправились в здание администрации района, где тогда работала Валерия, чтобы предложить ей стать управляющим чекового фонда. Конечно, никто из нас не имел никакого опыта, а тот минимум, который давали специализированные двухнедельные курсы, не мог восполнить дефицит знаний. Поэтому действовали мы по наитию, но так работало в то время большинство наших коллег.
Вскоре после «Царскосельского фонда», которым талантливо руководила Валерия, нам отдали в управление еще и «Фонд Преображенский». Оперируя двумя фондами, мы стремились участвовать во всех интересных аукционах, на которых за ваучеры продавались акции приватизируемых предприятий.
Конечно же, никакого анализа покупаемых предприятий мы не проводили потому, что делать этого не умели, тем более, что информация об этих предприятиях была неполной и необъективной. Как правило, мы не знали, кто именно интересуется тем или иным предприятием, поэтому действовали наобум, порой «вламываясь» со своими чеками в аукционы, на которых нас никто не ждал.
Так мы в июне девяносто третьего года приобрели довольно приличный (процентов, кажется, пятнадцать) пакет акций торгового предприятия «Мебель-маркет».
Попыток продавать акции, приобретенные на чековых аукционах, мы не ещё делали, и предложений такого рода до «Мебель-маркета» нам никто не делал. В то время никто еще не умел продавать и, тем более, покупать акции, выпущенные в бездокументарной форме.
Но вскоре после аукциона нам не позвонил коммерческий директор АООТ «Мебель-маркет» с предложением продать ему приобретённые акции предприятия.
На следующий день Валерия и я собрались поехать к покупателю, чтобы договориться о сделке. Приличной машины у нас тогда не было. Более или менее приличная машина была только у Лёни: «Форд Капри», купе красного цвета, спортивного вида и девяти лет эксплуатации. Но выглядела машина очень неплохо. Тогда автомобиль был важным индикатором положения человека в обществе, хотя бы потому, что автокредитов ещё не существовало, и если человек мог позволить себе приличный автомобиль, то, значит, что у этого человека были деньги.
На задворках Дальневосточного проспекта мы отыскали складской комплекс «Мебель-маркета» и припарковались около грузовой эстакады, предназначенной для грузовых автомобилей. Несмотря на будний день, на складе никакого шевеления не наблюдалось, что, в целом, соответствовало ситуации в стране.
Несмотря на видимое отсутствие деятельности на предприятии у коммерческого директора «Мебель-маркета», к которому мы направлялись, оказались хорошо обставленный кабинет и личная секретарша, очень вышколенная и называющая имя и отчество своего шефа с неуместным для его небольшой должности пиететом.
Нам было предложено подождать и угоститься кофе и шоколадными конфетами.
Вскоре появился и сам хозяин, Анатолий Эдуардович Сердюков: молодой, немногим более тридцати лет, черноволосый и оживлённый.
Он был готов приобрести пакет акций «Мебель-маркета», который мы получили на чековом аукционе. Когда же мы обо всем договорились, хозяин кабинета, вышел проводить нас на эстакаду, чтобы взглянуть на наш автомобиль. Это был момент истины, ведь Сердюкову предстояло решиться на сделку и отдать свои деньги.
– О, какой у вас замечательный автомобиль, – сказал Сердюков и прищелкнул языком. С расстояния в тридцать метров наш красный «Форд», действительно, неплохо смотрелся.
Эту сделку с Сердюковым мы совершили, и, после этого, заключили еще множество сделок такого рода.
А Анатолий Сердюков, купив наши акции, вскоре стал генеральным директором «Мебель-маркета», затем ушел в налоговую инспекцию и, через несколько лет, возглавил налоговую службу страны, а в 2007 году стал первым гражданским министром обороны.
Впрочем, будучи гражданским человеком, Сердюков как министр обороны ежегодно в День Победы принимает парады на Красной площади. На экране телевизора видно, как открытый лимузин с министром обороны объезжает строй участников парада. Время от времени, автомобиль останавливается и Сердюков громко приветствует солдат и офицеров, стоящих в строю на Красной площади.
А недавно в Крыму, в Ливадии, мы наблюдали картину, живо напомнившую парады на Красной площади.
По дорожке, забитой припаркованными автомобилями и толпами экскурсантов пробиралась потрепанная «Волга» с багажником на крыше. К багажнику был привязан кусок фанеры, на котором стояла небольшая лохматая собачонка и по-хозяйски рассматривала публику.
«Волга» время от времени притормаживала и тогда собачонка коротко лаяла, точь-в-точь как это делал Сердюков, приветствуя войска, построенные для парада.
6:0 Чудо
6:0 Чудо
Четвертый мамин инсульт, первоначально начавшийся как небольшое расстройство речи, нарушения в ориентации и затруднение движений, уже на следующий день принял зловещие признаки.
Мы в это время были в Петербурге, но всего лишь три дня оставалось до свадьбы моей сестры, поэтому билеты и визы в Израиль у нас уже были на руках. Собирались мы на свадьбу сестры, а оказались в больнице у мамы.
Сестра с Мишей отложили свадьбу, и мы вчетвером разделили сутки на две части, дежуря попарно в иерусалимской больнице возле маминой кровати.
Первые дни после случившегося папа каждый день ездил к маме в больницу и, сидя рядом с ней, непрерывно плакал, гладя маму по руке, из-за чего медицинский персонал начинал давать папе успокаивающие и сердечные препараты.
Маме же становилось хуже.
Мы стали свидетелями отчаянной борьбы за жизнь в ситуации, когда мамины шансы остаться в живых убывали с катастрофической скоростью.
У неё, обездвиженной инсультом и перегруженной сильнодействующими препаратами, началось двухстороннее воспаление легких и мама только изредка приходила в сознание. Самостоятельно глотать она не могла и жидкую пищу ей вводили через специальную трубку.
Всё это выглядело удручающе и мы, опасаясь, что вместе с больной мамой получим ещё лежачего папу, запретили ему ездить в больницу.
Через три дня нашего дежурства около мамы русскоязычный доктор откровенно сказал, что надежды крайне мало.
– Сколько, по вашему, у неё есть времени? – спросили мы его.
– Дня два, – ответил доктор, и добавил после паузы – Вы же понимаете…
Мы понимали, что человеческая жизнь не вечна, что на девятом десятке лет за каждый прожитый день следует благодарить Всевышнего, но речь сейчас шла не об одном человеке, а сразу о двух стариках: никто из нас не представлял, как это папа сможет жить без мамы.
Папа, встречая нас, возвращающихся из больницы, каждый раз заглядывал в глаза и спрашивал:
– Что делать?
Помочь врачам мы ничем не могли: санитары каждые четыре часа без каких-либо напоминаний меняли бельё у всех лежачих больных, лекарства, в которых нуждалась больная, у неё были, к условиям стационара не было никаких пожеланий.
Помочь маме могла только чудо.
И я ответил папе
– Молись.
– А как? – тут же спросил меня папа.
На книжной полке у родителей стоял еврейский молитвенник на русском языке – сидур. Мои родители не были религиозными людьми, но еврейские священные книги, которые им дарили по всевозможным поводам, они несли в дом и ставили на полку. Сидуров на полке стояло два, и видно было, что обе книги не открывались.
Я взял тот сидур, который стоял с краю, раскрыл предисловие и прочитал:
«Всякий человек в трудный час непроизвольно обращается к Высшей Силе с просьбой о помощи и защите».
– Что же, – подумал я, – просьба о помощи и защите – это как раз то, что папе сейчас нужно.
Я принялся листать молитвенник и вскоре понял, что большинство еврейских молитв составлено так, чтобы произнося их, человек молится и за себя, и за весь еврейский народ, вознося хвалу Всевышнему за проявленную милость.
Но мне нужна была молитва о спасении мамы. В сидуре ничего подходящего не было.
Я подозревал, что в православном молитвеннике найдётся подходящий текст молитвы за болящих. Но где найти в родительской квартире православный молитвенник и станет ли папа пользоваться такой молитвой?
Сидя в тот же вечер в больничной палате возле маминой кровати, я стал записывать в блокнот:
«Господи, Боже наш. Боже всесильный и Боже милосердный. Помоги моей Инночке, избавь её от страданий и болезней, спаси и сохрани её душу. Дай нам сил быть рядом с ней во все дни её, дай нам мудрости принять волю твою, каковой бы она ни была. На одного тебя надеюсь и к тебе одному мольба моя, Господи».
Для еврейской традиции молитва эта была необычной не только тем, что она не соответствовала многовековым канонам, но, главным образом, тем, что молитва была о спасении души. Но папа не знал этих особенностей и стал делать то единственное, что было ему доступно – постоянно молиться.
Он молился и плакал, читая молитву. Он выучил молитву наизусть и постоянно повторял её днём и ночью, если не мог заснуть.
Так прошли два дня, отведенные для мамы врачами и забрезжила надежда, потому, что температура у больной упала и дышать она стала лучше.
Через неделю стало понятно, что кризис миновал, и врачи принялись обсуждать с нами ход дальнейшего маминого лечения в другом стационаре.
А еще через три недели маму привезли домой.
С тех пор прошло три года.
Недавно мы вновь были в Иерусалиме. Мама чувствует себя по-прежнему: временами она всё понимает и даже кое-что ей удаётся разборчиво сказать. Временами у неё не очень ясное сознание, но в восемьдесят три года и без инсультов не каждый является эталоном ясного ума.
Её волосы, ещё три года назад бывшие совсем седыми, каким-то чудом стали темнеть и сейчас у неё заметно меньше седины.
Папа ежечасно контролирует мамино самочувствие, меряет ей давление, даёт лекарства. Он при деле, и эта постоянная его занятость поддерживает в нём жизненный тонус.
Папин возраст побуждает его к размышлениям о вечном, и он, надеясь найти во мне подходящего собеседника, начинает разговор:
– Я вот часто думаю: есть Бог или нет? Вот если бы знак какой-нибудь получить о том, что Бог существует, а так что-то не верится – папа задумчиво посмотрел в окно, как будто надеясь, что именно сейчас он увидит там желанный знак.
Мы сидели на кухне. Папа только что закончил раскладывать по отделениям специальной коробочки мамины таблетки и упаковки лекарств ещё лежали на столе.
– То есть, – попробовал уточнить я, – Ты бы поверил в Бога, если бы Он тебе явил чудо?
– Ну да, наверное, чудо… – папа как бы пробовал это слово на вкус, – Да, чудо, – уже уверенней произнёс он – Чуду бы пришлось поверить.
– То есть, явление Бога в горящем, но не сгорающем кусте терновника, как это когда-то было с Моисеем, тебя бы устроило?
Папа кивнул.
– И воскрешение умершего, превращение воды в вино, воспламенение свечи без огня тебя бы тоже убедило?
– Наверное, – нерешительно сказал папа, ещё не понимая, куда я клоню.
– Тогда почему ты не замечаешь чуда, в котором ты был главным участником?
– В каком? – не понял меня папа.
– А в том чуде, когда ты своей молитвой спас маме жизнь.
Папа недоверчиво посмотрел на меня.
– Ты думаешь, что благодаря молитве мама осталась жива?
– Конечно, а какая ещё может быть причина? Врачи определённо отвели ей только два дня.
– Да нет, – папа возражал мне и нисколько не сомневался в своей правоте, – Просто вы там всё время были и поэтому врачи старательно всё делали. Вот мамочка и выздоровела.
Папа изначально отвергал любые объяснения произошедшему с мамой, которые не укладывались в его систему представлений о вселенной.
– Папа, врачи ничего не могли сделать такого, что бы вдруг вылечило маму, – продолжал я раскачивать его материалистическую уверенность в придуманном объяснении.
– Так почему мама выздоровела? – недоверчиво посмотрел он на меня.
– Только благодаря тому, что ты молился.
Папа хмыкнул, и, прекращая бесполезный разговор, стал складывать мамины лекарства в вынутый из стола деревянный ящик.
Наша вселенная – это совокупность энергии, материи и информации, обладающая собственным осознанием. Сознание вселенной называют Богом. Ни доказать, ни опровергнуть это утверждение никто не в силах, поскольку вселенная непознаваемая.
Любая предлагаемая нам картина мира является его упрощением, а вселенная намного сложнее и многообразнее чем её описание в священных книгах.
Почему Всевышний может, откликнувшись на человеческую просьбу явить нам чудо, мы не знаем и никогда не узнаем, но, откликнувшись на папину просьбу, он это чудо явил.
Однако папа не верит в чудо и старается этого чуда не замечать. Чудесному маминому спасению он пытается найти привычное объяснение, потому, что поверить в необыкновенную израильскую медицину папе проще, чем поверить в обыкновенное чудо.
Но Господь милостив и терпелив.
Может быть, папа потому и дожил до восьмидесяти семи лет, что Всевышний пока даёт папе шанс уверовать в него?
Часть вторая Зонтик Кагановича
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Зонтик Кагановича
Откусив немалый кусок от аппетитного бутерброда, состоящего из тонкого кусочка хлеба, смазанного сливочным маслом и трех ломтиков гусиной ветчины, моя сестра прокричала:
– Она у меня снимает квартиру уже три года и все это время я вынуждена каждый месяц по несколько раз звонить ей, чтобы получить свои сраные триста долларов.
– Чего ты кричишь, говори спокойно, – сказал я своей сестре, прикидывая, не пора ли мне соорудить ей новый бутерброд. Предыдущее кулинарное сооружение быстро уменьшалось в размерах, подгоняемое чаем, который сестра пила из большой белой кружки.
– Я не кричу, – так же громко возразила мне она, – это у меня такой профессиональный голос. Вот если бы ты в течение двадцати лет каждый день по несколько часов вел уроки музыки в наших израильских школах…
– Где дети кричат раза в полтора громче тебя… – в тон сестре успел вставить я фразу.
– Какое там, в полтора раза, – обрадованная моей поддержкой заорала сестра, – в три раза громче. А я их должна перекричать, что успешно делаю каждый день, – с гордостью закончила она, отправляя в рот остатки бутерброда.
И, поедая с не меньшим аппетитом новый бутерброд, украшенный мной на этот раз двумя половинками кривого израильского огурца, она рассказала нам печальную историю своего квартирного предпринимательства.
Квартиру в Беэр-Шеве сестра купила не для того, чтобы в ней жить. Вот уже семь лет она снимает квартиру в Иерусалиме, в двух шагах от родительской квартиры, в которой и происходило сегодняшнее наше чаепитие с гусиной ветчиной. Квартира в Беэр-Шеве стоила значительно дешевле Иерусалимской, как раз столько, сколько сестра могла себе позволить с учетом всех пособий, машкант[1] и других благ еврейского социального государства. Поэтому доходы от сдаваемой в аренду квартиры могли бы покрыть половину её затрат на аренду квартиру в Иерусалиме, но половина – это тоже немалая сумма.
Могли бы, если бы свои платежи жильцы делали аккуратно.
Полгода сестра промучилась с первым арендатором, полгода – со вторым, и вот уже три года мучается со своей нынешней жилицей, приехавшей в Израиль откуда-то из Украины.
– Так она что, совсем не платит? – не вполне уловив суть проблемы, задал я вопрос.
– Ты, как всегда, невнимательно слушал, – вмешалась в разговор моя жена, – Тебе же сказали, что ей приходилось по пять раз звонить в Беэр-Шеву, прежде чем та ей переводила деньги. А деньги перестали поступать с начала этого года. И добавила, обращаясь к сестре, – Я думаю, что нам надо поехать туда и на месте во всем разобраться.
– Подожди, – ответила сестра, – это еще не все. Она собирается съезжать с квартиры через неделю.
– Тем более, – сказала жена тоном, не терпящим возражений. Когда моя жена говорит таким тоном, возражать ей бесполезно. Сестра в этом убедилась через две минуты.
Выезд в Беэр-Шеву был назначен на восемь часов утра.
Арендованный Фиат весело шелестел по шоссе, переходя на ритмичное постукивание, когда его колеса наезжали на дорожную разметку, украшенную металлическим шишками.
Иудейские горы закончились, ландшафт выровнялся и, чем дальше мы углублялись на юг Израиля, тем чаще по обеим сторонам дороги стелились возделанные поля, казавшиеся очень нарядными в самый разгар израильской весны.
– А у нас дома сейчас минус один, – заметил я, размышляя о том, что становится жарко и скоро, пожалуй, в машине придется включить мазган[18].
– А у нас в Беэр-Шеве плюс двадцать два, – с гордостью ответила мне сестра.
Я по своей многолетней привычке вел машину со скоростью, несколько превышающую разрешённую на этом шоссе.
– О! – воскликнул я, указывая на дважды мигнувшую мне встречную машину, – у вас что, тоже предупреждают водителей о полицейской засаде?
– Предупреждают, но только русские и арабы, – ответила мне сестра, – ты бы сбавил скорость.
– Уже сбавил, – ответил я, пристраиваясь в хвост белому «пассату».
За небольшим подъемом на обочине стояла бело-синяя машина израильской дорожной полиции.
– Спасибо мигнувшему, – произнесла жена.
– Кстати, на тему «О!» есть хороший анекдот, – громко сказала сестра, – вы его знаете?
– Какой анекдот? – спросила жена?
– Рассказывай! – распорядился я.
– Значит так, в синагоге раввин читает главу Торы, в которой сказано, что еврей всегда должен хранить верность жене и не посещать проституток. В это время один из присутствующих громко восклицает: «О!». Раввин его спрашивает: «Каганович, Вы почему воскликнули «О!»? Тот отвечает: «Я вспомнил, где вчера оставил свой зонтик».
Пока мы смеялись, за стеклом машины промелькнули щиты с надписями – вначале ивритскими крючочками, потом на «родном» английском: «Беэр-Шева – 20 км». При скорости в 120 км/час мы можем быть на месте через 10 минут.
– Послушай, – принялся я инструктировать сестру, – когда мы будем у твоей жилички, не говори ей о том, что я твой брат.
– Вообще не говори ей, кто мы такие, – уточнила жена, – чем меньше она будет знать о нас, тем сильнее будет нас бояться. Самый большой страх – это страх неизвестности.
– Но я как то должна ей вас представить… – попробовала возразить сестра, но я ее перебил:
– Не должна! Ты пришла в принадлежащую тебе квартиру. Если бы женщина, арендующая эту квартиру, своевременно вносила арендную плату, то она могла бы требовать неприкосновенности своего жилища. Но поскольку она не платит тебе, то о какой неприкосновенности сейчас может идти речь? И вообще, будь ты с ней пожестче!
– Не надо ей улыбаться, извиняться и оправдываться, – продолжила жена мой инструктаж, – твоя задача – получить с нее деньги и выгнать ее из твоей квартиры.
– Вам легко говорить, – слабо трепыхнулась сестра, – А я так не умею.
– А тебе надо суметь! – жестко возразили мы хором.
Стены подъезда, в котором находилась квартира, принадлежащая сестре, были разрисованы от пола до потолка, свет в подъезде отсутствовал, входная дверь держалась божьим духом. Это было так непохоже на столичные Иерусалим и Тель-Авив, но, в отличие от маргинальных районов родного Санкт-Петербурга, в подъезде блочного израильского дома не воняло мочой и кошками.
Квартира, в которую мы вошли, показалась нам продолжением подъезда.
Можно было бы предположить, что обитатели квартиры собираются вскоре отсюда переезжать, если бы, наряду с коробками и вещами, громоздящимися повсюду по углам, такой же бедлам не продолжался на столах, в шкафах, на кухне и в открытом, почему-то, холодильнике.
Впрочем, в этой трехкомнатной (по российским меркам) квартире обитала сейчас только одна женщина, вид которой вызывал недоумение не меньшее, чем вид ее жилища.
Худая, обряженная в длинную юбку и в бесформенную кофту, женщина надела на свою голову светлый платок, украшенный по краям длинной восточной бахромой. В отличие от религиозных еврейских женщин, укрывающих платком только свои волосы, обладательница столь странного наряда обмотала этим платком еще и шею. Заметив наши недоуменные взгляды, она поспешила пояснить, что надела этот платок из-за больных ушей.
Я в первый момент не придал особого значения этому обстоятельству, поскольку меня беспокоило то, что сестра с самого начала разговора взяла неверный тон, как бы извиняясь на наше неожиданное вторжение.
Она, как-то виновато улыбаясь, вроде бы пыталась договориться с жилицей о выплате ею задолженности и освобождении квартиры.
– Вы понимаете, – говорила она, – я ведь тоже снимаю квартиру, у меня самой двое детей…
В общем, уши у моей сестры были доверчиво растопырены в ожидании лапши, которую предполагалось на эти уши развешивать. Такое развитие событий нас никак не устраивало.
Я, не снимая черных очков (хотя освещенность в этой квартире – помойке вовсе не способствовала их ношению), взял табурет и сел напротив женщин, зато моя жена извлекла из сумки фотоаппарат и стала фотографировать все вокруг, начав, естественно, с этой лахудры в платке.
При первой же вспышке фотоаппарата та подскочила как ужаленная:
– Почему вы меня фотографируете, – закричала она, – я не давала разрешения здесь фотографировать!
– А вашего разрешения и не собираются спрашивать, – вмешался я, предваряя слабый лепет моей сестры.
– А кто вы такой? – кинулась она в атаку на меня, – Что вы здесь делаете?
– А это вас не касается, – твердым голосом ответил я ей, – Я нахожусь здесь по просьбе хозяйки квартиры и уйду вместе с ней.
– Я пока еще живу здесь и не позволю… – конца ее фразы никто уже не услышал, потому, что перекрывая её вопли я заорал:
– Ты сейчас будешь делать то, что я тебе говорю, – и, уже сбавляя тон, распорядился, – Возьмите бумагу, ручку и я вам продиктую текст расписки.
К нашему немалому удивлению, она в точности выполнила мою команду и теперь вопросительно смотрела то на меня, то на сестру.
Я принялся диктовать.
– Пишем, я, фамилия, имя и отчество, если не забыли, как это будет по-русски …
И, сидя напротив, я смотрел как на бумагу кривыми, неумелыми строчками ложится текст расписки: «Я, Нестеренко Алла Владимировна …»
«Значит Алла Нестеренко, – подумал я. Как же это тебя в Израиль-то занесло, с ридной нэньки Украйны»?
– Пишем дальше. Обязуюсь в срок до … Какого числа? – спросил я, обращаясь к сестре.
– Она мне не позже пятого числа должна переводить деньги, – ответила сестра.
– Значит, пишем: в срок до пятого апреля, – продолжил я диктовать Алле Нестеренко текст ее расписки.
Та продолжала писать под диктовку, безропотно достала свой таудат зеут[19], вписала в расписку номер удостоверения, затем – сумму долга. Процесс составления расписки несколько застопорился, когда сестра стала уточнять размер задолженности за свет и за газ.
В этот момент ко мне подошла жена и отозвала в сторону.
– Смотри, – шепотом сказала она, – на столе стоит Коран, на диване раскрытая книга – это тоже Коран, но уже на русском языке и повсюду у нее валяются кассеты с арабскими надписями.
Я, отвернувшись от занятой подсчетами Нестеренко, поднял на лоб свои темные очки и принялся разглядывать раскрытую книгу, лежавшую на диване. Книга это, возможно, и не являлась Кораном, но, безусловно, была книгой исламской. Аудиокассеты с надписями из арабской вязи тоже, по всей видимости, имели отношение к исламу. Теперь и платок на голове у Аллы Нестеренко, завязанный ею как хиджаб[20] арабской женщины, получил свое логичное объяснение.
Израиль, бывший на протяжении почти двух тысяч лет недосягаемой мечтой любого еврея, молящегося за то, чтобы «следующий год – в Иерусалиме», Израиль, ставший в начале прошлого века высокой целью религиозных евреев и евреев-сионистов, свято верующих в социалистический способ общественного развития, Израиль второй половины двадцатого века, ставший своим государством для миллионов изгоев во всех частях света, Израиль в последнем десятилетии двадцатого и начале двадцать первого века становится тем государством, в которое можно просто переселиться, чтобы жить «на халяву». Не имея возможности отделить одних репатриантов от других, Израиль принимает всех, кто формально отвечает требованиям закона об абсорбции. Даже если в душе эти люди далеки от понимания сути еврейского государства и бегут от самих себя в страну, которая в духовном, историческом и нравственном плане для них ничего не значит, Израиль их примет, даст корзину абсорбции, даст таудат зеут, чуть позже – даркон[21], а что при этом будут чувствовать эти алим ходашим[22] – зависит только от них самих.
То, что Алла Нестеренко приехала в Израиль не по зову сердца не осуждается сегодняшним израильским обществом. Как и в любой свободной стране, принадлежность к той или иной религиозной конфессии является личным делом каждого. Но когда женщина, приехавшая пять лет назад из Украины и имеющая славянскую внешность становится мусульманкой в воюющем с исламским терроризмом Израиле, то такое превращение вызывает, по меньшей мере, удивление. А помимо удивления – еще и подозрение о том, что кому-то, наверное, очень выгодно сделать мусульманкой блондинку Нестеренко.
Пока я размышлял, сестра закончила разбираться с налогами и с коммунальными платежами, а Алла Нестеренко готова была закончить свою расписку.
– Теперь, последний абзац, – не терпящим возражения тоном сказал я, когда все суммы и сроки были нами зафиксированы на бумаге, – пишем: в случае несвоевременной оплаты указанной выше суммы, я обязуюсь уплатить пени в размере 1 % от суммы платежа за каждый день просрочки исполнения.
Нестеренко встрепенулась:
– А это по закону?
– Это по закону, – кивнул я.
– Я не знаю такого закона, – повысила голос она.
– Зато я его знаю!
– Кто вы такой, снимите очки, я хочу видеть ваше лицо!
– А вам его не нужно видеть. Единственное, что вам сейчас нужно – это оплатить долги и освободить квартиру.
К моему удивлению, Нестеренко быстро сдалась, не попробовав уменьшить размер пени, и принялась писать именно те слова, против которых она только что бурно возражала.
Моя сестра уже с трудом скрывала довольную улыбку, наблюдая, как ей казалось, капитуляцию противника, зато жена сохраняла на лице каменное выражение.
Говорить она стала только тогда, когда сестра получила расписку на руки. Жена никогда не говорит в общем хоре, ее аудитория – это только исключительно ей внимающие слушатели.
Спокойным, даже, пожалуй, чересчур спокойным и размеренным тоном, она спросила:
– Как вы собираетесь сдавать хозяйке квартиру?
Почему-то именно этот тон раздражающе подействовал на Нестеренко. Та аж подпрыгнула.
– Почему вы говорите со мной таким тоном?
– Вам не нравится мой спокойный тон?
– Я все написала в расписке, – завизжала Нестеренко.
– Вы не написали, каким образом вы будете сдавать квартиру и как передадите ключ от нового замка, который сами установили.
Жена продолжала говорить спокойно, никак не обнаруживая своей взволнованности. Зато Нестеренко, казалось, впадает в истерику.
– Заберите свой ключ, – воскликнула она и, схватив ключ со стола, кинула ключ в её сторону. Ключ со звоном упал возле ног жены.
– Поднимите ключ и положите его на стол, спокойно произнесла она, – мы возьмем его со стола.
Нестеренко дернула плечами, вскочила, но, все же, повинуясь полученной команде, подняла ключ и положила его на стол. После этого, отойдя к окну, сказала:
– Вам повезло, что я полицию не вызвала.
– Это вам повезло с хозяйкой. Очень она у вас покладистая, – ответил я и, указывая сестре на ключ, добавил – забери его, это твой ключ от твоей квартиры.
Мы проспорили весь обратный путь от Беэр-Шевы до Иерусалима.
Я говорил, что этой особой в хиджабе должны заниматься государственные службы, противодействующие терроризму и отвечающие за безопасность граждан Израиля.
Сестра говорила, что ей немного жаль эту женщину, что ей самой в первые годы было нелегко и что в Израиле не запрещено исповедывать ислам.
– Ведь нельзя же преследовать человека только за то, что он молится Аллаху, – горячилась сестра.
Итоговую черту подвела жена.
– Во-первых, – сказала она моей сестре, – ты сама говорила, что у нее в друзьях какой-то араб.
Сестра утвердительно кивнула.
– Во-вторых, она сейчас собирается переезжать, и, если я правильно поняла, куда-то в район Нацерета, (сестра вновь кивнула) а это, насколько я понимаю, территория палестинской автономии.
– Но там и евреи живут, – возразила сестра.
– Живут, – согласилась жена, – но вряд ли с хиджабами на голове. И в третьих, женщину с такой внешностью ваши солдаты пропустят с поясом шахида через любое КПП. Такие мусульманки – находка для ХАМАСа[23].
– И, в четвертых, – вставил я свое замечание, – у нее нет планов на будущее. Оно, будущее, ей по фигу. Она берет обязательства, зная, что не будет их выполнять. Может быть, она рассчитывает днями уже быть у Аллаха и общаться, если я не ошибаюсь, с семьюдесятью девственниками, обещанными каждому шахиду.
– Девственницы – это только для мужчин, заметила сестра.
– Я считаю, что вам сегодня же надо идти в полицию, – безапелляционно заявила жена, не обращая внимание на нашу чрезвычайно увлекательную дискуссию о девственницах.
– А-то мне зачем? – я попробовал возразить, – ведь иврита я не знаю…
– А затем, что твою сестру туда надо привести за ручку и быть рядом, пока она там все не расскажет, – жена поставила точку в этом споре, – И, лучше всего, пойти вам в полицию не откладывая.
Я со своей женой я никогда не спорю.
Попасть в полицию нам удалась только к вечеру следующего дня.
Девушка в голубой полицейской рубашке, сидящая у входа в помещение полиции за специальной стойкой, предложила нам подождать в комнате напротив.
В маленькой комнате работал телевизор, показывающий вечерние новости.
Я не обратил на телевизор никакого внимания, поскольку картинки сопровождал текст, произносимый на непонятном иврите, но моя сестра замерла со смешанный выражением ужаса и удивления на лице.








