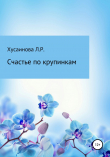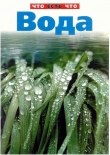Текст книги "Повесть о хлорелле"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
– Опомнись, Самсон, ведь это похоже на ревность! Ты ревнуешь ее к человеку, который должен стать ее мужем.
Тогда ее слова прозвучали жестокой обидой, сейчас они казались ему справедливыми.
Поверив, что ее долг – сохранить отца для науки, Юлия решила примирить его с сыном, наладить в доме мир. Задача не казалось ей ни трудной, ни сложной. Она решила, что оба – и тот и другой – изрядно устали, бесплодная борьба надоела, и каждый жаждет почетного мира. Явись им на помощь добрый гений, недоразумениям пришел бы конец. Была бы добрая воля, научные расхождения всегда можно уладить.
Она предвидела и некоторые помехи и трудности и с чисто женской аккуратностью готовилась их одолеть. В помощь себе Юлия пригласила свою подругу – аспирантку ботанического сада Марию Мулатову. Девушка давно уже нравится брату, он тоже ей по душе. Петр даже пытался ухаживать за ней, но этому тогда помешала Юлия. Она предупредила подругу, что брат – легкомысленный и холодный жуир, неспособный ни любить, ни ценить чужие чувства, он сделает ее несчастной. С тех пор прошел год, а брат все еще надеялся добиться ее расположения. Сейчас Марии предстояло послужить добрым целям подруги, а возможно и своим. Кто знает, не станет ли примирение брата с отцом счастливым началом. Петр переменится и станет достойным Марии. Арон Вульфович утверждает, что возлюбленный, отвергнутый в одно время, может стать желанным в другое.
Подруги встретились в уютной, со вкусом обставленной комнате Юлии и после нежных поцелуев расположились на диване. Непринужденные признания прерывались многозначительной улыбкой и смехом. Девушки обнимались, гладили и ласкали друг друга, их громкие голоса сбивались на шепот и вновь звенели. Только девушки умеют так щедро изливать тепло своего сердца, тешиться в объятиях подружки. Одна служит опорой для другой, каждая – источник нежности. Юношам не дано так легко и непринужденно давать выход своим чувствам, находить друг у друга сердечную поддержку…
С искусством врача, вынужденного коснуться деликатной темы, Юлия заговорила о том, как беспомощны девушки перед лицом любви:
– Никто не учил нас, как относиться к своей и чужой любви. Учили, как есть, пить, одеваться и судить о поведении других, а как распоряжаться своим сердцем, чтоб не стать жертвой собственных чувств, – изволь сама догадаться.
Эти слова имели успех. Подруга в знак согласия еще ближе придвинулась к ней.
– Мы вынуждены полагаться только на себя, – продолжала она, – и на то, что подсказывает нам совесть.
Далее шли назидательные примеры, которые сводились к тому, что истинная любовь всегда пробуждает нежное чувство в избраннике.
– Ты не должна больше избегать брата, – неожиданно заключила Юлия. – Мой бедный отец глубоко из-за него страдает, – не очень последовательно продолжала она, – над нашим домом нависло несчастье. Только ты можешь пас спасти.
Переложив на подругу собственные заботы, она заверила ее, что за испытаниями придет награда – непокорный сын образумится и женится на той, которой столь многим будет обязан.
Какое женское сердце, уязвленное любовью, не забьется при этом! Девушка пожелала узнать все, что касается ее роли в возвращении блудного сына и, выслушав указания, задумалась.
Марии Мулатовой было двадцать пять лет. Невысокого роста, смуглая, как мулатка, с влажными и блестящими глазами, в которых, словно замерла слеза, с красноречивыми руками, способными что угодно выразить, она нравилась многим. Редко расставленные зубы и низкий лоб сделали бы ее непривлекательной, если бы не улыбка, способная затмить все неприглядное на свете.
У маленькой Марии – свои великие трудности и заблуждения. От подруг она знала, что девушке в ее годы пора выйти замуж, из книг, кинокартин и театральных спектаклей – что эта важная веха в жизни человека сопряжена с любовью. Придет и любовь – всему свое время. Беда в том, что Мария этому не верила. Не то, чтобы ей казалось, что любви вовсе нет. В свой короткий век она встречала это чувство приукрашенным на сцене и в книгах и неприглядным – в жизни. Какой любви верить? Про себя она решила, что красочные описания нежного чувства придуманы мужчинами, чтобы вернее обманывать девушек. Вооружившись этой философией, Мария поздно заметила, что, кроме страха, ничем другим для любви не оснащена. Ее пугали вольное поведение мужчин, рассказы о страданиях доверчивых девушек. Напуганное воображение вынуждало ее избегать встреч с молодыми людьми, и она обрадовалась совету подруги отвергнуть ухаживание брата. Любовь Юлии к Льву Яковлевичу, их дружба и нежность чуть не поколебали ее убеждения, но, сопоставив их уравновешенные отношения с теми, какими их видишь на сцепе и в книгах, Мария решила, что это не любовь. Счастье, видимо, возможно и без любовных страстей.
Хотя литература и киноискусство обманули ее надежды, она все же много читала и часто бывала в театрах и кино. Любовные ситуации на экране и на сцене волновали ее и доставляли удовольствие – отвергнутая любовь печалила, а благополучный исход рождал ощущения, которых она объяснить не могла.
Когда подруги снова расположились на диване и новый прилив нежности миновал, Мария спросила:
– Ты советуешь принимать его ухаживания. А если он вскружит мне голову? Мне ведь это впервые, а он, говорят, мастер по этой части.
Подобные опасения не могли вызвать сочувствия у Юлии. Любовь не пугала, а привлекала ее. Она заверила Марию, что высокая миссия примирительницы сына с родителями сделает ее сердце нечувствительным к его козням. Поглощенная мыслью утвердить в доме мир, Юлия страстно желала, чтобы подруга, как и она, не сомневалась в успехе.
– Лев Яковлевич говорит, – продолжала Юлия, – что брат нуждается в поддержке. Его ждут неприятности, и оставить его в такой момент одного нельзя. Только и друзей у него, что я да ты, – сознательно преувеличивала она одиночество брата, – остальные в беде разбегутся… Он не должен догадываться, какие причины руководят нами, надо избегать деловых разговоров, – поучала она помощницу, – иначе он бог знает что подумает.
По мере того, как Юлия наставляла подругу, она и сама все больше убеждалась, что именно ее призвала судьба сохранить отца для науки и водворить мир и согласие в доме. Мария в это время думала о другом. Она видела себя втянутой в любовную игру, в одну из тех, которые так красиво протекают на страницах романов и на экрана кино, и втайне мечтала стать героиней такой приукрашенной любви.
С тех пор как Петр оставил родительский дом и поселился в одной из комнат филиала института, сестра не видела его. То, что он позволил себе, казалось ей жестокостью по отношению к родителям и незаслуженной обидой для нее. Вначале она решила никогда больше с ним не встречаться и отклоняла всякую мысль о примирении. Затем почему-то явилась уверенность, что он вернется домой, и она ждала со дня на день его возвращения.
Петр явился к сестре в воскресный день, задолго до обеда – время, когда родителей обычно нет дома. Он принес случайно купленную книгу и настойчиво советовал ее прочитать. Чем именно эта книга понравилась ему и почему она обязательно понравится ей, брат так и не сказал. Держал он себя так, словно впервые был в этом доме – не садился, с интересом разглядывал фотографии на стенах, безделушки на письменном столе, одну из них осторожно взял в руку и бережно вернул на место. Прежде чем заговорить, он долго ходил взад и вперед, время от времени задумчиво покачивая головой. Видно, серьезные заботы привели его сюда.
После коротких расспросов о здоровье родителей он сразу же перешел к делу. Сестра должна уговорить Льва Яковлевича оставаться в семейной ссоре нейтральным. Она переспросила, что это значит, и все-таки не поняла, почему будущий член семьи должен быть в стороне, когда в доме происходят нелады. Еще озадачило ее, почему брат вовлек ее в раздоры, смысл которых ей не совсем ясен.
– Хорошо, – согласилась сестра, – я поговорю со Львом Яковлевичем, попрошу его не раздражать тебя.
Не этого домогался Петр. Неужели она не знает, что привело его сюда? Ей ничего неизвестно. Пусть в таком случае узнает правду от него. Он рассказал ей об опытах, проведенных Золотаревым и матерью, объяснил это сговором против него и требовал, чтобы Лев Яковлевич «не выносил сора из избы» и оставил материалы в институте.
– Он может со мной спорить и возражать, говорить что угодно, – заключил брат, – но собирать материалы против меня я не могу ему позволить.
Ей послышалась угроза в его словах, и с невольным раздражением она спросила:
– Не хочешь ли ты этим сказать, что уволишь его?
Он улыбнулся и добродушно покачал головой. То ли вопрос показался ему наивным, то ли хотелось доброй миной смягчить недобрый смысл последующих слов:
– Это зависит от него. Дисциплина обязательна для всех. С маниловщиной и благодушием мириться не следует. И то и другое надо с корнем вырывать. Дела института не могут решаться вне его стен.
Он умолчал о том, что результаты обследования были представлены в филиал, умолчал о споре между ним и Золотаревым и о собственном распоряжении сдать эти документы в архив. Никто не уполномачивал Льва Яковлевича обследовать воды, примыкающие к заводу, а частные занятия ихтиолога Золотарева ни директора филиала, ни членов ученого совета не интересуют.
Рассуждения о маниловщине и о том, что с ней следует серьезно бороться, сестра слышала от брата не впервые. Она оставалась к ним безразличной, пока они касались малознакомых или вовсе незнакомых ей людей, да и смысл этих слов больше связывался в ее сознании с благодушным Маниловым из «Мертвых душ», чем с кем-либо из ныне здравствующих. Сейчас этим именем называли ее друга, серьезного и умного Золотарева. Подобной дерзости она не прощала. Брату не уйти от возмездия. В подходящий момент он получит свое полной мерой.
– Объясни мне, пожалуйста, – заговорила сестра о том, что больше всего ее интересовало, – почему ты ушел из дому? Мало ли в чем родители расходятся с детьми. Где причина для такой демонстрации? Научные разногласия, говоришь ты, не следует выносить за пределы института, а семейные? Неужели они менее важны и значительны?
На эту тему ей легко с ним поспорить – нравственные правила не так запутаны, как научные.
Брат ответил не сразу. Он отодвинул занавеску окна и долго глядел в дворовый сад, не то что-то вспоминал, по то собирался с мыслями. Когда он обернулся, лицо его выражало спокойствие и уверенность:
– В нашем городе и хорошее и дурное учитывается и как бы заносится на твой счет. Мое положение обязывает меня считаться с общественным мнением, идти в ногу с ним. Я должен был снять с себя подозрение, что поддерживаю безумства отца… Всем известны его рискованные утверждения, будто «наука всегда была наукой для науки», что «человечеству грозит голодная смерть, если оно не позаботится о новых источниках питания». Чего только в этой ереси нет – и формальное мышление, и мальтузианство, и неверие в силы социализма… Мы понимаем это не так, я не могу и не должен сомневаться. Каждому отведено свое место в жизни, зачем мне, исполнителю, превращаться в законодателя? Мало ли какие общепринятые взгляды несовершенны и даже вредны, неужели каждый из них подвергать критике – противопоставлять другим свое частное мнение? Что стало бы с нашими учреждениями, если бы каждый вздумал хозяйничать в них? Ни отцу и никому другому не удастся толкнуть меня на путь беспринципности. Я прекрасно знаю, что хорошо и что плохо, что прилично и что непристойно, моя совесть не страдает от противоречий, потому что мне все ясно раз и навсегда.
Он говорил спокойно и вдумчиво, не позволяя себе резких жестов, насмешливых улыбок или вызывающего тона. Так говорит человек, вера которого сильна не доводами рассудка, а привычным повторением чужих идей, бесспорных тем, что не принято доказывать их справедливость.
– Ты говоришь, что в нашем городе и хорошее и дурное учитывается, однако же ты не стесняешься вступать в связи с замужними женщинами, совращать девушек и затем их бросать!
Только женщина способна так непоследовательно вести разговор, низвести серьезную беседу с нравственно-философских высот на землю. Всегда, когда сестра затрагивала этот круг вопросов, брат отделывался молчанием. Сейчас ему не хотелось ссориться с сестрой, и он укоризненно сказал:
– Ты напрасно об этом заговорила. Я никогда не отрицал, что у меня были связи и с замужними и с незамужними женщинами. Они любили меня, а я – никого из них. Моя ли вина, что мое сердце не склонно влюбляться?
Друзьям он говорил, что был некогда влюблен, и показывал портрет красивой девушки. История этой любви излагалась по-разному: не то возлюбленная умерла, не то уехала из города или вовсе не бывала здесь, а встретилась с ним на курорте… Только Юлия знала правду. Случайная знакомая подарила брату свою фотографию. Он хранил ее в бумажнике и, когда она истерлась, отдал в мастерскую увеличить. Случилось, что портрет в фотографии пропал, и ему дали другой. Ничуть не огорченный, он повесил фотографию у себя на стене.
– У тебя холодное и расчетливое сердце, – довольная тем, что может заставить его выслушать себя, продолжала сестра. – Ты любишь разогревать чужие чувства и спокойно наблюдать страдания своих жертв. Ты с девушками груб и несправедлив. Об одной из них ты мне сказал, что она напоминает тебе крякву. Кряква, говорил ты, целыми днями то щиплет траву, водяной мох, водоросли, то пропускает через клюв жидкий ил и, набив зоб ракушками, слизняками и червями, начинает ощипывать себя, разглаживать и напомаживать свои перья. Такова и девушка – она обжора и модница… Как можно так говорить? Откуда столько бездушия, в кого ты пошел? Звери и даже рыбы способны на большие чувства. Белорыбица, рассказывает Лев Яковлевич, поднимается по Волге до верховьев Камы и ее притоков – две с половиной тысячи километров следует будущий отец семейства за своей суженой и ничего в это время не ест. Лев Яковлевич прав – многим есть чему поучиться у белорыбицы…
Пример ли с белорыбицей или упоминание о прожорливой крякве лишили Петра свойственной ему сдержанности. Он холодно усмехнулся и резко бросил сестре:
– Я не спрашиваю тебя, как это случилось, что знакомство со Львом Яковлевичем преобразило тебя. Ты думаешь и рассуждаешь, как он, готова одобрить все, что бы он ни сделал, и совершенно утратила свое лицо. У тебя были спокойные и строгие движения, где они? Ты развязна и легкомысленна, словно выросла в лесу. Взгляни на себя, где твое скромное платье с длинными рукавами и закрытым воротом?
Сестра не дала ему договорить. Теперь, когда она высказала то, что у нее накипело, ее раздражение против него растаяло, и ей даже стало его жаль. Сестра мягко взяла руку брата и сказала:
– Я шью теперь платья по его вкусу, и, надо тебе сказать, Лев Яковлевич понимает в этом толк… По его совету я занялась научной работой, изменила свое отношение к больным, и не напрасно. Они поверили в своз излечение и полюбили меня.
На этом кончилась их первая встреча. Он снова пришел к ней, узнав, что отец пишет заключение о целесообразности реконструировать рыбоводный завод. Петр был приятно удивлен, застав у сестры Марию. Юлия отозвала его в сторону и сказала:
– Я спешу в лепрозорий, меня там ждут… Побудь без меня, ведь вы добрые старые знакомые, – указывая на подругу, добавила сестра. – Будь с ней ласков, она этого стоит.
Прежде чем уйти, она шепнула ему:
– Мария узнала о твоих неприятностях и захотела увидеть тебя. Друзья, как видишь, познаются в беде…
* * *
Весть о том, что отец высказался против реконструкции завода и признал использование хлореллы излишним, – глубоко огорчила сына. Хоть он и утверждал, что в семье против него образовался заговор, сам этому не верил. Ни ради себя, ни ради кого-либо другого отец не станет кривить душой. И Лев Яковлевич такой же. Аккуратный и точный в эксперименте, он не изменит своим принципам. Вряд ли его расчеты ошибочны, возможно, что планктона в водах завода более чем достаточно и в хлорелле особой нужды нет.
Директор филиала мог бы с этим согласиться, но что он ответит, если его спросят, обследовал ли он воды в рукаве Волги, прежде чем предложить новую конструкцию завода? Какими материалами снабдил он профессора, который признал переоборудование необходимым? Никому нет дела до директора филиала, ни отцу, ни Льву Яковлевичу, а ведь легче было бы им не заметить избытка планктона в реке, чем ему сейчас придумывать себе оправдание. Но будь в обследовании замешан отец, с этим было бы нетрудно покончить.
Ученый секретарь филиала Сергей Сергеевич Голиков не такие задачи решал. Ему не покажется зазорным написать заведомую неправду, сослаться на обстоятельства, которых не было, на очевидцев, известных только ему одному. Он свяжет подлинное с фантазией, сошлется на «план», на «важность мероприятия для данного момента», на то, что «наука должна быть увязана с практикой», как того требуют «интересы социализма». Ничего в этом искусстве хорошего нет, но доброта, деликатность и щепетильность, полезные в быту и в личных отношениях, неуместны в государственных делах…
Профессору Свиридову эта истина, увы, недоступна.
«К чему это тебе, отец? – мысленно спрашивает сын, – ты поступаешь со мной, словно мы с тобой чужие».
«Я следую велению долга, – слышится ему ответ. – Хорошо ли, плохо ли я отстаивал революцию, я всегда был ей верен и из личных интересов не предавал ее…»
Веление долга? Стоит ли с этим спешить? Надо еще подумать, кому это веление служит, во имя кого и чего следует быть ему верным. Навязать сыну страсть к злополучной хлорелле и при первой же ошибке расправиться с ним, обездолить себя и других ради будущего, которое для них не наступит. Не в этом ли его долг? Счастливый фантазер! Что ему до земли? В заоблачных высях нет ни бурь, ни смятений и вечно сияет солнце…
Велика ли беда, если на заводе, помимо планктона, будут и вскормленные хлореллой рачки? Люди на зыбких болотах строят без нужды города, воздвигают храмы в пустыне, и никто не призывает их к ответу. В сравнении с этим много ли значит реконструкция рыбного завода?
Все обдумал и обсудил молодой Свиридов, не учел он только, что узаконенная ошибка на одном из заводов, стала бы обязательной для других, излишняя щедрость обратилась бы в расточительство.
Надо было как-нибудь обосновать то, что случилось, и директор филиала поручил ученому секретарю Сергею Сергеевичу Голикову, мастеру связывать подлинное с фантазией, обследовать воды в рукаве Волги и представить свое заключение. Выбор, сделанный директором, был неудачен, и, когда он это понял, было поздно что-либо изменить.
Ученый секретарь выслушал распоряжение, многозначительно кивнул головой и сказал:
– Можете на меня положиться! Я – старая сельдь, меня не перехитришь.
У Голикова была своя лексика и манера выражаться. Любитель простонародных словечек и жаргона рыбаков, он с особым удовольствием пересыпал свою речь тем а другим. На его языке рыбе свойственно не метать икру, а «рассыпаться». Каждой рыболовецкой бригаде он присвоит любезное прозвище – «ладинка», «золотника», «хорошевка». Осетровые, говорил он, протянули «от каменноугольной эры до коммунизма, протянут и дальше». Над рыбоводными снастями Голиков посмеивался: «У нас все называется аппаратом, на деле это либо ящик, либо бадья».
Страстный почитатель старины, он носил поддевку из синего сукна, сапоги с голенищами, сложенными гармошкой, отрастил себе бородку и справлял церковные праздники дважды – по новому и старому стилю.
– Возьмите себе в помощь паренька бентолога, – предложил директор, – у него сейчас нет работы.
– Но беспокойтесь, – многозначительно улыбаясь, ответил Голиков, – проверим – лучше не надо… Не люблю я этих ихтиологов, кто их выдумал. Только и знают, что рыбам хвосты мерять… Утрем им нос по первое число.
И в насмешливом тоне, и в расстановке слов сквозило что-то недоброе. Директор хотел было его попросить не делать поспешных выводов, быть точным в расчетах, но в последнюю минуту раздумал. Что ему до того, как справится с заданием Голиков? Распоряжение дано, остальное его не касается. Каково бы ни было обследование, его нельзя будет упрекнуть, что он унизился до сговора с сотрудником.
Уверенность эта была только внешней. В глубине души он понимал, что может случиться нечто дурное, тем более печальное, что оно обратится против отца и Льва Яковлевича. Надо было отменить распоряжение и поручить обследование другому, но этому мешало обидное чувство, что не он эту борьбу затеял, ему навязали ее. Следует ли ему так усердно ограждать чужие интересы?
Весь день директор был неспокоен, а к вечеру, не выдержав, послал за Голиковым.
– Я забыл вас спросить, – стараясь не обнаруживать своих подозрений, начал директор, – сколько дней вам понадобится пробыть на заводе?
Ученый секретарь принес с собой острый запах винного перегара, быстро распространившийся по всему помещению. Директор невольно поморщился, и смущенный секретарь поспешил прикрыть рот рукой.
– Не ждал уже сегодня вас повидать, – оправдывался он, все еще не отводя руку от рта. – Сели обедать, известное дело, сухой кусок рот дерет…
Директору было известно, что Голиков склонен выпить и за обедом, и после обеда, и в компании, и в одиночку. Как и все алкоголики, он не считал себя пьяницей и утверждал, что пьет только «по делу», «по существу», не так, как другие, от нечего делать. Веселей ему от водки не становилось, наоборот, он мрачнел и изводил окружающих своими жалобами.
– Дней понадобится немного. Думаю, Петр Самсонович, слетануть денька на три. Угодно, и за день справлюсь, не сунувшись в воду, выкладку дам…
У него была приятная улыбка бесхарактерного добряка, но ее портило выражение глаз, – лукавое и в то же время пугливое. Казалось, различные чувства владели им – желание скрыть свою слабость и страх, что узнают о ней.
Директор не сомневался больше, что Голиков считает его своим сообщником и, бросив на него раздраженный взгляд, резко проговорил:
– Что значит не сунувшись в воду? Обследование должно быть серьезное и честное.
Ученый секретарь вызывающе усмехнулся и энергично зашевелил руками в карманах поддевки.
– Угодно начистоту, так бы и сказали. Мне что так, что иначе, все равно. – Он немного помолчал, видимо, набираясь храбрости, прежде чем произнести неприятную для директора фразу, и с лукавой улыбкой добавил: – Я и сам понимаю, что не дело для сына против отца идти… Будет по-вашему – начистоту.
Ответ не успокоил, а еще больше задел директора. Этот пьяница потерял голову, что он болтает!
– Я не просил вас представлять ложные материалы. Что значит работать начистоту?
Вместо ответа ученый секретарь виновато склонил голову, вынул руки из карманов поддевки и покорно вытянул их по швам.
После такого рода неприятностей Голиков обычно мысленно отчитывал обидчика, в жарких речах, исполненных мужества и силы, отстаивал свое достоинство, а в особо трудных случаях утешение являлось с другой стороны – вино давало выход горькому чувству. На этот раз секретарь даже мысленно не позволил себе возразить. Его ждал реванш, и какой! Завтра чуть свет он встретится с друзьями в рыболовецкой бригаде, изольет перед ними обиду, и уж достанется директору… Ничего, что он не услышит, слово народа дорожку найдет.
Голиков знал своих друзей и мог на них положиться. Уже много лет он в трудные минуты жизни оставляет институт и мчится в рыболовецкие бригады. Здесь его уязвленная гордость и чувство собственного достоинства находят себе удовлетворение. Его тут считают замечательным ученым, искусным рыболовом, прекрасным человеком и умницей. Голиков не раз оказывал ценные услуги бригаде, с ним и выпить, и поболтать, и повеселиться приятно. За дело возьмется – свой, рабочий человек, заговорит – ученый, но наслушаешься, все знает и так расскажет, что всем угодит.
Как было Голикову не чувствовать себя в бригаде хорошо! Тут нет его жены – простой и грубой женщины, обзывающей его не иначе, как бегемотом, способной обрушиться на него с кулаками и запустить в него чем попало… Нет здесь и сотрудников, склонных подтрунить над его речью, одеждой и бородкой, уличить в незнании того, что ученому секретарю знать обязательно.
Были у Сергея Сергеевича и лучшие времена. Он неплохо учился, едва не был оставлен при институте, писал диссертацию и неплохо играл на баяне. Незаметно для себя он растерял свои знания, сузил круг интересов и стал чем-то вроде ремесленника в науке. Исчезла любовь к исследовательским занятиям, и, как чертополох на заброшенном поле, выросла вера в так называемую «народную мудрость», в силу предчувствия, в значение примет, явилось пагубное влечение к вину.
В юности Голиков писал стихи, мечтал и влюблялся, теперь он, посмеиваясь, говорил: «Что толку в молодости, она пустая». Живет Сергей Сергеевич на краю города, в деревянном доме, где жили его отец, дед и прадед. От каждого предка и многочисленной родни остались портреты, семейные фотографии и иконы. Они покрывают собой стены, выцветают и меркнут, а он все больше привязывается к «родовой галерее» и с немым вопросом, как бы обращенным к прошлому, подолгу разглядывает ее.
В рыбацкой бригаде Сергея Сергеевича но узнать. Застенчивость сменяется решительностью, склонность всем уступать и со всеми соглашаться – самоуверенностью, черты лица выражают загадочность. Так выглядит человек, которому ничего не стоит всех озадачить, удивить подвигом, поразить воображение волнующей тайной. Проникновенным взором он окинет небо и землю и по приметам, известным ему одному, скажет: «Быть дождю» – и никто в этом не усомнится. Чего стоят предсказания метеорологов, которые знамений природы не понимают! К чему приборы и расчеты, когда правда тут, под руками! Раз листья красного клевера и кислицы свернулись, цветы белой кувшинки закрылись, а цветочки-венчики чистотела поникли – быть ненастью.
И примет таких немало – заблагоухают вовсю луговые и садовые цветы, сирень и жасмин в пору цветения, или небо станет белесым, звезды замерцают, роса под утро на траву не сядет, золотистая заря покраснеет – жди дождя.
Сегодня речи Голикова особенно приятны его друзьям. Он помнит, что должен вывести на чистую воду Льва Яковлевича, и обрушивается на ихтиологов, которые на приметы внимания не обращают и тем подводят рыбаков.
– Им ведь что положено, – вдохновенно рассуждает секретарь, – помогать вам при лове, разведывать движение рыбы, знать наверняка температуру воды и всякое другое в природе. Кто им это скажет, метеорологи? А ежели погодознатцы промахнулись, в лужу сели ихтиологи, а заодно пострадали и вы. Так и выходит – ихтиологи правы, когда правы метеорологи, но так как метеорологи частенько врут, нет, значит, веры и ихтиологам…
Дружный хохот обрывает его речь. Как тут рыбакам не быть довольными: он нашел причину их бед, выдал им виновника, на которого можно теперь валить все неудачи…
Проходит день, другой, рыбаки слушают своего гостя и недоумевают – откуда у человека столько ума, где он у него умещается? Голиков уезжает со счастливым сознанием, что народ понимает и ценит его, а в сравнении с этим мнения его сослуживцев и даже суждения директора – ничто.
Голиков представил институту документы, подтверждающие, что в заводских водах планктона недостаточно и без дополнительного питания, хотя бы хлореллой, разводить рыбу невозможно.
Директор вызвал его к себе и спросил:
– Вы можете поручиться за точность обследования?
Сознание того, как много значит его ответ для личного благополучия директора, придало Голикову храбрости. Он с независимым видом заложил руки назад и, опершись ими о край стола, вытянул голову вперед. В таком виде он напоминал собой дятла, который, прежде чем стукнуть клювом по своей жертве, упирается хвостом о дерево.
– Конечно, могу, ведь я ранее вам говорил: Лев Яковлевич не планктонолог, откуда ему эту механику понимать?
– Нас могут проверить, – напомнил ему директор об ответственности, – вы должны это учесть. Больше ли, меньше ли там планктона – вопрос не праздный.
– Больше или меньше, – совсем осмелев, с беззаботной интонацией проговорил Голиков, – никуда этот планктон не денется, там и будет. Рыбы не склюют, станет удобрением, донная зелень поднимется, больше будет зеленого корма…
Директор досадовал, что связался с Сергеем Сергеевичем, и все же был доволен, что, не покривив душой, получил материалы, которые позволят ему себя отстоять. Не теряя времени, он в тот же день отправил акты в Москву. Два дня спустя материалы обследования обсуждались на ученом совете филиала. Никто не выступил в защиту Золотарева. Ему напомнили, что он без достаточного знания дела и без ведома филиала собрал и направил неверные сведения в печать. И, словно сами члены совета никогда пи в чем не ошибались, единодушно потребовали от администрации «оргвыводов»: На житейском языке это значило, что виновный передается в руки директора, от которого зависит, объявить ли ему строгий выговор или уволить из института.
Несмотря на поддержку ученой коллегии, задача оказалась далеко не решенной. Едва директор обмолвился о дисциплинарном взыскании, Золотарев, со свойственной ему краткостью, поспешил заявить:
– Я предпочитаю быть уволенным. Советую вам так и поступить.
То обстоятельство, что виновный не только пренебрег оказанным ему великодушием, но еще позволил себе диктовать условия, было воспринято директором как вызов, и он тут же решил его уволить. Оставлять после этого Золотарева – значило поощрять безответственность и дать повод для подозрения, что он из семейных соображений покровительствует ему. Поразительно, до чего этот человек самонадеян! Что поддерживает в нем его упрямство?
– Скажите мне, пожалуйста, зачем это все понадобилось вам?
Лев Яковлевич улыбнулся. Надо же быть таким наивным, – он просто ребенок.
– Я поступил так, потому что хочу быть нравственно достойным наследником вашего отца.
Хотя в этих словах звучал обидный намек на его ссору с отцом, Петр не ощутил обиды. Он только остро почувствовал, что ни возразить, ни уволить этого человека он но сможет.
– Поступайте как хотите, – с притворным равнодушием проговорил он. – Вы бы лучше подсказали, как мне быть с вами?
Золотарев обрадовался вопросу и с той же непринужденностью, с какой только что требовал уволить себя, предложил:
– Вас много раз просили откомандировать меня в институт. Почему бы вам так не сделать?
Таких просьб действительно было много, и, отказывая, директор ссылался на то, что Золотарев необходим в филиале. Как он объяснит это перемещение сейчас?