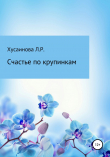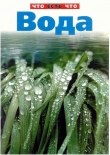Текст книги "Повесть о хлорелле"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Она не стала его тогда расспрашивать, а некоторое время спустя спросила:
– Как могли вы по одной лишь чешуе определить работу рыболовов?
Он оценил ее интерес к делу и сказал:
– Я несколько лет проверяю свой улов и по чешуе вижу, что рыбы не раз уже метали икру, значит, рыбаки ее упускали. Возраст волка, говорят, узнают по шкуре, а рыбы – по чешуе…
Рыбы были предметом его трудов и забот, и говорил он о них, как о добрых, старых знакомых:
– В этих местах, – указывая на обширный прибрежный участок, сказал он, – весной происходят бурные события. Вода вскипает и пенится, кругом стоит шум. Это сотни тысяч вобл, лещей и сазанов мечут икру. Много страстей, а о потомстве некому позаботиться. Иное дело – судак. Рыба прожорливая, съест и бычка и кильку, не побрезгует и ракообразными, а какое чадолюбие! Самец устроит ямку для икры и отстоит ее от любителей полакомиться ею.
Иногда чувство меры покидало умного собеседника, его сравнения и аналогии не удовлетворяли помощницу, и она не на шутку сердилась. Когда речь зашла о сыне и его разладе с отцом, Золотарев вдруг сказал:
– Простите за несколько грубое сравнение… Нечто подобное я наблюдал у рыб. У мальков белуги так рано пробуждается инстинкт хватания, что они нередко обгрызают друг другу хвосты.
Она взглянула на него с укоризной, погрозила пальцем, но ничего не сказала. Лев Яковлевич не внял ее предупреждению и был строго наказан. Он долго и интересно рассказывал о рыбах, о людях, об удивительных событиях на суше и в реке – чего не сделает молодой человек, чтобы загладить невольную ошибку, и слишком поздно обнаружил, что его не слушают. Мысли Анны Ильиничны, отягощенные заботами, перенеслись к дому, к мужу и сыну, туда, где много простора для раздумья. Всегда придет в голову что-нибудь новое или старое так обернется, что его не узнаешь. Она думала о том, как много и напрасно ее в жизни ревновали: муж к сыну, сын к отцу. Каждому из них казалось, что она отдает другому его долю ласки и любви. Теперь муж ревнует ее к будущему зятю и требует все себе – и время, и внимание, и чувства. Как это мучительно трудно! Печальная участь быть вечной миротворицей, быть доверенной мужа и детей и тратить свою жизнь на их примирение. Нелегко вести два корабля.
Самсон Данилович часто ей говорил:
– Ведь ты детям ни в чем не потакаешь, всегда рассудительна и строга, почему они так любят тебя?
Нелады в семье не столько огорчали, сколько озадачивали его. То, что происходило вокруг него, напоминало ему ребус, давно решенный по частям, а в целом лишенный всякого смысла.
– Рассердишься ли ты, прикажешь или попросишь, – не уставал он удивляться, – никто но осмелится тебе отказать. Дети вверяют тебе свои тайны, болезненно переносят твое недовольство и избегают огорчать. Я не завидую и не хотел бы быть на твоем месте, объясни только, как это тебе удается.
Муж действительно не завидовал, но ревновал, хотя ни завидовать, ни ревновать не следовало бы. Он не догадывался, как тягостны приливы тревоги и чувства неуверенности за судьбу детей. Опасаться их ошибок, дурного окружения, и в этих муках неизменно быть одинокой. Прятать горе от мужа, чтобы не дать ему повода обнаружить свою ревность или посмеяться над долготерпением жены. Она не сетует на свою судьбу и словно прирождена вести два корабля, но ей хочется иной раз, хоть на день, сбросить лямки и почувствовать себя не водителем, а пассажиром на корабле.
Больше всего огорчает ее сын, дочь – нисколько. Она, как нежная подруга, во всем откроется матери. Мать первая узнала о любви дочери и нередко вносила свои коррективы в ее переписку с возлюбленным. Когда Юлия спросила, радует ли ее счастье дочери, Анна Ильинична сказала:
– Я самая счастливая на свете, я всегда полна счастьем одного из вас.
Иначе сложились ее отношения с сыном. С ним у нее особые счеты. Она всегда покрывала его грехи, прятала дурное от мужа, вмешивалась в такие истории, что память о них поныне ей неприятна. Петр спокойно выслушивал упреки матери и пожимал плечами. После такого разговора мать избегала встреч с сыном, пока за него не вступался другой Петр – тот милый птенец, мальчишка и юноша, который всем был хорош и наполнял сердце матери счастьем. Как не простить великовозрастному шалопаю его проказы – пройдут безрассудные годы, и он снова станет таким, каким бывал прежде. Годы уходили, а желанная перемена не наступала. Уверенный, что мать всегда простит его, сын пренебрегал мнением отца, навязывал ему взгляды, противные его совести. Все труднее было матери прощать, спасительные воспоминания приходили все реже, и нарастало отчуждение. Обследование планктона, предпринятое Золотаревым, было последней надеждой матери. Пусть мера строгая, даже жестокая, но неужели сын не поймет и не уступит?
* **
В первых числах сентября Свиридов вернулся из Москвы. По своему обыкновению, он предупредил жену о приезде. Уже стемнело, когда машина остановилась у дверей дома. Как всегда, возвращаясь из командировки или дальней экспедиции, Самсон Данилович был чисто выбрит, аккуратно одет. На попытку жены взять чемодан из рук мужа последовало знакомое возражение:
– Я не привык, чтобы моя жена носила за мной чемодан.
В комнату к ней он отказался войти:
– В вагоне много курили, от меня несет табаком. Я прежде вымоюсь и переоденусь.
С собой он привез подарки и новости. Передавая дочери отрез шелковой материи, отец вспомнил, что при консулах Таурусе и Либоне римский сенат запрещал «бесчестить себя, одеваясь в шелк».
– Ты не должна придавать этому запрету значение, – добавил он.
Жене Самсон Данилович вручил несколько безделушек из обожженной глины и потребовал признать их сущими шедеврами. Оттого ли, что дед Свиридова был гончаром, или в силу другой непонятной причины, Самсон Данилович любой кусок обожженной глины готов был притащить в дом. Восхищенный очередной находкой, он жаждал одобрения. Хотя жена и сохраняла полнейшее равнодушие к предмету его страсти, муж продолжал привозить милые его сердцу безделушки.
За ужином Анна Ильинична хотела рассказать о работах Золотарева, но Самсон Данилович ни на минуту не умолкал. У него было множество новостей, и ему доставляло удовольствие говорить о них. После ужина он вспомнил о чудесном спутнике в купе поезда и стал пересказывать все, что услышал от него.
– Поразительно, как много человек этот знает, – восхищался Свиридов, забывая, сколь многому он сам научился. – Вообрази, есть такой хищник в пустыне, вроде нашего богомола… Маленькое насекомое. Природа дала этому хищнику отросток на голове с зеркальной поверхностью, отражающей солнечные лучи. Издали она кажется росинкой – как не потянуться к ней страдающему от жажды жучку!
О каждой такой новости Самсон Данилович говорил как о чуде.
Он долго еще рассказывал о своей удачной встрече в поезде, но так и не спросил, не случилось ли что-нибудь дома в его отсутствие.
На следующий день Лина Ильинична передала мужу густо исписанную тетрадь – вещественное доказательство проведенных на реке наблюдений. Лев Яковлевич не ошибся, планктона в водах завода оказалось достаточно, чтобы без хлореллы выращивать мальков. Озадачили исследователей некоторые виды рачков, обычно не встречающиеся в этих местах. По-видимому, их привлекали сюда из реки хорошо прогреваемые воды рукава, обогащенные обильной растительностью.
При первой же встрече с Золотаревым Свиридов спросил его:
– Уверены ли вы в своих расчетах? Не поторопились ли? Помощница вам досталась осторожная, но и несведущая в ихтиологии. Помните, мой друг, наука не прощает легкомыслия.
Это была дань прежнему недоверию к будущему зятю. В глубине души он был уверен, что Лев Яковлевич отнесся к делу серьезно, но не выразить сомнения не мог. Молодой человек истолковал бы это как особое к нему расположение.
– Легкомыслие и мне не по душе, – уверенно ответил Золотарев, – я сделал все, что было в моих силах.
– В таком случае напишем с вами статью. Кто усомнится в наших выводах, пусть проверяет… Да, вот еще что: удобно ли вам подписывать такую статью? Не принято как будто оспаривать установки своего учреждения.
На лице Золотарева отразилось смущение. Не то, чтобы вопрос застал его врасплох, он был к нему готов и в душе знал, что затея дорого ему обойдется. Вся трудность в том, как это выразить, пощадив в то же время чувства отца и сына. Малейшее проявление самоуверенности, неудачная интонация могли бы огорчить Свиридова.
– Не принято, конечно, вы правы – могут призвать к ответу, – без видимого огорчения проговорил он, – но я ведь не только ученый, но и гражданин.
Ответ понравился Свиридову, и он не удержался – похлопал Золотарева по плечу:
– По-моему рассудили, молодец!
– Разрешите теперь задать вам вопрос, – почтительно и вместе с тем не без смущения спросил Лев Яковлевич. – Не опасаетесь ли вы восстановить против себя сына?
Свиридов пристально взглянул на Золотарева и некоторое время не отводил от него глаз. Что значит этот вопрос? Он предвидит огорчение родителей или испугался последствий? Лев Яковлевич не казался ему малодушным, такие люди как будто доводят начатое дело до конца. О многом в те мгновения передумал Свиридов, не пришло ему только в голову, что молодой человек мог просто его пожалеть и в душе пожелать, чтобы ученый держался от конфликта подальше.
– Ведь вы не опасаетесь вызвать недовольство директора института, – язвительно ответил Свиридов. – Почему вы отказываете в мужестве другим?
– У нас ведь с институтом разногласия научные… Не то, что у вас с сыном.
Разговор начинал раздражать ученого. Молодой человек мало думал над тем, что говорил.
– Вы полагаете, что научные расхождения могут возникнуть только у вас? Неужели другие в счет не идут?
– Идут, но от того, что мы с директором разойдемся, он мало что потеряет. У вас может так обернуться, что за ничтожную провинность человек заплатит самым для него дорогим – любовью родителей.
Свиридов понял, что имеет в виду Золотарев, и, впервые почувствовав тепло его сердца, ничем, однако, не обнаружил своей признательности. Хорошо, что он такой, доброта и отзывчивость украшают человека, Самсон Данилович это запомнит. Когда-нибудь в другой раз их разговор будет доведен до конца. Сейчас преждевременно, они еще недостаточно знают друг друга.
Когда статья была написана, Анна Ильинична посоветовала мужу, прежде чем отослать статью, поговорить с сыном.
– Петя, возможно, поймет и уступит… Наш мальчик не настолько глуп.
Она назвала так сына, чтобы пробудить в муже нежные воспоминания.
Самсон Данилович не понял ни намерений жены, ни самой просьбы.
– Наша статья не имеет к нему отношения, она скорее касается меня. Я признаюсь в ней, что хлорелла не везде в хозяйстве полезна. Если уж посмеются, то надо мной – горячим приверженцем хлореллы.
В последнюю минуту она подумала, что статья сделает примирение невозможным, и попросила мужа еще раз все взвесить.
– Не забудь, что решается судьба нашего сына, мы можем его для себя потерять. Ты умный человек. Рассуди еще раз, я прошу тебя. – Она не скрывала своей тревоги, молила и упрашивала. – Лучше лишний раз обсудить и разобраться…
От молящего голоса и нежного взгляда жены Свиридову стало не по себе. Он решил было уступить и еще раз встретиться с сыном, но, вспомнив беседу на рыбоводном заводе, заколебался. Им не о чем больше говорить. Он спросил тогда сына: «Если Лев Яковлевич докажет свою правоту, ты, конечно, с ним согласишься?» Что ему сын ответил? «Доказательства Льва Яковлевича хороши для него, для меня они не годятся. Я не знаю, что такое прав или неправ, план строительства одобрен, и отменить его нельзя…»
Им положительно незачем встречаться…
– Ты не должна настаивать, – сказал Свиридов жене, – я люблю нашего сына и всегда его любил. Когда он сдавал выпускные экзамены, я бродил вокруг школы, как некогда вокруг родильного дома, когда ты рожала его.
Она подумала, что и в том и в другом случае муж это делал не ради сына, а для нее. Он был всегда слишком занят, чтобы думать о сыне…
– И сейчас, моя родная, когда мне кажется, что Петр словно свалился с Луны, – продолжал он, – и, как варвар, отвергает наши идеалы, я все еще его люблю.
Месяц спустя статья была опубликована, и вскоре на имя Свиридова прибыло письмо из Главного управления Министерства рыбной промышленности. Профессора просили дать заключение, в какой мере целесообразно разводить на заводе рачков и хлореллу.
С той минуты, как ученый решил дать такое заключение, его стали осаждать знакомые и незнакомые люди. Его просили не сводить счетов с директором филиала, не мстить ему за то, что он оставил работу в ботаническом саду. Нельзя карать человека за то, что он ищет новых путей в науке. Откликнулся и тот профессор, который одобрил перестройку завода. Он явился к Свиридову, положил объемистую папку с бумагами на стол и принялся обосновывать свое прежнее заключение.
– Наука, – сказал профессор, – всегда объективна.
– Наука – не спорю, – ответил Свиридов, – а ученые но всегда.
Профессор сделал вид, что принял это за шутку, и рассмеялся.
Самсона Даниловича это рассердило, и, чтобы не дать собеседнику обратить серьезный разговор в шутку, он с недоброй усмешкой проговорил:
– Я понимаю, когда растения хотят жить без забот и трудов. Подсыпали им фосфор, они перестали тянуть его из почвы. Знаем мы также, как с этой ленью покончить. Но когда ученые люди хватаются за то, что проще и легче, только бы не трудиться, – с такой ленью и не придумаешь, как бороться.
Профессор смущался и обиженным тоном скулил:
– Напрасно вы конфузите меня. Мое заключенно имело целью дать повод министерству утвердить планы и ассигновать средства на строительство. Взяв на себя ответственность, я не пожалел бы трудов, чтобы сделать предприятие полезным… Я надеюсь, коллега, – закончил он, – что вы это учтете в своем заключении.
Появление статьи за подписью Свиридова и Льва Яковлевича Петр воспринял как семейный заговор против него, оставил дом и переселился в помещение института. С тех пор он ни разу не был у родителей. Анна Ильинична этого не простила ему, никакие спасительные воспоминания не могли уже вернуть любовь матери к сыну. Когда Петр убедился, что его друзья и сторонники ничего не добьются, он явился за помощью к матери. Она выслушала его и голосом, в котором трезвость мысли соперничала со сдержанностью тона, сказала:
– Ты обратился по неверному адресу, автор научной экспертизы сидит за этой вот стеной. Его и упрекай в «научной непоследовательности», напомни ему о «долге и чести ученого» и, кстати, объясни, как ты эти нравственные нормы толкуешь…
* * *
Печальные признания Самсона Даниловича были восприняты Каминским с чувством тревоги и боли. Шутки и афоризмы скорее имели целью рассеять мрачное раздумье Свиридова, чем выразить душевное состояние самого Арона Вульфовича. И распекая, и высмеивая старого друга, и призывая лучше разбираться в чувствах детей, он был глубоко опечален раздорами в семье.
На другой день Арон Вульфович пришел к Юлии и долго беседовал с ней. Рассказав очередную смешную историю, он развеселил ее. Она попросила повторить.
– В этом, право, ничего веселого нет, – твердил Каминский, – чему вы смеетесь? Я подхожу к кассе платить за покупку и замечаю, что кассирша чем-то нехороша: голова клонится набок, глаза тусклы и губы вздрагивают. Кассирша, решаю я, устала и больна, надо ее чем-нибудь обрадовать. Я кладу деньги в окошечко и подсовываю лишних пять рублей. Мне и без них будет неплохо, а ей они, наверно, очень нужны. Обыкновенная история – покупатель ошибся, а кассирша но заметила, велика ли сумма… Я беру чек, хватаю покупку и спешу к выходу. Слышу, меня скликают. Оборачиваюсь, и что же – моя больная бойко меня догоняет, тычет деньги и шипит: «Растереха»!
У него и веселых и грустных истории немало. Юлия смеялась, печалилась и не заметила, как время прошло. Перед самым уходом он заговорил о хлорелле, называя ее почему-то холерой. Хороша зеленая букашка, если ей ничего не стоит отца с сыном поссорить. Послушаешь этих упрямцев и подумаешь, что каждый отстаивает науку от произвола. Па самом деле тот и другой защищает свою слепоту и амбицию. Один не хочет расстаться с привилегией сеньора, а другой воображает, что творит чудеса.
Простим Каминскому его непоследовательность, он тут же забыл, что винил того и другого, и стал утверждать, что оба правы. Нельзя осуждать одного за то, что он поставил себе целью осчастливить современников, как и не следует быть строгим к тому, кто посвятил свою жизнь потомкам. Погоревав и посердившись, Арон Вульфович пришел к заключению, что ему незачем соваться не в свое дело, и без него тут обойдутся.
С этим Юлия не согласилась:
– Вы единственный, Арон Вульфович, человек, кто может нас помирить. Поговорите с отцом, он в последнее время и мной недоволен. Я по-прежнему его люблю, но мы перестали быть друзьями. Я всегда и во всем советовалась с ним, мы были, словно подруги…
Она говорила без грусти и сожаления, живо, легко, как говорят о размолвке, каких на свете немало: досадно, конечно, но всякое бывает.
– Лев Яковлевич говорит, – продолжала девушка, – что отец тут ни при чем и все это мне кажется, но почему же я не могу, как прежде, бывало, чувствовать себя с ним хорошо? Я часто захаживала к нему в кабинет, и о чем только мы не болтали… Правда, сейчас у меня и времени нет, положительно нет свободной минуты. Лев Яковлевич сущий бродяга, он готов день и ночь бродить по театрам и кино, но музеям и выставкам, одно и то же просмотрит множество раз и не устанет. На выставке собак мы пять раз побывали, время уходит, и ничего не успеваешь сделать для себя.
Ей хотелось, чтобы Арон Вульфович ее пожалел, но хотелось и другого: пусть знает, каков ее друг Лев Яковлевич. Во-первых, он своего рода энциклопедия, ей незачем больше ходить к отцу за советом. И знает он все, и так объяснит, что никогда не забудешь. Отец часто водил ее в ботанический сад и много рассказывал о хлорелле. Тогда ей казалось, что нет ничего более занятного на свете. Наивно, конечно, ведь хлорелла только водоросль, не чета таким чудовищам, как осетр и лосось… Отец, несомненно и умней и образованней Льва Яковлевича, но в последнее время отец стал повторяться. Память подводит его… Льва Яковлевича не переслушаешь, все у него ново и занятно.
– Вы должны, Арон Вульфович, – сказала она, – его ближе узнать, такие люди встречаются редко.
Снова Каминский мог убедиться, что в огорчениях дочери виноват отец, и поспешил обрушиться на черствых, бездушных отцов. И как только их носит земля! Легкомысленные и неосмотрительные, они упиваются собственной косностью, и всюду, и везде видят несчастья. Ничто тик не изобличает несносную старость, как ее склонность к поучениям и нотациям. Кто не потерял еще остатки благоразумия, сдерживает свое несносное ворчание, а в общем они все социально опасны.
Побранив отцов и заодно почтенную старость, Каминский не оставил без назидания детей и воздал должное родителям. Девушка посмеялась над непоследовательностью доброго Арона Вульфовича и вновь вернулась к тому, что занимало ее.
– Лев Яковлевич у меня историк! – сказала она и многозначительно умолкла, выжидая, какое впечатление произвели эти слова на Каминского. – Его новая работа «Осетровые рыбы в прозе и поэзии античного мира» исключительно интересна. Он говорит, что изображения белуги и севрюги чеканились на монетах Ольвии и Пантикапеи…
Прощаясь с добрейшим Ароном Вульфовичем, она доверительно сказала:
– Лев Яковлевич удивительный человек! Он так правильно обо всем судит, что мне и в голову не приходит думать иначе.
Из всего того, что Арон Вульфович услышал, он понял: примирить отца с дочерью сможет только доверенный ее мыслей и чувств – Золотарев. Первая же беседа с ним убедила Каминского, что он не ошибся.
Они встретились случайно на улице. День выдался жаркий, знойный, воздух утомлял, яркий свет слепил глаза, и казалось, что шагающие по размякшему асфальту люди тем и заняты, что ищут, где бы укрыться от солнца. Золотарев первый увидел Каминского и направился к нему. Они поздоровались, улыбнулись друг другу и обменялись обычными фразами о здоровье, погоде, о необычайной жаре.
– Взгляните вон туда, на дымок проходящего поезда, – указывая на железнодорожную линию, по которой вдали уходил товарный состав, сказал Арон Вульфович, – вообразите, как жарко там, вглядитесь в дымок, и вы ощутите тревожное чувство пожара…
Золотарев попробовал «вообразить» и безнадежно махнул рукой.
– Нам, ихтиологам, легче себе представить шторм я штиль. Вода ведь не горит даже тогда, когда ее касается пламя заката.
Они шли некоторое время вдоль высокой стены древнего кремля и, словно уговорившись, свернули в городской парк и уселись в тени высокого клена. Арон Вульфович с удовольствием вздохнул, вытер пот с лица и сказал:
– У нас с вами большой разговор, но, как хотите, я под солнцем ни дышать, ни думать не могу. Никогда не поверю, что мои предки жили в Азии и строили пирамиды в Африке. Тут какая-то географическая неточность… Бог с ней с историей, поговорим о другом. Вы как-то мне сказали: «Хоть мы и люди разной специальности, мне кажется, что нам с вами будет интересно». Хочу это проверить на деле. Позвольте мне начать издалека.
Арон Вульфович не был спокоен, как всегда в таких случаях, неведомо на кого сердился, долго не находил места для своей палки и, недовольный, ткнул ее в песок.
– Наступает день и час в жизни девушки, – начал он, надевая соломенную шляпу на палку и легким движением вращая ее, – когда чувство привязанности к родителям, близким и друзьям слабеет, чувство словно обретает свободу. Оно может устремиться к возлюбленному, к мужу и, вновь освободившись, ринуться туда, где эта жизненная сила пригодится. Хорошо, если привязанность пойдет по правильному пути – к будущему мужу и детям, к наукам, искусству и служению человечеству. Я видел, как отвергнутая родственная привязанность ринулась в пламень революции, отдалась ей, и с тем же жаром потом предала ее… Свободному чувству, как и стихии, нужна узда. Согласны?
Лев Яковлевич не спешил соглашаться:
– Я, Арон Вульфович, не раскусил, куда вы гнете. Скажешь «да», вы, чего доброго, против меня же вашу философию повернете… Уж лучше продолжайте вашу мысль, правы будете – поддержу.
Каминский стукнул палкой по скамейке и изобразил на лице притворное неудовольствие. Шляпа упала и покатилась. Золотарев поспешил ее поднять и водрузить на место.
– Не угодно узду, не надо, – недовольным тоном проговорил Арон Вульфович, – а придержать это чувство, не дать ему причинять страдания, оградить, скажем, от него родителей, вы как, согласились бы?
Выражение озадаченности не сходило с лица Золотарева, он положительно не знал, что сказать, и в то же время опасался неосторожным ответом обидеть Каминского.
– Я думал, что вы так… рассуждаете отвлеченно, а выходит как будто всерьез. Вы кого имеете в виду? Узду ли накладывать или только придержать человека, все равно надо знать, кого именно…
Вместо прямого ответа Арон Вульфович стал рассказывать о девушке прекрасной души, отдавшей любимому свое и чужое, собственные чувства и нежность, которую дарила отцу.
Аллегория о свободном чувстве, ищущем пристанища по свету, начинала нравиться Золотареву. Все еще уверенный, что это шутка, он решил позабавиться и с серьезным видом сказал:
– Ваша «красна девица» слишком расточительна, я не одобряю ее. Привязанность к родителям – единственное утешение, которое нам остается, когда друзья и возлюбленные пас оставляют.
– Вы уверены, что это так? – с неожиданно пробудившимся интересом спросил Каминский. – Значит, и меры нужны?
– Нужны, – согласился Золотарев, – неизвестно только, какие. Накладывать узду?
– Смотря по обстоятельствам.
– Вообразите «красну девицу» с уздечкой, – звонко рассмеялся Лев Яковлевич. – Никто нам такого варварства не простит. Нельзя ли как-нибудь иначе это свободное чувство придержать? Простите, пожалуйста, мою несерьезность, – спохватился он, – случай уж очень необычный.
– Почему? – перебил его Каминский, решив, видимо, отказаться от иносказательной манеры разговора. – Случай более чем обычный. Взять бы, к примеру, вашу будущую жену… Где ей догадаться, сколько страданий она причиняет отцу? Самсон привык к ее вниманию и нежности, а она все это отдала другому, ничего отцу не оставила.
Пока длился разговор, в природе произошли перемены. По ослепительно чистому небу заходили прозрачные облака, вначале едва видимые, и лишь серебристые края выдавали их присутствие. Тихий ветерок сгонял их. Сливаясь, они мрачнели, а края все еще отливали серебром. Солнце утопало в сумрачной мгле и, покрываясь зловещими багрово-желтыми пятнами, угасало. Поблекли яркие мазки, словно полог закрыл их, нагрянул ветер, качнулись деревья и запахло грозой.
Лев Яковлевич первый заметил перемену, встал, взял под руку Арона Вульфовича и увлек его в ресторан парка.
– Никуда я вас не отпущу, – возражал он на попытки Каминского высвободиться, – сумели озадачить, извольте договорить до конца.
Золотарев внимательно выслушал грустную повесть о страданиях Самсона Даниловича и, растроганный, пожал руку Каминского.
– Я сегодня же поговорю с ней, Юлия поймет, изменится, и все пойдет по-прежнему. Вы сделали доброе дело, спасибо.
– Не спешите благодарить, – остановил его Арон Вульфович, – из вашего разговора с ней ничего не выйдет. Простые решения не всегда лучшие.
Лев Яковлевич заподозрил, что Каминский приберег нечто более неприятное, и в глазах его мелькнула тревога.
– Опять вы заговорили догадками.
– Человечество, мой друг, не любит ни простых, ни ясных понятий. Именно сложное и непонятное вернее всего убеждает и вдохновляет людей. Не случайно врачи прописывают больным лекарства, а верующие возносят молитвы на языках давно вымерших племен и народов… Чтобы изменить отношение дочери к отцу, напоминайте ей возможно чаще, какой замечательный у нее отец и какого высокого мнения вы. о нем. Девушка привыкла принимать ваши слова на веру, и ее привязанность к отцу вернется.
Оттого ли, что ожидаемая неприятность миновала или рассуждения Каминского пришлись ему по душе, Золотарев, растроганный, встал и нежно его обнял.
– Какая вы умница! Я так и поступлю, можете не сомневаться.
* * *
С некоторых пор Юлия снова зачастила в кабинет к отцу, усаживалась с книгой в удобное кресло, и так же тихо, как пришла, уходила. Она и прежде любила прикорнуть в кресле и молча наблюдать за работой отца, но это было до того, как в доме появился Золотарев. Самсон Данилович также часто бывал в ее комнате, и она, подолгу оставаясь за роялем, ловила его взгляд, исполненный удовольствия, и без устали играла. В последние месяцы дочь все реже приглашала к себе отца, и он, заслышав ее игру, приоткрывал дверь и откладывал работу. Теперь она снова уводит его к себе, отказывается слушать возражения, никто не поверит, что ему некогда и не до музыки сейчас. Все это капризы, он просто хочет, чтобы его просиди.
– Ты должен отдыхать, – настаивала девушка, – случись с тобой несчастье, нам не простят, что мы не уберегли тебя. Таких людей, как ты, осталось немного, народ ими дорожит.
Она выражала это горячо, вдохновенно, но всегда одинаковыми словами.
Однажды Юлия сказала ему:
– Мы должны считать за счастье, что живем под одной крышей с тобой.
В другой раз она попробовала выразить ту же мысль по-иному, запуталась и вернулась к прежнему варианту.
Самсон Данилович отнесся к этой перемене двояко. Ему было приятно, что дочь по-прежнему мила и нежна с ним. Далекий от мысли вникать в строй ее речи, критически относиться к каждому слову, он тем не менее чувствовал, что минувшего не вернешь. У него была возможность убедиться, что скромная и непосредственная Юлия, смелая и бесстрашная в своих решениях, разменяла свои душевные сокровища на мелочные интересы. Ее жизнь обмелела и не выходит за пределы пустой болтовни о любви и платьях.
Недавно он был свидетелем ее разговора с подругой. Ему не следовало бы слушать, ни тем более запоминать то, о чем они говорили, но все это вышло случайно… Разговор поражал своим бесстыдством: дочь поучала подругу, как привлечь любимого человека, и приводила ей примеры из собственной практики.
– Вольно мужчинам думать, что им угодно, – говорила она, – им приятно считать себя умными и серьезными, а нас недалекими – пусть. С нас достаточно того, что мы управляем ими.
На прошлой неделе она подвела мать к зеркалу, закрыла ей глаза, надела тем временем ее серьги и спросила:
– Не кажется ли тебе, мама, что они мне идут? Позволь, я их оставлю себе.
Затем оказалось, что браслеты и часики, и брошка с алмазами ей хороши. С тех пор всякий раз, когда отец видит на ней эти украшения, ему кажется, что это доспехи, в которых она с мужчинами ведет тайную войну. Жена говорит, что это девичья болезнь, с девушками так бывает. Возможно, он не спорит, но болезни бывают проходящие и затяжные, из одних организм выходит с честью, а из других – с серьезным изъяном.
Шли недели и месяцы, нежность дочери не убывала, она снова поверяла отцу свои секреты и проводила свободное время у него. Их беседы становились все непринужденнее, она рассказывала о своих больных, о новых методах лечения проказы, в разработке которых немало и ее труда. О любви и замужестве девушка судила серьезно и строго. Пет ничего ужасней, говорила она, скороспелого брака, не проверенного временем и испытанием. Многие к обмену квартир относятся более серьезно, чем к выбору друга жизни.
– Я никогда не соглашусь выйти замуж за человека, которого недостаточно знаю, прежде чем поверю в высокие качества его души.
Слова эти показались Свиридову знакомыми, он мог бы утверждать, что уже слышал их однажды. Неужели от нее? Да, да, от нее. Она говорила это той подруге, которую учила, как привлечь к себе любимого человека. Тогда эта фраза прошла мимо него, запомнилось другое, и напрасно.
Юлия уверяла, что никто не способен поколебать ее убеждения, что она вся в отца – ее чувства покорны рассудку. Но мог ли этому поверить Свиридов? Его собственные чувства слишком часто брали верх над рассудком, откуда возьмутся в ней силы себя отстоять? Дочь твердила, настаивала, и отцу хотелось верить, что она действительно тверда, чувства покорны ей. Но если это так, спрашивал себя Свиридов, кто же виноват в минувших раздорах, по чьей вине возникли они?
Отец взял вину на себя. Это он несправедливо ее осудил, приписал то, чего не было, потому что не знал свою дочь. Жена как-то сказала ему: