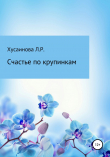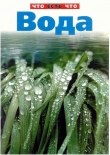Текст книги "Повесть о хлорелле"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Александр Поповский
Повесть о хлорелле

 В воскресные и праздничные дни семья профессора Самсона Даниловича Свиридова в полном составе садилась за стол. Ровно в три часа каждый занимал свое место, и всякие разговоры прекращались. Опоздавший к обеду терял право на свою долю пирога с кремом и выслушивал неприятную проповедь. Строгие правила никого не хвалили, даже самого профессора. Случалось и ему оставаться без пирога.
В воскресные и праздничные дни семья профессора Самсона Даниловича Свиридова в полном составе садилась за стол. Ровно в три часа каждый занимал свое место, и всякие разговоры прекращались. Опоздавший к обеду терял право на свою долю пирога с кремом и выслушивал неприятную проповедь. Строгие правила никого не хвалили, даже самого профессора. Случалось и ему оставаться без пирога.
В июньский воскресный день 1954 года – день рождения профессора, хоть все давно уже собрались и стрелки часов приближались к четырем, обеда еще не подавали. Ждали старого друга, любимца семьи, врача Арона Вульфовича Каминского. Пять лет его не было в городе, и впервые после приезда он собирался навестить друзей. «Папашу Каминского» здесь все любили, но из-за него опаздывали с обедом, и каждый считал своим долгом отпустить что-то едкое по адресу неаккуратных людей. Петр Самсонович Свиридов, сын профессора, подражая манерам Каминского, рассказывал, как «милый панаша» преподавал ему правила хорошего тона – не надвигать шапку на глаза, но закидывать ее назад, ходить прямо, не сгибаясь и не пошатываясь, не держать руки в карманах…
У Петра Самсоновича мягкий и тихий голос, он говорит спокойно, с явным расчетом позабавить окружающих и никого при этом не задеть. Дочь профессора Юлия, не скрывая своего недовольства опозданием гостя, с преувеличенной серьезностью добавляет:
– И еще: не есть слишком много и быстро, не наклоняться над тарелкой, не сопеть, не садиться боком, не втыкать нож в масло, не держать вилку обратной стороной…
В ее звонком мелодичном голосе нет той мягкости, которая отличает голос брата. Исполненная радости, готовом прорваться по всякому поводу, она словно любуется своей несдержанностью. Виновник ее счастливого состояния – молодой человек в черном костюме, высокий, худой, с темными подстриженными усиками и рано редеющими волосами, сидит рядом и, смущенно поглядывая на нее, комкает салфетку. Высокая черноглазая девушка, удивительно похожая на мать, не делает тайны из своих чувств. Она звонко смеется, словно вознаграждает себя за предстоящее молчание за обедом.
Особенно становится шумно, когда молодой Свиридов бережно вытягивает из кармана носовой платок и, скорчив кислую гримасу, усердно прижимает его к темени. Все узнают манеру Арона Вульфовича выражать изумление и удовольствие. Он делает это с безыскусственным юмором и простодушием.
Профессор укоризненно пожимает плечами, обводит домочадцев недовольным взглядом и решительно отодвигает стул.
– Послушаешь вас и подумаешь, что речь идет о каком-то чудаке, не очень умном, заурядном человеке, а ведь Арон – умница, человек большой души и глубокой образованности. Он превосходный гомеопат, тонкий экспериментатор и опытный диагност. Его теория механизма сердца сделала бы честь любой знаменитости. И все это им разработано в случайных условиях, на ходу. Своей лаборатории у него никогда не было… Не вижу повода для насмешек, не вижу, – несколько раз повторил он, – не одобряю.
– Но ты не будешь отрицать, что он очень потешный, – возразила дочь, поглядывая то на отца, то на мать. – Мне было уже шестнадцать лет, я кончила среднюю школу, а он с самым серьезным видом читал мне сказки Андерсена. Остановится во время чтения на забавном месте и удивляется, что я не смеюсь.
Все должны с ней согласиться, что серьезные люди так не поступают. Слов нет, Арон Вульфович премилый человек, но изрядный чудак. В ее темных глазах сверкает озорство, и губы складываются в ироническую улыбку. «Ничего не поделаешь, – говорила эта улыбка, – от правды никуда не уйдешь».
– Не стоит об этом при нем вспоминать, – заметила мать, Анна Ильинична, – он обидится. Чему удивляться, ведь он тебя на руках носил. Привык к тебе и не заметил, что ты выросла.
Мать погладила голову дочери и добавила:
– Мне тоже не очень верится, что ты уже большая, так и хочется тебе уши надрать… А есть за что, – многозначительно протянула она, и лицо ее сразу стало строгим.
Когда стенные часы пробили четыре, хозяйка дома уловила умоляющий взгляд сына – напоминание, что время уходит и нора садиться за стол. Она ответила ему сочувственным кивком головы и повторила, что до прихода гостя обед не будет подан.
– Я прошу всех, – продолжал в наступившей тишине звучать ее сдержанный голос, – особенно тебя, Петр, избегать упоминаний о его покойной жене. Из короткого разговора по телефону я поняла, что ему сейчас так же тяжело, как пять лет назад. Никаких шуток над затянувшимся вдовством, никаких легкомысленных намеков. Эта касается и тебя, Юлия, – с внушительной интонацией продолжала она. – Ты как-то позволила себе в письмо сватать ему своих подруг и шутила над его постоянством. Обиженный, он после этого долго нам не писал… Тебя, Самсон, прошу, – несколько мягче, но с тем же серьезным выражением лица сказала она мужу, – не забывать, что он очень несчастен. Скитание из города в город но принесло ему радости…
Сын поспешил поддержать мать и отца и с легким сердцем осудил себя и сестру:
– Арон Вульфович мудрый и приятный человек. Его уму и образованности могли бы позавидовать многие… Нехорошо изображать его чудаком.
Анна Ильинична одобрительно кивнула головой: умница, он вовремя умеет и себя и других остановить.
– Какие вы все строгие судьи, – напряженно прислушиваясь к шагам в коридоре, проговорила она, – себе что угодно позволяете, а к другим – никакого снисхождения…
Прежде чем она успела договорить, отворилась дверь, и в комнату вошел невысокого роста мужчина лет шестидесяти в поношенном чесучевом костюме старомодного покроя и в покоробившейся панаме, небрежно сдвинутой на затылок. На его бледном сухощавом лице резко выделялись крупный мясистый нос и толстые бесформенный губы. Заметно выступающие надбровные дуги с густыми седыми бровями делали лицо еще более некрасивым, и тем не менее в этом человеке было что-то привлекательное и даже приятное. Хороши были пышная, чуть тронутая сединой, шевелюра, крепкие сверкающие белизной зубы и трогательная улыбка – простодушная и открытая, как у юнца. Правая рука его опиралась на палку, и, передвигаясь, он чуть припадал на левую ногу.
– Ты когда-то учил нас, Арон, правилам хорошего тона, – благодушно заметил хозяин дома, – например, не опаздывать к обеду. – Он мельком оглядел гостя и добавил. – Эти правила, кстати сказать, не позволяют выходить из дому в нечищенных ботинках и обязывают следить за шляпой…
Не удостоив его ответом, Арон Вульфович поздоровался с хозяйкой дома и ее дочерью, и снова вмешался профессор Свиридов:
– Да ты совсем одичал, Арон, здороваешься с дамами, не снимая шляпы… Руку подаешь за версту, вместо того, чтобы протянуть ее в последнее мгновение… Полюбуйтесь нашим джентльменом…
Он обнял гостя, и они поцеловались.
– С приездом! Совсем приехал или на время?
Каминский усмехнулся, оглядел хозяина сверху донизу и, задержавшись взглядом на его модном костюме и ярком галстуке, сказал:
– Правила хорошего тона рекомендуют также людям определенного возраста не слишком придерживаться люды… Не будем препираться – хозяйка, кажется, намерена призвать нас к порядку.
– Садись, Арон, вот здесь, – указывая ему место за столом, сказала Анна Ильинична, – а если Самсон не оставит тебя в покое, ему придется пожалеть об этом.
Арон Вульфович взглянул на нее, и глаза его заблестели от удовольствия. «Все такая же, – подумал он, – высокая, прямая, как в дни ранней молодости, крутой белый лоб, мрачнеющий при малейшем недовольстве, темные глаза, велению которых нельзя не подчиниться, только волосы, некогда черные, посветлели. Свежий рот с суровыми складками по углам и строгие, всегда хлопочущие руки».
Угроза жены не подействовала на мужа. Обрадованный приездом старого друга, профессор продолжал прикрывать свою радость язвительными шутками.
– Как твои дела, Арон? Очень ты разбогател? – подмигивая окружающим, как бы приглашая их присоединиться к этой догадке, не унимался он. – За пять лет можно немало накопить.
– Для меня такая возможность исключается, – с серьезным видом ответил гость. – Нет такой силы, которая могла бы мне в этом помочь.
Профессор недоверчиво улыбнулся и, склонив голову на бок, развел руками. Это могло означать: «Разбогатеть немудрено, было бы желание…»
– Моему хорошему знакомому, рыбаку Андрею Ильичу Попову, помог разбогатеть обыкновенный кит, – сказал профессор, уклоняясь от укоризненного взгляда жены. – Дело было в Печенегской губе, около места, известного под названием Трифонов ручей. Занесло в тот край кита. Испуганный косяк сельди ринулся в маленькую бухту. Пока кит оставался поблизости, рыбак со своими помощниками выловил весь косяк и разбогател. История давняя, но достоверная.
Когда все уселись за стол, старый друг дома обратился к дочери профессора:
– Вы не забыли, надеюсь, бездомного и беспутного папашу Каминского?
– Вас нельзя забыть, – заговорила она, улыбаясь то гостю, то своему молодому соседу. – Уж очень запомнились ваши уроки хорошего тона. Они пригодились мне. Я перестала хохотать по всякому поводу и смеюсь, как вы советовали, только когда смешно. – Она снова улыбнулась, как бы для того, чтобы показать, чему научилась, и невольно расхохоталась. – Извините, папаша Каминский, это у меня случайно.
– Ничего, ничего, – снисходительно заметил он, – вам надо еще тренироваться… Вы, кажется, мечтали стать музыкантшей, удалось это вам? Помнится, вы недурно играли…
Он всем своим видом как бы просил извинить его, если вопрос нескромен.
Она неопределенно пожала плечами и, немного помолчав, сказала:
– Нет, я не стала заниматься музыкой. Я работаю врачом в лепрозории.
Гость удивленно обвел взглядом родителей и, словно не дочь, а они сообщили ему эту весть, спросил:
– В лепрозории? Почему?
– Надо же кому-нибудь лечить и прокаженных, – убежденно и, как показалось Арону Вульфовичу, несколько насмешливо ответила она.
Он был озадачен ее спокойным ответом и сочувственным молчанием родителей.
– Надо, не спорю, – согласился он, – но молодым девушкам, не в пример нам, старикам, есть с кем посоветоваться.
Глаза Юлии вспыхнули от удовольствия, ей было приятно смущение этого солидного человека. Мысль о том, что ему придется изменить свое мнение о ней и даже, пожалуй, похвалить ее, – придала голосу девушки озорное звучание:
– И папа, и мама, и Лев Яковлевич считают, что я поступила хорошо.
Она бросила взгляд на высокого молодого человека, имя которого только что назвала, и, когда он кивком головы подтвердил, что это действительно так, – счастливо улыбнулась.
Старый врач подумал, что проказа не более опасна и заразна, чем рожа, скарлатина, что нет оснований считать лепрозорий более угрожающим местом, чем холерный барак, и не без смущения сказал:
– Они правы, конечно… Вы, пожалуй, поступили хорошо. – В этом признании слышалась грусть о юной жизни, ступающей смерти наперекор, и упрек суровой природе, требующей от нас порой слишком тягостных жертв, – Надеюсь, и вы не забыли меня, – продолжал гость, обращаясь к молодому Свиридову, – я много слышал о вас и о ваших успехах в науке.
– Вы раньше говорили мне «ты», – напомнил ему молодой человек, – так, мне кажется, лучше и проще…
Арон Вульфович наморщил лоб и с глубокомысленным видом задумался.
– Отвык, что поделаешь… да и ты уже не тот, как-никак – ученый. Мне писали о твоих замечательных работах, некоторые из них я читал. Особенно хороши опыты над кавказскими бамбуками, интересна история их спасения от гибели… Большая удача, – причмокивая от удовольствия губами, заключил он, – смело, умно и весьма поучительно.
– Неужели я тебе об этом писал? – спросил профессор, с интересом следивший за их разговором.
– Зачем? – притворно нахмурившись и капризно выпятив губы, спросил Арон Вульфович. – Я прочитал его статью в ботаническом журнале… А ты, мой друг-мечтатель, чем занят, кого собираешься спасать? – лукаво подмигнул он отцу и поощрительно улыбнулся сыну.
Профессор не спешил с ответом. Слишком развязными показались ему тон и манеры Каминского. Так ли, между делом, интересуются работой ученого? Непутевый чудак походя задает вопросы сыну и дочери, одного хвалит, другую озадачил и, чтобы никого не обидеть, заодно поинтересовался делами старого друга.
– Мы все увлечены хлореллой, – ответил сын, опустив глаза и избегая глядеть в сторону отца, – вы слышали, вероятно, о ней. Ученые Европы и Америки серьезно ее изучают. В нашем институте хлорелле придают большое значение…
– Погоди-ка, погоди, – перебил его Арон Вульфович, – я об этой хлорелле знаю не очень много. Объясни толком, почему она вдруг пришлась по сердцу рыбоводам?
Лицо его выражало неподдельный интерес и удивление. Никто, глядя на него, не поверил бы, что он притворяется, говорит одно, а думает другое. Он слышал, конечно, о хлорелле, отлично знал, чем занят его друг. Слышал, знал и все-таки выжидал ответа.
– Они хотят кормить хлореллой мельчайших рачков, – вместо сына ответил отец, – а этими рачками кормить рыб.
Петр подтвердил это кивком головы и улыбкой.
Ответ но удовлетворил гостя.
– Почему «они», ведь Петр говорит, что вы заняты общим делом?
– Я этого не говорил, – спокойно возразил профессор.
– Папа хочет сказать, что мы с различных точек зрения подходим к хлорелле, – со снисходительной любезностью разъяснил молодой человек.
– И это неверно, – сухо произнес ученый.
– Мы поговорим об этом после обеда, – примирительно предложил сын, – согласны, папаша Каминский?
Подкупающие манеры молодого человека и его взгляд, исполненный трогательного расположения к гостю, тронули сердце Каминского, он принял сторону сына и с жестом недовольства отвернулся от отца. Анна Ильинична, которая с нетерпением ждала конца разговора, хотела что-то сказать, но Арон Вульфович опередил ее:
– Повезло тебе, Анна, с сыном. – Он многозначительно поднял указательный палец кверху и повторил: – Очень повезло.
Она искоса взглянула на сына и холодно сказала:
– Ему больше повезло с матерью… Довольно стрекотать, будем обедать.
Это значило, что, согласно обеденному ритуалу, за столом должно наступить молчание.
– Погоди, мамочка! – вскочив с места и потянув за руку своего соседа, попросила дочь. – Позвольте, Арон Вульфович, представить вам: мой друг Лев Яковлевич Золотарев, ихтиолог по профессии и призванию. Полюбите его, он этого стоит.
Каминский встал, любезно поклонился и крепко пожал руку молодому человеку. Он скользнул взглядом в сторону профессора и его жены, но оба, занятые делом, этого не заметили. Ученый засовывал салфетку за воротник и недоумевал, почему она сегодня не держится там, где всегда так хорошо держалась, а жена с увлечением расставляла тарелки и раскладывала салфетки.
– Я много слышал о вас хорошего, – непринужденно, но с достоинством произнес молодой человек, – Юлия любит вас, значит, буду любить и я…
– Спасибо, – невольно поддавшись его тону, сердечно ответил Каминский.
– Хотя у нас с вами разные специальности, – с тем же уверенным спокойствием продолжал молодой человек, – мне кажется, что нам будет интересно.
Он учтиво поклонился и отошел.
Подали обед, и все сразу умолкли. Бесшумно вносили и уносили блюда, обеденный порядок, освященный временем, ничем но нарушался.
Каждый был занят собой, только хозяйка дома думала обо всех, о своих и чужих, а забот у нее было много. У сына с некоторых пор появилась привычка – катать хлебные шарики во время еды. Он и сам этой привычке но рад, знает, что отцу она неприятна, и благодарен матери, когда она останавливает его. Дочь и за едой не очень-то спокойна. Вынужденная молчать, она бросает многозначительные взгляды на Льва Яковлевича, чему-то усмехается и не замечает, что слишком громко стучит ложкой по тарелке. Муж тоже сегодня неспокоен, он все еще не поладил с салфеткой – она решительно не держится у него… Лев Яковлевич уткнулся в тарелку, низко склонил голову и, вероятно, о чем-то важном задумался. Ей слышатся его слова, сказанные Каминскому: «Юлия любит вас, значит, буду любить и я». Хорошо сказано, умно и тактично… Арон Вульфович как будто расстроен, он, должно быть, уже кое-что понял. От него ничего не скроешь.
Когда убрали со стола, Самсон Данилович побарабанил пальцами по деревянному очешнику, прошелся по комнате и, усевшись около своего друга, сказал:
– Пора тебе начать оседлую жизнь. Что ты бродишь из города в город?
Сочувственный тон не был рассчитан на признательность, в нем отчетливо звучали нотки упрека и неодобрения. Вместо ответа Каминский скорчил унылую мину.
– Кому что нравится, Самсон, – подделываясь под тон друга, проговорил он, – тебя из этого каменного мешка не выкурить, а я бы не стал в нем жить. Ну что тут хорошего? Пять клетушек и крошечная кухонька, окна куцые, в частых переплетах, ни дать ни взять, – девичьи светелки. Уютный полумрак и гробовая тишина. Потолки невысокие, зато стены толстые и выемки в дверях глубокие. Солнцу эту кирпичную кладку не прогреть, а морозу сквозь нее не пробраться. Оттого здесь зимой жарко, а летом прохладно. Только и утешения.
– Ты рассуждаешь, как цыган, – делая вид, что принял эти рассуждения всерьез, укоризненно произнес профессор. – Не нравится тебе такой дом, найди другой. Человек должен жить оседло.
– Не требуй от меня невозможного, – с театральной интонацией и драматическим жестом проговорил Арон Вульфович. – Я на положении беспаспортного, ни один город не окажет мне гостеприимства. Оседлость предполагает свое жилище, а у меня его нет. В лучшем случае я располагаюсь под чужим кровом. Без этой сомнительной оседлости на работу не берут. Скажи мне кто-нибудь, что в Минске или Пинске меня ждет квартира, я поеду туда… Какая цена человеку, не имеющему собственного угла?
Ни комическая мина, ни лукавый огонек в глазах не смогли затмить скорбного звучания голоса. Неуверенный и грустный, он поведал, что не Арон Вульфович, а другие повинны в его блуждании по свету.
– Ты напрасно оставил дом и город после смерти Бэллы, – сказал Свиридов и тут же пожалел, что затронул мучительную для друга тему. Укоризненный взгляд жены запоздал, фразу пришлось докончить: – Я понимаю, тебе было больно, твоя жена была человеком редкой души, но бросить дом и друзей, уехать на целых пять лет было крайне неосмотрительно.
Самсон Данилович хрустнул пальцами – знак его недовольства собой – и виновато взглянул на жену.
– Мне было тогда не до расчетов, – со вздохом произнес Каминский. – Надо иметь мужество вместе с горем хоронить и радости, отказаться от всего, потому что в жизни ничто уже не понадобится.
Разговор принимал невеселый оборот, и хозяйка дома поспешила вмешаться:
– Не сердись на него, Арон, – проговорила она, бросая сочувственный взгляд на гостя и осуждающий – на мужа, – он и сам не рад тому, что сказал. В твоем состоянии я поступила бы так же – бросила бы все и сбежала на край света.
– И я, – горячо поддержала ее дочь, – сломала и сожгла бы все близкое, дорогое и исчезла бы навсегда.
Арон Вульфович причмокнул губами и, растроганный, отвесил девушке поклон.
– Спасибо за сочувствие, но все-таки жечь и ломать не стоит. Не нам, так другим пригодится…
Чтобы прекратить неприятную беседу, профессор взял под руку гостя и увел к себе в кабинет.
* * *
В небольшом тесном кабинете, увешанном портретами ученых, уставленном дубовыми книжными шкафами и тяжелыми резными этажерками, друзья сели возле огромного старинного письменного стола и возобновили беседу.
– Знакома тебе эта картина? – указывая в окно, спросил профессор. – Припоминаешь или забыл?
За окном лежал крошечный квадрат, вымощенный каменными плитами и огражденный ветхим забором. За покосившимся сараем была видна улица – унылый ряд деревянных домов. Серые, некрашеные, но с огромными окнами и ставнями, которые служили как бы укором, «куцым окнам в частых переплетах».
– Там прежде стоял дубовый частокол, – указывая на левый угол двора, продолжал профессор, – ты перелезал через него. Отец Бэллы не любил тебя, не называл иначе как шалопаем и уверял, что ты скверно кончишь…
Арон Вульфович глядел в окно, теребил седеющую шевелюру и улыбался.
– Пророчество не сбылось, старик слишком поспешил с заключением, а забор все-таки дорого мне обошелся: я сломал ногу… Что поделаешь, любовь, говорят, требует жертв.
– Бэлла стоила того, чтобы ее любили, – участливо проговорила вошедшая Анна Ильинична, – ты не должен жалеть о том, что случилось. Если бы не это несчастье, вы не поженились бы, ее родители тогда сразу же уступили.
Хозяйка дома нарушила запрет, который сама же установила. Наступило неловкое молчание. Гость не спешил с ответом, а смущенные хозяева не решались продолжать разговор.
– А ведь отец Бэллы и тебя, Самсон, не любил, – пересилив горечь воспоминаний, сказал Каминский. – Он называл тебя «недотрогой», «фантазером» и не понимал, как могу я с тобой дружить. Все, как видишь, запоминается, и хорошее и плохое, хотя прошло много лет… Да, я чуть не забыл, сегодня, кажется, день твоего рождения… Сколько же тебе, неужели шестьдесят? Ну да, ведь ты на два года старше меня… Дай, я по этому случаю тебя поцелую.
Они нежно обнялись и расцеловались.
Анна Ильинична смотрела на них и думала о муже. В последние годы он заметно постарел, все чаще засыпает за книгой и микроскопом, жалуется, что ему трудно на чем-нибудь сосредоточиться. Малейшее волнение надолго выводит его из равновесия, после чего он с трудом приходит в себя. По сравнению с ним Арон выглядит крепышом. Она любила мужа, и бодрый вид Каминского невольно вызвал у нее чувство, похожее на зависть.
– А где ты этого рыбовода Попова подцепил? – вспомнив недавний разговор за столом, рассмеялся Каминский. – Ты по-прежнему завязываешь знакомства на улице и всему, что ни скажут, веришь? Я так и подумал, когда выслушал сказку о рыболове, который по милости кита разбогател на сельдях… Ты послушала бы, Анна, что он рассказывал о цыгане. Тот, оказывается, раскрыл ему тайну, как скверную лошадь выдавать за хорошую. Оказывается, достаточно напоить ее водкой. Возбужденная, она по стоит на месте и несется, как ошалелая.
Свиридов улыбался. Ему нравились эти знакомства в автобусах, трамваях и с многочисленными посетителями ботанического сада, где он ведет научную работу… Ему приятны встречи с людьми различных профессий, интересны беседы с ними. Ни в одной книге того не прочтешь, что они знают. Не будь этих знакомств, он многого, вероятно, не знал бы. Он рассказывает об этих людях жене, и ей они тоже кажутся интересными.
– Вообрази такой случай, Арон. Из окна моей теплицы в ботаническом саду я вижу частенько молодую пару, видимо мужа и жену. Они садятся на велосипед, увешанный свертками и корзинками, он у руля, она на раме, и уезжают. Время рабочее, куда их несет? Вышел я как-то и спрашиваю: «Разрешите узнать, куда держите путь?» – «На охоту», – отвечает он. «Без ружья?» – «Ружье, – говорит его спутница, – у нас на месте припрятано». Разговорились, и чего только я не узнал! Ты поверишь, что беляк, настигнутый хищником, ложится на спину и отбивается лапами? Выходит, что заяц не так уж труслив и до последней минуты не сдается. Ведь нечто подобное бывает и с нами: сколько людей, беспомощных с виду, на войне оказались героями! Разберись, где граница слабости и силы. Или вот еще другое. Молодая утка в минуты опасности по привычке прячется и ныряет, забыв, что у нее крылья… Есть ведь и люди такие: им бы только крыльями взмахнуть, до неба взовьются, а они в щелку забились, молчат…
Анна Ильинична смотрит на мужа и вспоминает, каким он был, когда они встретились впервые. Невысокий, но стройный, черноволосый, с серыми, отливающими зеленоватым блеском глазами. Он был узок в плечах и необыкновенно худ. Милая, добрая улыбка очень шла к его смуглому лицу. Он и сейчас ей кажется таким, только виски побелели и поблекли глаза. Очки и микроскоп истомили их, и взгляд стал рассеянным, усталым. Как много значит выражение глаз! Муж кажется ей порой растерянным, беспомощным. В прошлом он каждый год отправлялся в экспедицию, бывал в Средней Азии, Сибири, на Урале и возвращался окрепшим и загорелым. Загар оставался до следующей весны. Последние десять лет он никуда не ездит, все время проводит в лаборатории или у себя в кабинете. Загар давно сошел, зной и холод не обжигают больше лица, и оно поблекло. Эту бледность теперь ничто не изменит: ни ветер, ни солнце, ни зной.
Арон Вульфович все еще смеется, наивность друга смешит его: профессор упрям и легковерен, как дитя. Анна Ильинична готова с этим согласиться.
– Совсем недавно он завел знакомство с пастухами, – рассказывает она, – и мои знания об овцах значительно пополнились. Я узнала, что овцы близоруки, а козы – дальнозоркие поводыри. Именно поэтому их ставят впереди овечьего стада… Узнала я также, что есть такой овод, который впрыскивает семена своего будущего потомства в ноздри овцы. При виде его испуганные животные топают ногами, сбиваются в кучу и пригибают головы к земле…
Она не осуждает его, наоборот, ей всегда это нравилось в нем. Надо же быть таким жадным к жизни! Все его занимает и волнует. Ничто из услышанного не пропадет, все пригодится. На лекциях он не забудет рассказать студентам о козах и овцах, о беляке и оводе…
«Да, он все такой же, – нежно поглядывая на мужа, продолжает она размышлять, – нисколько не изменился. Ему по-прежнему некогда, нет свободной минуты, впереди великая цель, ей одной принадлежит его жизнь. Во имя этой цели он, уезжая в санаторий, прячет в чемодан микроскоп и даже мольберт. Там его, конечно, разоружают, и он, вернувшись домой, дает себе слово никогда в этот санаторий не ездить. И в гостях он не остается без дела – осмотрит книги в шкафах сверху донизу, переберет фотографии, зарисовки, заглянет в чужие рукописи… И гулять ему некогда. Года два занимал его испанский язык, лет пять – скандинавские, а сейчас он изучает японский… «Не люблю, – говорит, – чужих переводов, в них ошибок тьма…»
Обменявшись с мужем нежной улыбкой, она деловой скороговоркой закончила:
– Полагаю, что вы тут без меня не поссоритесь… В этом доме ведь только и стоишь на часах.
Ее притворная усмешка не смягчила впечатления от сказанного. Друзья переглянулись, и один из них понял, что за этими словами скрывается грустная правда, одна из тех, от которой ни улыбкой, ни гримасой не отделаться. Внезапная перемена на лице профессора, его виноватый и растерянный вид подтвердили подозрения Арона Вульфовича, и он промолчал.
Прошло немного времени. Каминский успел перелистать глубокомысленный трактат о генетике, заглянуть в объемистый гербарий и напеть себе под нос какую-то песенку. Свиридов задумчиво глядел в окно.
– Ты счастливец, Самсон! У тебя жена, и какая! Дети – один другого лучше, а вот у меня никого нет! Есть ли что-нибудь страшнее одиночества? – с глухим вздохом закончил он.
Свиридов, не отрываясь от окна, задумчиво сказал:
– Ничего, конечно, страшнее нет, но бывает и так – людей вокруг тебя много, все близкие, родные, а ты одинок.
Он поднял голову, и Каминский прочел на его лице тревогу и боль. Каминский знал своего друга, горячего, страстного, но скупого на слова, и был уверен, что профессор ограничится этим коротким признанием…
А жаль! По всему видно, что ему сейчас нелегко.
– Двадцать лет я выступал на заседаниях ботаников, – неожиданно продолжал Свиридов, – знал, что никто из них меня не поймет, никому нет до меня дела. Молча выслушают, пожмут плечами или кто-то с места посмеется: «Опять Свиридов о хлорелле заладил, и не надоест ему…» Уйдешь после такого заседания спокойный, уверенный, точно все проголосовали за тебя… Не все согласны, не надо, а я, Свиридов, утверждаю, что хлорелла – наше богатство. Я заранее знаю их ответ: нам хлорелла ни к чему, земли у нас много и хлеба хватит на тысячу лет… Пусть ищут в хлорелле спасения те, у кого много ртов и мало земли… Двадцать лет не могли мы столковаться, я был один, но отнюдь не одинок. С горя я ушел в ботанический сад цветы разводить. Время оказалось на моей стороне, со мной согласились. Я изучаю хлореллу и кое-что уже понял в ней и именно сейчас, когда я добился своего, я чувствую себя одиноким.
Арон Вульфович отвел глаза от опечаленного друга и с удивлением увидел за окном у забора огромный разлесистый клен. Его не было там, Каминский мог бы поклясться, что видит это дерево впервые. Чем больше Арон Вульфович глядел на мощные, уходящие ввысь ветви клена, тем труднее ему было отвести от них глаза. С некоторых пор предчувствие чего-то недоброго, печального словно вспугивает его мысли, и, встревоженные, они готовы куда угодно исчезнуть, только бы отодвинулось испытание. Вот и сейчас – надо бы расспросить, успокоить друга, а взгляд тянется к вершине клена, тонет в его листве. Это началось с ним недавно, после сердечного приладка. Измученный ли мозг так щадит себя или только ограждает исстрадавшееся сердце, – кто в этом разберется?
– Поговорим спокойно, – предлагает Каминский. – Что-нибудь случилось? Выкладывай, пожалуйста, не тяни. – Заметив, что Свиридов вынул из ящика папиросу, Арон Вульфович впадает в безудержный гнев. – Ты опять закурил! Десять лет продержался, и на вот… Да у вас тут все перевернулось!
Он решительно встает, стучит палкой об пол и готов уже не на шутку рассердиться, но в последнее мгновение сдерживает себя.
– Да, перевернулось, – с горькой усмешкой повторяет Свиридов. – Я несчастен, мой друг, самым настоящим образом.
А рои Вульфович был прежде всего врачом. Вид страдающего человека будил в нем сочувствие и напоминал о долге облегчить его страдания. Он повторил про себя мудрое поучение медиков: «Прежде всего – не вредить», и сразу же заговорил спокойно:
– Неужели дочь тебя огорчает? Я заметил, как она, взглянув на тебя, переменилась в лице. Что у вас произошло?
Это был анамнез врача – строгий розыск причин, вызвавших страдание. За первым вопросом последуют другие, пока источник несчастья не будет открыт.
– Ее отняли у меня, отняли самое дорогое и родное, – склонив голову и закрыв лицо рукой, жаловался Свиридов.
Каминский никогда не видел своего друга в таком состоянии. Куда девались его сдержанность, искусство владеть собой? Положение осложнялось, и снова Арон Вульфович, следуя мудрому поучению медиков – «врач может не помочь, но утешить обязан», – с трогательной кротостью спросил:
– Кто отнял ее у тебя? Что ты говоришь, опомнись!
– Я не узнаю ее, – не поднимая головы и не глядя на своего друга, продолжал Свиридов. – Она и ласкова и внимательна, но не принадлежит уже нам. Не та Юлия. То была милая, скромная девочка, послушная, нежная, все расскажет, расспросит, не было у нее тайн от меня. В трудную минуту, бывало, подсядет и не отойдет, пока мне не станет легче. Один ее вид успокаивал мою душу. То, чего не могла добиться жена, дочь легко от меня добивалась. Она никогда не была развязна и не льнула к своим друзьям на глазах у родителей… Не любит она нас, и мысли и чувства ее не с нами. Сомневаюсь, чтобы ее избранник стоил ее. Кто бы он ни был, – несколько сдержанней закончил Свиридов, – никто не дал ему права лишать нас счастья.