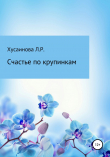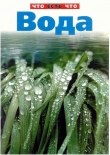Текст книги "Повесть о хлорелле"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Речь молодого человека звучала спокойно, уверенно, лицо отражало непреклонную решимость. Свиридов все еще недоверчиво слушал его.
– Не могу же я, согласитесь, выступить против вас, – закончил Лев Яковлевич, – не поговорив с вами.
– Я вам не помеха, – уже более спокойно ответил ученый, – действуйте так, как велит вам ваша совесть.
Прежде чем уйти, он еще раз испытующе оглядел собеседника и уже без всякой неприязни спросил:
– Кто вам сказал, что я того мнения, будто хлорелла в рыбоводстве везде одинаково нужна?
Лев Яковлевич болезненно усмехнулся: неужели ученый откажется от своих слов?
– Я прочитал это в статьях Петра Самсоновича… Ведь вы не возражаете против них.
Свиридов беспомощно развел руками и уже у самых дверей сказал:
– Ученый должен быть государственным человеком, не мириться с расточительностью, хотя бы из-за этого пришлось рассориться с родным отцом.
* * *
Беседа с Золотаревым глубоко озадачила Свиридова. В ушах звучала его мужественная речь, теплая и искренняя. «Меня учили быть верным науке, не сомневайтесь, я выполню свой долг». Кто бы подумал, что он такой? Нелегко, видно, было ему решиться на это. «Против правды не пойду… Что бы со мной ни случилось…» Так и надо, только так! Молодец!
На пристани Свиридов не застал уже сына и с первым рейсовым катером отправился на завод. Маленький катер с оглушительно шумным мотором, испачканный нефтью и глиной, лавируя между пароходами и баржами, пустился вниз по реке. Свежий ветерок развеял жар полуденного солнца, и грохочущее суденышко, окутанное прохладой, стремительно заскользило по воде.
Свиридов уселся на корме, но вскоре покинул свое место. Ему хотелось обдумать предстоящий разговор с сыном, а сидевшие подле него рыбаки затеяли нескончаемый спор. Один во всю силу своих легких кричал, что сазан «пакость, каких мало», а другой, стуча кулаками о палубу, твердил: «Сазан, когда он икряной, – смирный».
Самсон Данилович сел на ворох канатов у носа, облокотился, опустил голову и закрыл глаза рукой. Так ему легче сосредоточиться, отвлечься от окружающих. Итак, решено, сын должен оставить его в покое и не публиковать безответственную ложь. Пусть занимается собственным делом, у него достаточно своих забот. Другой на месте Петра прислушивался бы к голосу своего помощника – дельного человека, готового исполнить свой долг. Не безумие ли идти напролом, когда так очевидна истина? Лев Яковлевич – вполне положительный человек, незачем спорить с ним… Говорят, яблочко падает недалеко от яблони. Льву Яковлевичу есть у кого поучиться, у него замечательный отец. Профессора Золотарева никто не упрекнет в беспринципности. Его выступления у гидрохимиков – научное событие. Сын и лицом похож на него, и голос такой же, и манеры – вылитый Яков Степанович Золотарев… Анна рассказывает любопытные вещи о нем – двадцатилетний Лев Яковлевич чуть не получил звание профессора, ему бы присудили степень доктора, не будь он так молод.
Самсон Данилович вдруг обнаружил, что не думает о сыне, не готовится к разговору с ним, и дал мыслям другое направление.
Переоборудование завода бесполезно, Петр должен это учесть и не толкать своих друзей на крайности. Хлорелла тут ни при чем, долг ученого – оберегать научную идею от неудачных экспериментов… «Хороша хлорелла, – скажут потом, – ни людям, ни рыбам от нее пользы нет». Спасибо Льву Яковлевичу, теперь для всех очевидно, что переоборудование завода к добру не приведет. Лев Яковлевич может рассчитывать на его, Свиридова, поддержку, молодой человек безусловно ее заслужил.
Снова он отвлекся от дела, ради которого пустился в путь, но теперь ему хотелось думать о другом.
Чем больше он вспоминал беседу с Золотаревым, тем более она ему нравилась. Анна не раз говорила, что молодой человек умен, любезен и добр. Что ж, она не ошиблась. Юлия вовсе считает его совершенством и готова вцепиться в того, кто скажет о нем плохое. Возможно, и он давно подружился бы с ним, но поведение дочери, ее слишком откровенное обожание Льва Яковлевича казалось для чувства родителя невыносимым. Юлия всегда была послушна, то, что стало с ней сейчас, – результат чужого влияния… Лев Яковлевич, возможно, и приятный человек, но достаточно ли этого, чтобы проникнуться к нему чувством, подобным чувству отца к сыну или дочери? Любезных и умных людей приятно принимать, бывать у них дома, но жить рядом с ними, мириться с их пребыванием в собственном доме – есть ли большее наказание на свете?
Анне Ильиничне это и в голову не приходит. Послушаешь ее – всюду мир и благодать. Дочь по-прежнему добра и мила, ее увлечение никому не мешает, со Львом Яковлевичем они чудесная пара, пусть любят друг друга на здоровье. Влюбленной девушке свойственно отражать мысли и чувства своего друга. Разве ее мать вела себя иначе? Не утверждала, не поддерживала великие и малые заблуждения мужа? Анна умеет добиваться своего, но на этот раз Свиридов ей не уступит, дом – его обитель, куда вход недозволен чужим.
Старый, потемневший от времени дом с маленьким садиком, с глухими железными воротами под низкой аркой среди высоких стен соседних домов, обросших диким виноградом, ему особенно дорог. Здесь прошли последние двадцать лет его жизни, сюда его когда-то, до отъезда в Одессу, привезла молодая жена. Каждый угол здесь полон счастливых и грустных воспоминаний. Из окна кабинета он мог видеть своих ребят среди детворы и позже – среди более старших сверстников. Многое из тех лет запомнилось, многое забыто и полузабыто. Некоторые события словно исчезли, осталось нечто неуловимое, как бы оболочка их. Иной раз кажется, что они снова вернутся, а порой думается, что вспоминать нечего, это бродит в ном забытая мелодия, отголосок давно минувших дней. Он рад этим свидетелям былого, как вернувшимся из изгнания друзьям…
Дом был полон реликвий. Одни чтимы давно, другие стали чтить недавно. Много их было в громоздких и выцветших от времени шкафах. Жена твердила, что шкафы пора заменить другими, слишком много места они занимают, Свиридову казалось, что в других шкафах эти книги со своими и чужими пометками, купленные и доставшиеся ему вместе с домом, утратят свою прелесть, как утрачивают ее цветы, перенесенные из оранжереи на прилавок. Со шкафами уйдет некое обаяние и многое такое, чего не учтешь.
Другие реликвии хранятся в старом комоде. Там в бархатном мешочке, на дне среднего ящика, лежат милые книжки – подарки родителей в дни именин…
В доме не всегда было благополучно, не всегда было Свиридову в нем хорошо. В суровые годы революции угля и дров не хватало, и печей не топили, их заменял чугунный казанок. Подвешенные трубы дымили, от копоти и сырости штукатурка на стенах мрачнела, и сети черной паутины гнездились по углам.
Дом со временем отделали, и жильцов «уплотнили», вселили к ним чужих людей. То было горькое время для Свиридова. Он только что вернулся из Одессы, переставил шкафы, расставил книги, и вдруг – нежданная беда: у него десять метров площади сверх нормы. Два года бок-о-бок жили две семьи, и не было у них мира, как не бывает его в гнезде между обитателями и незваными пришельцами.
Шли годы. Тесное жилье с крошечными окошечками, куда скупо проникает свет, стало храмом – хранилищем реликвий. Только старость так умеет цепляться за прошлое, чтить то, что давно ушло.
Как совместить готовность рушить все, что стесняет науку на земле, и священный трепет перед устоявшимся укладом в стенах собственного жилища? Что привлекало ученого в этой темной оболочке, или только в ней он мог мыслить и творить?
Давно дом стал его цитаделью. За стенами шла горячая борьба, она воодушевляла его, вселяла надежды и утомляла. Измученный, усталый, он возвращался под кров, где новые замыслы его укрепляли. Здесь готовились защита и нападение, обдумывались планы отпора противнику. Как не привязаться к дому, где крепнет вера, закаляется и рождается утешение в тягостный час? Тут он был счастлив и спокоен. Книги умножали его силы, сон и покой их обновляли. В сравнении с тем, что он находил в доме, чего стоили развлечения и шумное веселье друзей? Он скучал там, где другие развлекались, уставал от бесплодной болтовни и все реже покидал дом. Анна Ильинична примирилась с вынужденным затворничеством и не жаловалась, что это тяготит ее.
Его тесный мир ничего не вмещал, кроме работы. Не оставалось в нем места и для детей. Он не знал, с кем и как они проводят время, их горести и радости не доходили до него. Отец редко заглядывал в комнату дочери и не заметил, как маленькая девочка стала большой, зато увидел ее великовозрастных друзей и не скрыл по этому поводу своего недовольства. Мать отдала дочери свою комнату с отдельным выходом во двор, и отец еще реже стал встречать дочь. Появление Льва Яковлевича в доме грозило развеять устоявшийся покой.
…Катер давно оставил русло Волги и скользил по рукаву, заросшему тростником и ряской, а мысли Свиридова все еще блуждали там, где прошлое сливается с настоящим и причина становится опорой для следствия. Кругом расстилались заводи, подернутые хвощом и кувшинками, камыш с легким шуршанием касался бортов, роняя сверкающие брызги.
Катер тихо ударился о мостки, и гулкое верещание машины заглохло. Самсон Данилович, балансируя на пловучих деревянных мостках, вступил на берег, поднялся на крутой холм и оглянулся. Он был здесь впервые, и оголенные холмы, с которых тракторами возили глину для строительства, отсутствие растительности, если не считать высокой лебеды, неприятно поразили его.
Свиридов обошел широкую трубу, которая всасывает воду для водохранилища, и пошел вдоль одной из капав, сообщающихся с прудами.
На дне одной из них плавала самка-осетр. Накануне ей впрыснули жидкость, ускоряющую вызревание икры, эту икру оросят извлеченными у самца молоками и дадут начало оплодотворению. Выклюнувшихся, затем подросших мальков выпустят в пруд, а позже – в реку, где они пополнят рыбное население Волги.
Такого рода заводы стали особенно нужны с тех пор, как русла Волги, Дона, Волхова и Днепра перекрыты плотинами и так называемые проходные рыбы – белорыбица, лосось, осетр, семга – лишились возможности достигать верховьев рек, чтобы там размножаться. Искусственное разведение рыб оказалось делом нелегким, а труднее всего было вскармливать мальков, насыщать пруды питанием. Одни предлагали удобрять водохранилища минеральными солями, навозом, зеленой растительностью. В такой среде размножаются мельчайшие животные – основной корм мальков, возникают жизненные условия, схожие с теми, какие бывают в реке. Предлагали и нечто другое. Какой смысл совмещать три различных процесса в одном водоеме: удобрение воды, выращивание в ней живого корма для мальков и уход за рыбой? Где уверенность, что, удобряя водную среду, этим не причинишь рыбам вреда? Известно, например, что чрезмерное размножение водорослей в пруду хоть днем и обогащает среду кислородом, зато ночью так исчерпает этот кислород, что чувствительные к подобным переменам мальки задыхаются. Но лучше ли упростить эту систему: в одном водоеме с помощью хлореллы выращивать живой корм – рачков, а в другом бассейне – рыбу. Вырастив отдельно и накопив зеленую массу хлореллы, запускать ее для рачков в бассейн, как сено в кормушку коровника, а размножившихся рачков переносить в водоемы с мальками.
По этому плану предполагалось перестроить рыбоводный завод.
* * *
Встреча Свиридова с сыном произошла в крошечной конторе, служившей одновременно кабинетом для директора рыбозавода, а также местом, где рабочие могут покурить и побеседовать до начала смены. Здесь было всегда жарко и душно, хотя окна были настежь раскрыты.
Сын встретил Самсона Даниловича со смешанным чувством удивления и робости. Он горячо его любил и, хотя догадывался, что приход отца связан с чем-то малоприятным, обрадовался дорогому гостю. Петр взял его обеими руками за локти и улыбнулся. На мгновение показалось, что, вопреки своей сдержанности, он по-сыновнему обнимет отца и скажет что-то нежное.
– Спасибо, что заглянул, пойдем. Я первым делом угощу тебя оладьями. Столовая тут рядом, и, кстати, я голоден.
Они вышли из конторы, прошли мимо строящегося кирпичного корпуса и вошли в деревянный барак. На них пахнуло подгоревшим тестом и кислой капустой. Буфетчица подала чай на больших тарелках и недопеченные оладьи в алюминиевых чашках. От оладьев пахло прогорклым маслом. Мутный зеленоватый чай напоминал разводку планктона. Самсон Данилович с удовольствием наблюдал, как сын уплетает оладьи и запивает их большими глотками чая. Увлеченный едой, Петр словно переставал замечать окружающих.
– Съешь, пожалуйста, и мои оладьи, – придвигая ему чашку, сказал отец, – я сыт и ничего есть не буду.
Сын понимающе кивнул головой и стал аппетитно поедать порцию отца.
Свиридов вспомнил об утренних опытах и поспешил рассказать о них.
– Оказывается, хлорелла не только обходится без солнца, но и при этом приносит немалые урожаи… А мы с тобой сомневались.
Как приятно иной раз ошибиться! А ведь он, Самсон Данилович, особенно упорствовал тогда.
– Да и я ведь так думал, – поддержал сын отца, – Любопытно… Завтра приезжает Лев Яковлевич, – не прерывая еды, продолжал он, – здесь будет умный и толковый директор.
Свиридов не расстался с мыслью рассказать о результатах проведенного опыта, стоившего ему и жене больших усилий.
– Кто мог подумать, что хлорелле неоновый свет милее солнца! Ты ведь этим опытом очень интересовался и, кажется, хотел продолжить его.
Петр отодвинул стаканы и чашки, немного подумал и сказал:
– Боюсь, как бы мой будущий шурин не забраковал кабинет. Уж очень не комфортабелен.
Самсон Данилович понял, что сыну сейчас не до опытов, и сдержанно заметил:
– А я боюсь, что он вовсе не согласится здесь работать. Ты уверен, что он одобрит твою затею?
Вместо ответа сын взял отца под руку и повел к выходу. Они шли вдоль пруда, щедро осыпанного солнечными блестками, мимо оголенных глинистых холмов и беседовали. Отец грезил о грядущем, во имя которого радостно жить и трудиться, а сын – о нуждах эпохи, призванной стать преддверием грядущего.
– Ты говорил мне, – не дослушав отца, со снисходительной любезностью сказал сын, – что русский народ не раз уже бывал провозвестником великих открытий. Страна дарила человечеству и значительных людей, и великие идеи. Мы, конечно, и впредь останемся такими, но, согласись, научное начинание должно прежде всего иметь полезное назначение для своего времени, иначе оно становится наукой для науки, столь же бесплодной, как и искусство для искусства.
Отец возражал. Знание всегда служило знанию. Но будь тех, кто в древности закладывал основы наук, не было бы цивилизации. Учение индусов и греков об атомах и последующие труды русских, французов и англичан были рассчитаны на благо грядущих поколений, на тех, кто в наше время освободил атомную энергию. Россия процветает уже второе тысячелетие, ей предстоит еще долго жить, и долг современников – поделиться с темп, кто сменит это поколение.
Снова сын, не дослушав отца, завел разговор о своем. В звучании ого голоса и движениях сквозило чувство собственного достоинства и уважение к собеседнику.
– Я всегда был, отец, с тобой – и в опытах с цветами, высаженными в гравий, и в планах растить цветы в опрокинутых вазонах, и в надеждах на великое будущее хлореллы. Твои фантазии окрыляли меня. Теперь, когда одна из них оказалась жизненной, ты отказываешься мне помочь. – Заметив, что эти слова задели отца, он виновато улыбнулся. – Когда я впервые побывал у новых плотни гидростанции, – с мягкой взволнованностью продолжал он, – и увидел, как рыбцы и осетры бились о каменную ограду, чтобы пробраться к местам размножения, мне стало не по себе. Израненные, они погибали у плотины, но не уходили… Мы лишили их возможности жить и развиваться, а ведь с гибелью этих рыб станет острой и наша нужда… Рыбное хозяйство в опасности. Не довольно ли, отец, витать в небесах?
Свиридов не спешил с ответом. Не за тем он приехал, чтобы вести отвлеченные споры. Пусть Петр ответит – намерен ли он считаться с мнением Льва Яковлевича и отречься от своей статьи?
– Ты уверен, что Золотарев одобряет твою затею? – снова спросил отец сына.
– Не совсем, – спокойно ответил тот, – но ему придется здесь работать. Приказ подписан, и никто его не отменит.
Понуждать человека браться за дело, которое ему неприятно! Подчинять науку приказу! Какой в этом толк?
– Ты не должен так делать, – сказал Свиридов. – Это прежде всего аморально.
Он невольно обнаружил свою заинтересованность в судьбе будущего зятя и при мысли об этом смутился.
Сын пожал плечами и усмехнулся. Ссылка на мораль показалась ему неубедительной.
– А меня оставлять без помощи – не аморально? Я ведь тоже родственник и при том не будущий, а давний…
Он не искал сочувствия отца, наоборот, его раздражали неделовой тон разговора и ненужная чувствительность в служебном деле.
– Ты можешь на его место поставить другого, – отлично понимая, что сыну разговор неприятен, продолжал Свиридов. – Зачем тебе его огорчать?
Лицо Петра приняло официальное выражение. Отец должен был подумать, прежде чем заводить подобный разговор.
– Мы никого не радуем и не огорчаем, институт этим не занимается. Мы – творческое учреждение, выполняющее научные задачи. Чувства, особенно милосердие, нашими планами не предусмотрены. Лев Яковлевич умный и способный человек, никто его здесь не заменит. Дело начато, остается довести его до конца.
– Даже, если бы ты и ошибался? – с нескрываемой иронией спросил Свиридов. Он впервые видел сына в такой роли, и ему было любопытно и смешно.
– Если я ошибусь, меня поправят, обязательно поправят, а вот либеральничать и сантименты разводить никто не позволит. Вот это и есть принципиальность.
Мимо них с корзинами, нагруженными зеленым тростником, прошли две женщины. Они приблизились к пруду и, запустив в воду часть своей ноши, последовали дальше.
– Ты бы нас похвалил, – обрадовавшись случаю переменить разговор, сказал Петр, – мы удобряем водохранилища тростником. Знаменитый Бэр говорил, что тростник – величайшее наше богатство. Его хватит у нас на века.
В Свиридове проснулась присущая его натуре любознательность. Ход мыслей сына казался ему столь нелепым и тем не менее занимательным, что он решил проследить, до чего с такой логикой можно договориться. Тростник в ту минуту не занимал его.
– А если Лев Яковлевич сумеет доказать свою правоту, ты, конечно, с ним согласишься?
Молодой человек начинал сердиться: как отец не понимает, что разговор не может продолжаться? Какое дело директору филиала до частного мнения профессора Свиридова?
– Доказательства Льва Яковлевича хороши для него, для меня они не годятся.
– Даже если он прав?
– Я не знаю, что такое прав или неправ, – раздраженно проговорил Петр, – план строительства одобрен, и отменить его нельзя.
Упрямство сына все более забавляло отца. Есть же люди с таким извращенным мышлением! Какое у него убогое представление о правде и справедливости! Так веда можно докатиться до варварства.
– Ты говоришь, что, если ты ошибешься, тебя поправят, но ведь тогда может быть поздно, деньги и труд будут затрачены.
– Что же, за науку надо платить, – последовал уверенный ответ. – Не справиться с заданием – меньшее зло, чем подорвать план работы.
Свиридов остановился у берега реки и задумался. Он никогда но согласится с тем, что радость и огорчения, правда и неправда лежат вне круга интересов института. Как можно управлять людьми, пренебрегая их чувствами? С такими представлениями можно лучшее начинание погубить, так осрамить славу хлореллы, что не воскресишь ее.
– Прости, дорогой, но каждый честный человек обязан отвести руку, которая грозит общественному благополучию. Мне придется в это дело вмешаться.
– Ты не можешь это сделать, – сказал сын тем тоном, каким взрослые поучают юнцов. – Родителей не приглашают участвовать в такого рода спорах, отец не может быть третьим лицом.
Они обошли все пруды вокруг площадки завода и подошли к тому месту, где у мостика попыхивал маленький катер. Свиридов подумал, что пора уезжать, лучше сейчас, прежде чем они серьезно поспорят, и сделал было шаг к мосткам, но вспомнил, что ничего не сказал о самом главном, ради чего приехал сюда, и повернул назад. Мысль о статье наполнила Свиридова чувством обиды, и речь его сразу же зазвучала громко и резко. Сын невозмутимо слушал отца и один только раз, когда ему показалось, что их могут услышать, мягко сказал:
– Ты слишком громко говоришь, не надо посвящать посторонних в нашу беседу.
Предупреждение сына не успокоило отца. Он гневно твердил, что сын попирает нравственные нормы, все святое на свете. Уважение к старости, к чужому убеждению, снисхождение к слабому и верность науке – чужды ему. Такие люди легко совершают преступления, изменяют друзьям и родным, ничто не удержит их от опасного шага. В свое оправдание они сошлются на необходимость спасти отечественную науку, хозяйственный план, престиж страны, словно долг гражданина дозволено исполнять любой ценой.
Сын говорил, что он отстаивает честь отца и ученого, а в таком деле дозволено все: и неточная формулировка, и неясное обобщенно, и недомолвки.
– У нас, отец, общие врага, и воевать с ними надо единым фронтом. Без твоего авторитета мне не справиться, не устоять. Ты отказываешь в помощи утопающему, а еще твердишь о морали… Ты говоришь, что мои понятия неправильны и нехороши, а кто мне это докажет? Неужели потому, что так рассуждали полвека назад, я должен отказаться от собственного мнения? Нравственно то, что целесообразно для народа, страны. Опираясь на этот незыблемый закон, я всегда найду верное решение. Ты считаешь, что честь и долг превыше всего, а меня вот учили, что превыше всего интересы революции и родины.
Сын мог бы поспорить и о верности науке, и о святости научных принципов. Три раза на его веку учение Вирхова толковали по-разному, трижды учителя его меняли представление о генах, дважды отвергали и принимали теорию Лысенко. Даже история страны толковалась по-разному – где уж взяться священному трепету перед наукой?..
** *
Нелегко было Свиридову поведать жене о новой статье, напечатанной сыном в журнале, о неожиданной встрече с Золотаревым и о поездке на завод. Когда он наконец решился и заговорил, жена внимательно выслушала и сказала, что она все знает, ей об этом уже рассказали. Свиридов не стал ее расспрашивать. Через несколько дней он уехал на конференцию в Москву, и разговор больше не возобновлялся.
Во время отсутствия мужа Анна Ильинична занялась несколько необычным делом. Рано утром, чуть свет, она вставала, убирала свою комнату и, захватив с собой завтрак, уходила. Большой город еще дремал в предрассветной синеве, когда она своей уверенной и размеренной походкой направлялась на пристань. Широкая улица, вечерами заполняемая юношами, девушками и учениками речного училища в белых матросках и бескозырках, выглядела в этот ранний час безжизненной. Ее не оживляли ни густая зелень деревьев, шпалерами растянувшихся до самой реки, ни высокое небо, овеянное прохладой, которой едва хватит на утренние часы. С первыми лучами солнца встанет марево над землей, и иссушающий жар утвердится допоздна.
Добравшись до пристани, жена профессора садилась на катер и отправлялась на рыбоводный завод. Там ее поджидал Золотарев. Они брали с собой сетки для сбора планктона – тех мельчайших животных и растений, которые служат кормом для рыб, – и пускались в путь. Спустя несколько часов они возвращались на берег с банками и бутылками, полными речного добра, и приступали к изучению улова. К вечеру, натрудившись всласть, Анна Ильинична возвращалась домой.
Еще до отъезда Свиридова в Москву Золотарев пришел в ботанический сад и, уединившись с Анной Ильиничной в теплице, сказал:
– Я стараюсь по мере сил честно выполнять обязанности директора завода, но совесть моя неспокойна. Необходимо обследовать планктон в наших водах, серьезно проверить свои и чужие догадки. Я не могу вовлекать в эту работу сотрудников, делать их соучастниками дела, которого не одобряют в институте. Не согласитесь ли вы быть хотя бы свидетелем моих работ?.. Если директор филиала мне не поверит, он не откажет в доверни вам.
Золотарев просил Анну Ильиничну помочь ему в работе, направленной против ее сына, хотя ничто ее к этому не понуждало.
– Чего вы добиваетесь? – спросила она.
Вопрос остался без ответа. Ее срочно вызвали к директору сада, и она на ходу успела бросить:
– Подумайте хорошенько, не спешите с ответом.
Она вернулась озабоченная, несколько раз уходила и возвращалась и, усевшись у стеллажа, тем же сдержанным тоном повторила:
– Чего вы добиваетесь?
Строгий взгляд ее был суровым испытанием для Золотарева. Он понимал душевное состояние этой женщины, сознавал, какое бремя возлагал на ее сердце – сердце матери, и мысленно взвешивал свой ответ. Она не должна была думать, что решение пришло к нему легко и ее тревожные сомнения недостаточно его беспокоят.
– Я хочу уберечь вашего сына от ошибки… Мы не так богаты, чтобы перестраивать заводы без нужды. Мой долг также решить: всегда ли целесообразно давать рыбам хлореллу? Наука скажет нам спасибо, если мы в этом ей поможем.
На некоторое время наступило молчание. Она занялась перестановкой вазонов на стеллаже теплицы, и по тому, как лихорадочно двигались ее руки, а опущенные веки прятали взгляд, Золотарев догадывался, как далеки ее мысли от того, что делали руки. Лев Яковлевич был готов ко всему. Он знал эту трезвую и волевую женщину, способную бесповоротно ему отказать, но знал и другое – ничто ее не остановит, как бы ни был извилист и труден путь, если он ведет к примирению отца с сыном. Золотарев такую возможность предвидел.
– Я отдаю себе отчет в том, как вам трудно решиться на это, – не сводя с нее сочувственного взгляда, проговорил он, – результаты обследования планктона могут невыгодно обернуться против вашего сына… Для матери такой исход не может быть приятным.
Она, видимо, пришла к какому-то заключению, неспокойные руки унялись, но веки все еще были низко опущены.
– Я так далеко не заглядываю, – непринужденно ответила Анна Ильинична, – сын мой поймет, что был неправ, и согласится с нами.
Она могла бы еще добавить, что не видит другой возможности вернуть его на прежнюю работу в ботанический сад. Ради этого она оставила свои собственные занятия и готова делать все, что ей скажут. Не хлорелла и не планктон, а мир между сыном и отцом, мир и согласие в доме видятся ей в планах Золотарева.
– Значит, я могу рассчитывать на вас?
– Но ведь я не гидробиолог, – тоном, прозвучавшим как согласие, произнесла она. – Какая я вам помощница?
Лев Яковлевич обещал научить ее собирать и обрабатывать планктон и сдержал свое слово. Она быстро усвоила новую науку и стала ему во многом полезной. Работа сблизила их, и чрезмерная сдержанность Золотарева, обычно поддерживаемая напряженной атмосферой в доме, сменилась непринужденностью. Он охотно рассказывал о себе, о своей профессии и больше всего о рыбах. О них он мог говорить бесконечно.
– Чем ближе я узнаю рыб, – говорил он ей, – тем больше они напоминают мне людей. Одни свободолюбивы, плывут из моря в море за много тысяч километров, тело их подобно копью, дня которого нет преграды. Это рыбы-орлы, «граждане мира». Другие – увальни, всю жизнь пролеживают на боку, зарывшись в ил, тело их сплюснуто, как блин, и как бы создано для неволи… Есть чадолюбивые, уходящие для нереста в далекие края, чтобы ценой собственной жизни сберечь от хищников свое потомство. Они погибают от голода возле икры, укрытой в яме…
Но всякому человеку такой подвиг под силу. О некоторых людях говорят, что они «высокого полета», «трудности им нипочем», такие «далеко уйдут». О рыбах говорят – чем выше нерестилище, тем крупнее рыба… Она действительно уходит далеко, идет голодная против течения и до полутора лет следует к месту размножения. Рыба-угорь, что угорь-человек – от любой беды увернется. Отвезешь угря от моря в любую даль, в любую сторону, пустишь его в реку, он к морю повернется и кратчайшим путем дойдет к своим. Он чувствует море, как угорь-человек свою стихию.
Анна Ильинична слушала и удивлялась, как мало она знает Золотарева. Неприязнь мужа к Золотареву удерживала ее от близкого общения с ним, и все, что ей было известно о нем, либо случайно дошло до нее, либо исходило от дочери. С тем большим любопытством она присматривалась к нему сейчас, с интересом ловила каждую его мысль.
Уже в первый день работы с ним ее поразил его рабочий костюм – новенький, модный, без единой морщинки и пятнышка. Нельзя было себе представить, как в такой одежде собирать планктон – набирать воду из различных глубин реки, отцеживать ее и оставшийся в сетке планктон заливать формалином – не испачкаться. Ни беленькая шелковая сорочка, ни ярко-зеленый галстук, ни кокетливо надетая панама не подходили для работы на реке. Было что-то нарочитое и в изящном костюме, и в пестром галстуке, и в серебряной пряжечке на сорочке. Анна Ильинична сделала вид, что не придает этому значения, но про себя решила при случае посмеяться над ненужным франтовством.
С тех пор как Лев Яковлевич сел в лодку, руки его уже ни на минуту не оставались без дела. Словно не земля, а водная стихия была его естественной средой, он легко управлялся со множеством дел одновременно. Пока набирался планктон, он успевал наловить рыбу и поработать над ней: рассмотреть чешую под лупой, вскрыть сазана и выудить из кишечника червячка, набрать воду из реки и подолгу ее разглядывать.
– Плохо работают наши рыболовы, – укладывая в сумку свои трофеи, вдруг объявил он.
– Это вам стало известно из внутренностей сазана? – не без иронии спросила помощница.
– Нет, – словно не уловив насмешки, серьезно ответил он, – это видно по чешуе.
Дальше следовала повесть о чешуе, на которой жизнь записывает все события рыбьего существования: в каком году рыба впервые метала икру и сколько раз это повторялось; как проходила ее жизнь, в достатке или лишениях. Два кольца каждый год ложатся на чешуйке, кто сумеет, прочтет на ней многое. Рыбы, которых природа лишила чешуи, несут эту летопись на костяке – на жаберных крышках, плечевом поясе, на позвонках.
– В двадцатых годах, – рассказывал Лев Яковлевич, – воблы стало много, запасы планктона в воде сильно уменьшились, и рыба мельчала. Возникло опасение, не идет ли в сети одна молодь. Так, чего доброго, всю воблу изведешь. Тогда по чешуе и узнали правду… История, как видите, – закончил он, – пишется на костях всего живого…