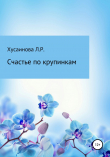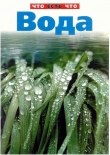Текст книги "Повесть о хлорелле"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Его внимание привлекли луковицы гиацинта, завезенные из Голландии. Прекрасные, душистые, но слишком дорогие для широкого распространения в стране. Свиридов нашел способ размножать гиацинты в теплице. Одна луковица порождала десятки других, прежде чем ее высаживали в почву. Они рождались в ящике, уложенные рядом под лучами греющего солнца. Способствовало этому незначительное ранение – крестообразный надрез или удаление донца луковицы. Место пореза становилось чревом, откуда выходили детки-луковички. Высаженные в грунт, они развивались, словно выросли из семян… Верный своей страсти всюду искать основные законы жизни, Свиридов хотел было и здесь их найти, и снова жена с трудом его удержала. Тогда он затеял другое – стал выращивать цветы в песке, орошаемом химическим питанием. Обычный гравий обратился в плодоносную почву. Удача окрылила его и унесла далеко. Но пора ли освободить человека от власти соков земли, скрытых в ее недрах? Нельзя ли регулировать жизнь растения химическими средствами, как если бы его ложем была бесплодная степь? Миллионы гектаров песчаных полей от крайнего севера до тропиков могли бы ожить, стать житницей человечества…
Нет, Свиридова нельзя оставлять наедине со своими мыслями, жена это знала лучше других.
Одни только раз он но позволил чувствам взять верх над рассудком и отказался от рискованного умозаключения. Удивительные опыты, порожденные смелой идеей, не вскружили ему голову.
В поисках средств изменять природу цветов, вызывать в них полезные перемены, Свиридов пришел к мысли растить их в опрокинутых вазонах, как бы головой вниз. Мысль ученого исходила из того, что, помимо света, пищи и тепла, на растении отражается сила его собственной тяжести. Так, свет клонит ветви и листья в сторону источника освещения, а сила тяжести дерева направляет их вертикально вниз. Под этим двойным воздействием изгибаются ветви, повисают и поворачиваются листья. От преобладания того или другого влияния зависят, таким образом, внешние очертания растения. Пирамидальный тополь и кипарис с прижатыми к стволу ветвями, вероятно, более покорны земному тяготению, чем действию света. Развесистый клен всем своим видом как бы подтверждает, что эти силы в нем уравновешиваются. Возможно ли, чтобы сила тяжести, так наглядно отражающаяся на внешних формах растения, не влияла на его внутренние отправления? Что если растение перевернуть, заставить расти вершиной вниз? Сила тяжести, перенесенная с корней на листву, несомненно отразится на сроках, интенсивности цветения, а также на свойствах семян.
Свиридов не ошибся – и сроки, и интенсивность цветения изменились. Ученый извлек полезный урок, открыл способ влиять на врожденные свойства растения, получать семена, с особенностями, не похожими на родительские, и на этом остановился. Пусть другие продолжат его труд, ему этого не позволит хлорелла.
* * *
Было теплое августовское утро. Солнце рано начало припекать, и день обещал быть жарким. В последние недели не было дождей и ночи не приносили прохлады.
Свиридов по обыкновению проснулся рано, принял чуть теплый дуга, проделал легкую гимнастику и, усевшись в кресло, долго и тщательно обрезал и подпиливал ногти. В такие минуты домашние обычно не заговаривали с ним, угадывая, что за этим кроется напряженная работа ума. Ровно в восемь часов он напился чаю, прослушал по радио последние известия и устремился к книжным шкафам. Надо было навести ряд важных справок по физике, главным образом по люминесценции. В лаборатории его ждал важный ответ: способна ли хлорелла развиваться без солнца? Известно, что она выживает в темноте, сохраняя при этом зеленую окраску. Лишенная возможности создавать себе питание из солнечной энергии и углекислоты, она извлекает его из воды. Известно также, что хлорелла развивается под лучами искусственного света. Заключенная в закрытый бассейн, освещаемый изнутри лампами накаливания, она весьма успешно размножается. Лампы дневного света с большим успехом заменяют хлорелле солнце, а неоновые – позволяют собрать огромный урожай. Если эти результаты верны, хлорелла может развиваться во всякое время суток, в любое время года и в различных географических широтах.
Свиридов решил эти опыты проверить. Жаль упущенного времени. Как много бы он успел, не будь тех преград, которые ему воздвигали! Чего только ему не приписывали: он не верит в творческие силы революции, предрекает народу нужду и голод. Его объявляли виталистом, механистом, мальтузианцем, ему ставили в вину прегрешения его единомышленников за рубежом. Стало модным по всякому поводу упоминать его фамилию в длинном списке творцов «лженауки».
В половине десятого утра все книжные шкафы были распахнуты и всюду лежали раскрытые книги. Диван и стол были усеяны словарями и справочниками, на подоконнике громоздились энциклопедии, Свиридов рылся в папках, разложенных на стульях, и торопливо что-то записывал. В такие часы, определяемые домашними, как «часы пик», никто в кабинет не заглядывал.
Анна Ильинична тем временем принималась за другое. У нее всегда много дел, неслыханно много. Она мало отдыхает, за пять часов выспится и тотчас же сядет за порученные ей мужем дела.
– Когда ты только спишь? – спрашивал он ее.
– Я отоспалась у родителей, – отвечала жена. – Там не было забот и некому было будить меня.
Свиридов забывал, что она – и мать, и жена, и научная сотрудница – нужна семье, а больше всего ему самому, и был к ней строг в своих требованиях.
– Не жди от меня догадок и инициативы, – говорила она мужу, – голова моя занята, ты можешь только располагать моими руками… Мои друзья тебе рассказывали, какой я была способной и изобретательной. Тогда все обстояло иначе, у меня не было нынешних забот.
Все минуты его жизни у нее на учете. Сейчас он обдумывает результаты опыта… Минут через двадцать пойдет на опытный участок, вернется через час и засядет за микроскоп… От этой работы его не оторвешь – у нее будет тогда время заняться собой… Иногда ей вдруг становится легко и приятно. Причин как будто нет, а на душе отрадно. Когда еще она догадается, что то было радостное ощущение свободы и покоя – муж спит, и ничего ему в этот час от нее не надо… Иной раз среди ночи беспокойная мысль разбудит ее: неужели она забыла – он о чем-то просил ее напомнить, что-то сделать для него. Или это ей только приснилось?
В десять часов к Свиридову пришел знакомый профессор. Он опоздал на полчаса и по этому поводу долго извинялся. Пунктуальность Самсона Даниловича, над которой многие посмеивались, была в его доме обязательна для всех. Профессор пришел за научной консультацией и между делом вспомнил, что дал положительное заключение относительно переоборудования рыбного завода, рассчитанного на использование хлореллы. Гость говорил о том, как хорошо, когда дети продолжают дело отцов, хотя знал, что его рассуждения не доставят отцу удовольствия. Свиридов дал профессору нужную консультацию и, провожая его к дверям, спросил:
– Вы пришли к убеждению, что завод надо переоборудовать. Значит ли это, что вы одобряете также самый способ кормления рыб?
Профессор пристально взглянул на Свиридова, как бы с тем, чтобы решить, какого ответа ждут от него, и, видимо, не разобравшись, бессмысленно закивал головой и крепко потряс Свиридову руку.
В десять часов двадцать минут Самсон Данилович и жена отправились в ботанический сад. Прежде чем приступить к работе, он обошел лабораторию и оранжерею, поздоровался с сотрудниками и переменил воду в вазе с цветами, которые ему аккуратно приносила жена. Пришел черед проверить поставленные опыты, и Свиридов повеселел. Размышления о хлорелле настраивали его на поэтический лад, и мысленно он в честь ее произнес волнующую оду… В одну из таких торжественных минут Свиридов предложил своему сослуживцу назвать новорожденную дочь Хлореллой.
Пока помощница измеряла и взвешивала прирост водорослей в бассейне, освещаемом неоновым светом, ученый думал о другом. Он приберег для жены некоторые мысли, они несомненно понравятся ей. Она должна согласиться, что человечество живет не по средствам, расточительство достигло предела. Или люди возьмутся за ум, или вконец разорятся… От правды никуда не денешься: земле достается лишь одна шестимиллиардная часть солнечной энергии, и даже эту подачку мы не умеем использовать… Сколько раз говорилось, что каждый луч солнца, не уловленный зеленым листом, безвозвратно потерян. Мы не можем увеличить приток этой энергии, но можем умножить ее накопление… Ведь в некоторых опытах хлорелла накопляла до шестидесяти пяти процентов солнечной энергии!
Свиридов не ждал ответа от жены. Занятая делом, она не вступит с ним в разговор, хотя и запомнит каждое слово.
Ей действительно ничего другого не оставалось, как слушать и запоминать. Самсон Данилович утверждает, что мысль, высказанная им вслух, становится ему ближе и яснее. Кому, как не ей выслушивать его?
Она закончила проверку и передала мужу сделанный четким почерком расчет. Ее улыбка означала, что опыт подтвердил заключения зарубежных ученых. Неоновый свет в закрытом бассейне – лучший источник энергии для размножения хлореллы. Теперь она ответит на длинную тираду мужа:
– Ты стал, Самсон, повторяться, меня считают знающим ботаником, а ты сообщаешь мне истины, известные всем и давно… – Заметив, что этот упрек огорчил мужа, она поспешила добавить. – Ты стал все забывать. Давно ли я при тебе учила нашего сына: «Пока химикам не удастся делать то, что удается водорослям, – из воды и углекислоты, попросту говоря, – из содовой воды получать сахар или крахмал, – мы не решим вопроса о насущном хлебе. Хлорелла, которая может обойтись без солнца и добывать углекислоту из воды, прокормит любое народонаселение…»
В груди этой женщины жил терпеливый судья, склонный долго выносить причуды мечтателя, и сторонний наблюдатель, восхищенный мужеством смельчака, которого любовь к науке сделала неуязвимым к испытаниям. Давно ли его томили неудачи, досаждали противники и терзали мысли о сыне, а сейчас он снова верит, что его опыты принесут людям счастье.
Самсон Данилович виновато поглядел на жену и подумал, что с памятью у него действительно неладно. Все трудней становится управлять своими мыслями, они то потоком захлестывают его, то бесследно исчезают.
– Моя память ослабела, это верно, и мысли стали слишком меня осаждать. Они просыпаются вместе со мной, а иной раз и раньше. Я вижу сквозь сон то, что передумал за день.
Она опустилась на низенькую скамеечку, подобрала ноги и, обняв колени руками, устремила на мужа выжидательный взгляд. Так она слушала его в дни давно минувшей молодости. Темные глаза, отливающие серебристым блеском, выражали настороженность. Она все та же, нисколько не изменилась, выслушает его, вздохнет, опустит глаза и молча займется делом.
– Днем эти мысли невыносимы, – не то жалуется, не то сердится Свиридов. При этом лицо выражает упрек и обиду. Она привыкла к его жалобам, как бы призывающим ее к ответу за его беды и неудачи, и сейчас, как и всегда, она сочувственно кивает ему головой. Ободренный ее поддержкой, он с еще большим раздражением говорит: – Надо думать об одном, а мысли твердят о том, чего знать не хочешь и от чего бы казалось на край света сбежал… Ночью эти мысли не дают спать, лишают покоя и без пользы отнимают время.
Они следуют за ним, нашептывают, уговаривают, уводят далеко и возвращают назад. Временами кажется, что от них никогда не отделаться, они последуют за ним до могилы… Жене он этого не говорит, у нее и без того немало тревог…
– С такими болезнями можно жить и долго, – говорит она. Ее беспокоит другое – не то, что было сказано, а то, что недоговорено.
Как обстоит у него с сердцем?
На эту тему разговор не может продолжаться. Им лучше поговорить о другом.
– В последнее время я стал засыпать в очках и не слышу, когда их у меня снимают.
– Я тоже но слышу, – с мягкой усмешкой отвечает она, – когда ты их у меня снимаешь.
Свиридов придвигает к себе микроскоп и энергично меняет предметные стекла. Жена смотрит на руки мужа и думает, что они уже не те, что прежде. Те были возбужденные, каждый нерв в них безудержно тянулся к труду, движения – красноречивы, можно было по ним прочесть его думы. В гневе порывистые, то вздрагивающие, то замирающие, точно их пронизывал электрический ток, они становились спокойными и нежными, когда ласкали дочь… Теперь они бледные, усталые и слишком часто безжизненно лежат на коленях.
Она встает и направляется к бассейну, залитому изнутри неоновым светом. Походка ее уверенна, руки чуть шевелятся в такт шагам. «Ничего в ней не меняется, – глядя ей вслед, думает Свиридов, – все такая же – и ходит, и думает по-прежнему, засыпает и просыпается с улыбкой, всегда добра, но не всегда прямодушна…»
Совсем недавно он уличил ее в неправде. Ей трудно было уклониться от ответа, и она с нежной улыбкой сказала:
– Всю жизнь любить и всю жизнь лгать, боже мой, какое наказание!
– А ведь и мне, Анна, нелегко было, – с такой же ласковой улыбкой ответил он, – всю жизнь эту ложь слушать.
Словно в подтверждение его подозрений она снова заговаривает о том же:
– Ты не щадишь своего сердца. Всю прошлую ночь штудировал материалы по химии.
Не следует, конечно, переутомляться, она права, но из уважения к ученому коллеге надо было подготовиться к встрече. Напрасно она завела этот разговор, с сердцем у него действительно неладно, но ни он, ни Арон Вульфович не скажут ей правды, да и ни к чему ей эта правда. Что поделаешь, рано пожаловала старость, не ко времени ослабела память, исчерпаны силы, сказались испытания гражданской войны, чрезмерные лишения и болезни. Давно ли он безупречно владел своими мышцами и, перегнувшись назад на табуретке, легко и быстро возвращал себе равновесие! Сердце не выходило из себя ни на третьем, ни на шестом этаже, как быстро он ни поднимался по лестнице. Теперь приходится быть осмотрительным, малейшая вольность дорого стоит. Случится иной раз, найдет блажь на него, придет в голову на радостях покуражиться, как прежде бывало. Не рад потом будешь, такое начнется, словно конец пришел. Вчера он вздумал пуститься по лестнице бегом. На втором этаже ему стало дурно, сердце, казалось, замирает. Жена об этом, разумеется, не узнала – чего ради ее огорчать?
– Ты видишь опасность там, где ее нет, – говорит ей Свиридов. – Прежде чем поразить наше сердце, старость поражает нас слепотой, вокруг нас блекнут краски, мир предстает однообразным и скучным, как глубокая осень в безбрежной степи. В этом сумраке не обрадуешься новшеству, не вскружит голову рискованный шаг, только и радости, что день-другой голова не болит и ничто не мешает работе.
– Погоди, погоди, – останавливает она его, – кто же это не осмеливается на рискованный шаг и сторонится новшеств, не ты ли?
– Конечно, не я, – спешит ее разуверить Свиридов, довольный, что отвлек жену от неприятной для него темы. – Это рассуждения о старости вообще. Бывают исключения, вот я, например.
* * *
Анна Ильинична куда-то ушла, Свиридов еще ближе подсел к микроскопу, взгляд его скользит по зеленому полю хлореллы, рука медленно вертит винт предметного столика, а в голове каруселью кружатся знакомые мысли. Как всегда, на первом плане думы о сыне. Петр, кажется, кому-то что-то разболтал, не то похвалился, не то наговорил короб чепухи. Это не беда, нельзя требовать от детей благоразумия, которого не было в свое время у отца. Зато никто о Петре ничего дурного не скажет. Он вежлив и добр, какой «милый человек», говорят о нем. У него много друзей, неудивительно, что статьи его так легко попадают в журналы. Он верит, что долг сына – отстаивать отца, любой ценой защищать его добрую славу. И заблуждения Петра закономерны. Ему внушили, что наука должна целиком служить повседневным нуждам народа. Неверно! Жертвуя всем для «сегодня», мы ничего не сбережем для «завтра». «Завтра» ученого – это века, и нельзя им ничего не оставить.
Размышления Свиридова идут проторенным путем, глаза устремлены в микроскоп, он умеет делать одно и думать о другом.
Говорят, что ополчаться против детей, значит отрицать законы природы. Она обрекает потомков внешне походить на отцов и матерей, а душой оставаться им чуждыми. Она безжалостно гонит их сквозь строй испытаний, некогда пройденных родителями. Никто и ничто этот закон не изменит.
Так ли это неотвратимо? Видеть, как дети блуждают над пропастью, и не суметь их предупредить – кто придумал такое наказание? Не это ли награда за годы надежд, любви, самоотверженности и терпения?
Такой закон невозможен – если бы родителям не дано было передавать детям надежный опыт, немыслим был бы прогресс.
Никто его не разубедит в том, что родители и дети могут и должны договориться. И с сыном у него иначе сложилось бы, открой он ему правду, какой она есть, и скажи: не упрямство, мой мальчик, а нечто другое руководит твоим отцом, он болен, тяжело болен, его надолго не хватит, ты должен ему уступить. Сын уступил бы, а втроем они горы свернули бы, добились бы того, что другим и но приснится.
Трудно всех убедить, что хлорелла – грядущее счастье человека, но общими усилиями такие ли препятствия одолевают! Увы, открываться сыну он не мог, Анна не должна знать, что с сердцем у него плохо. Она не остановится перед тем, чтобы запретить ему работать, только бы спасти его жизнь.
Предметный столик микроскопа медленно вращается и так же не спеша текут давно знакомые мысли. Не поздно и сейчас решить дело миром. Анна говорит, что родственные чувства не следует смешивать со служением науке. Пусть будет так, сын хочет наладить работу по-своему. Ради любви к нему можно сделать вид, что ничего не случилось, отец ничего не видит и не знает. Вольно сыну жить, как ему нравится, думать, сомневаться и находить выход из положения. Им незачем спорить, пусть в доме, наконец, водворится мир. Надолго ли этого мира хватит? Кто знает. И недоразумения, и споры, вероятно, возникнут. Как им не быть – ведь оба они изучают хлореллу. Кто-то припишет ошибки сына отцу или справедливо заявит, что профессор милостив к сыну и слишком строг к другим. Трудно будет отделаться от ответа. В науке неправда – великий грех. Нет, это не выход, им надо договориться. Он посадит сына рядом с собой и скажет: «Ты должен пощадить мою старость, продолжить то, чему я посвятил свою жизнь. Ты уступишь мне, я тебе, и дурное будет забыто…» Только так, другого выхода нет.
Спокойной беседе приходит конец. Свиридову слышится резкая по тону, обидная реплика сына:
– Тебе всегда было тесно на земле. Твоя мысль витала в надзвездных сферах.
– Витала, не спорю, – отвечает отец, – но то было в прошлом. Ни настоящее, ни прошлое растительного мира сейчас не интересуют меня, меня занимает его будущее.
Сын почему-то усмехается и отпускает недобрую шутку:
– У старости только и утешения, что будущее, настоящего у нес нет.
И эту обиду он снесет. Сын когда-нибудь об этом пожалеет.
– У старости есть настоящее… Старость трудолюбива, у нее одно утешение – милый, привычный труд. Она не ослабила сил Гомера, Пифагора, Эсхила, Толстого…
Мысленная беседа, как всегда, на этом месте принимает крутой оборот, рука, поворачивающая винт предметного столика, вздрагивает и с необычной поспешностью начинает менять окуляры. Взгляд ученого становится беспокойным, морщины на лбу то густо собираются, то неведомо куда исчезают, отчего лицо становится то грустным, то хмурым. Сейчас новая мысль встревожила ученого. Как она ни горька, с ней трудно не согласиться. Не в старости дело и не в том, что отец и сын не поняли друг друга, – их разделяет наука, к которой каждый относится по-своему. Сын рано поверил во всемогущество эксперимента. Не творческие поиски, основанные на теории и гипотезах, привлекают его, а искания удачи вслепую. В науке все возможно, твердит он, повезет человеку, и откроется ему такое, о чем никто и помыслить не смел. Наука больше обязана своими успехами случайным удачам, чем измышлениям теоретиков. Надо смело ставить опыты, пробовать и искать, невзирая на неудачи. Во имя погони за призрачным успехом он отказывался тратить время на изучение языков, оставил в пренебрежении родной язык и начиняет свои статьи грамматическими ошибками. Референты и переводчики, говорит он, чудесно справятся с языком, нет нужды отказываться от их услуг. Дело исследователя – ставить опыты и объяснять результаты, оформлять материалы может всякий… Именно это, а не что-нибудь другое разъединяет его с сыном. Они как бы стоят по разные стороны барьера – как им друг друга понять? Странно, как он этого раньше не заметил, ведь это было так очевидно, когда сын еще писал диссертацию…
Случилось, что б Закавказье возникла опасность гибели бамбуковых плантаций. Бамбуку дано в жизни цвести только раз: одним видам в тридцать, другим – в сто и сто двадцать лет, после чего они погибают. В странах Азии, где эти деревья служат средством существования населения, их цветение становится народным бедствием.
Свиридов предложил сыну отправиться на Кавказ и предотвратить там цветение бамбуков. Некоторое время спустя сын написал отцу о своих успехах, поведал об опытах, заведших его в тупик, о наблюдениях, опрокинувших основы ботаники, и о многом другом, поразившем его воображение. Как было не изумляться – вырезая куски корневища из бамбуков, созревших для цветения, и высаживая их в почву, он заметил, что из них развиваются такие же юные растения, как если бы они вышли из семян. Стебелек и кустарник развивались, чтобы создать корневище, точно у них его не было. Возможно ли, чтобы размножение корневищем взрослого растения напоминало семенное? Сын не догадывался, что отступление от правил знаменует собой событие в природе.
Свиридов сопоставил свои прежние опыты над гиацинтами, когда место пореза клубенька становилось чревом, откуда выходили детки-луковички, развивавшиеся, словно они вышли из семян, – сопоставил с тем, что увидел сын у бамбуков, и подумал, что в обоих случаях обновление организма возникало в результате ранения. Чтобы спасти зацветающую плантацию и вернуть ей утраченную юность, следует вырубить бамбуковый лес до цветения. Основой плантации станут быстро развивающиеся куски корневища. Прежние растения будут порукой, что лес станет юным, словно его растили из семян.
Свиридов написал об этом сыну, и тот выполнил указания отца. Он разработал и защитил на эту тему диссертацию и получил звание кандидата биологических наук. Исполнилась мечта одного и не осуществилась надежда другого. Напрасно ученый убеждал сына искать и своей работе тайну вечного обновления жизни, средство восстанавливать стареющие растения. Ничего вечного сын не открыл, диссертация для него была удачно выигранной партией, счастливым выходом из игры и ничем больше.
«Он все выхолостил, – думал Свиридов, – разменял большую идею на пустячки…»
* * *
Прежде чем уйти из ботанического сада, Самсон Данилович прошел в оранжерею субтропических растений, сел под развесистую веерообразную пальму, усадил возле себя молодого сотрудника в наглухо застегнутом халате, со сдержанной улыбкой на тонких губах, и, пожимая ему руку, сказал:
– Поздравляю. Аттестационная комиссия в Москве решила пересмотреть свое прежнее заключение о вашей диссертации… Они не посмели ее не утвердить.
Он недавно узнал, что комиссия отказалась утвердить работу научного сотрудника ботанического сада. В ней шла речь об эвкалиптах и средствах сохранения их в недостаточно теплом климате Кавказа. Предмет исследования далеко отстоял от круга интересов Свиридова, и все же он послал свои соображения в Москву. Вчера стало известно, что комиссия с ним согласилась. Растроганный сотрудник, весьма сдержанный молодой человек, долго не знал, что ответить, он густо покраснел, снял и тут же надел свои большие роговые очки, взъерошил и пригладил зачесанные на прямой пробор волосы и, не сдержавшись, обнял Свиридова. После ухода ученого диссертант вспомнил, что хотел передать ему журнал и, догнав Самсона Даниловича у ворот, сказал:
– В этом номере напечатано о ваших новых исследованиях, вам будет интересно прочитать.
Самсон Данилович поблагодарил, сунул журнал в боковой карман пиджака и продолжал свой путь.
С некоторых пор он обзавелся привычкой по дороге домой делать крюк и сворачивать в переулок, где множество голубей бродит по мостовой. Усевшись на скамейку у покосившейся ограды пустыря, Свиридов вынимает из кармана завернутые в бумагу семена и маленькими пригоршнями бросает их голубям. Отсюда он уходит с чувством облегчения. Ему кажется, что сердце перестало ныть и в голове водворился порядок.
Накормив своих питомцев, Свиридов вынул из кармана журнал, нашел статью, на которую указал ему сотрудник, и принялся читать. Ничего нового в ней не было, все обычно и знакомо: и манера сына писать, его самоуверенный пафос, и топорные фразы, и неправда в каждой строке. Вздор, что профессор Свиридов посвятил себя проблеме искусственного кормления рыб хлореллой, что «рыбная промышленность многим обязана консультациям профессора Свиридова». Он этим никогда не занимался и никому советов не давал. В такой же манере, о том же Петр говорил на заседаниях научных обществ, писал в городской и областной газетах. Было в этой статье и нечто такое, что глубоко уязвило ученого. Сын утверждал, будто отец убедился, что «долг ученого в наше время – не задаваясь далекими целями, думать прежде всего о текущих нуждах страны». Как можно противопоставлять «далекие цели» и «текущие нужды»? В какой невежественной голове могла родиться подобная мысль? Изыскания астрологов и астрономов столь же часто обогащали практическую мысль, как часто химия и физика решали задачи небес.
Самсон Данилович почувствовал себя нехорошо и хотел идти домой, но раздумал и отправился в филиал рыбного института к сыну. Пора с этим покончить, он должен оградить себя от его лживых измышлений. Или Петр откажется от своих утверждений, или придется что-нибудь предпринять.
Филиал института находился недалеко от центральных асфальтированных улиц города, на немощеной набережной грязной речушки. В конце длинного ряда деревянных домов с непомерно огромными окнами и приплюснутыми чердаками, в бывшем купеческом особняке, на верхнем этаже разместились лаборатории филиала института. Маленькие комнатки с тесными проходами и узенький коридор, заставленный шкафами с заспиртованными рыбами и моллюсками, производили убогое впечатление. Более просторно было на нижем этаже, где в двух небольших квартирах жили ихтиолог Лев Яковлевич Золотарев и рыбовод Андрей Прохорович Попов.
Сына своего в институте Самсон Данилович не застал. Петр незадолго уехал на рыбоводный завод.
– Поспешите на пристань, – посоветовала ему лаборантка, – он еще там.
Кто-то мягко взял ученого за руку и потянул к себе.
– Здравствуйте, Самсон Данилович! Пойдемте ко мне, нам надо поговорить.
Перед ним стоял Лев Яковлевич. В длинном белом халате с широкими отворотами он казался еще выше, а новый просторный костюм придавал ему полноту. Свиридов подумал, что рядом с ним маленькая Юлия выглядит ребенком. Удивительно, до чего они но подходят друг к другу. На нем был новенький синий галстук, пристегнутый к шелковой заграничной сорочке серебряной пряжечкой. Подстриженные черные усики и редеющие волосы на голове были надушены. «Франт», – подумал Свиридов и отвернулся.
Лев Яковлевич пропустил Свиридова в лабораторию, жестом предложил ему сесть и долго сам не садился.
– Не удивляйтесь, пожалуйста, что я вас задержал, – со свойственной ему непринужденностью, которую Самсон Данилович воспринимал как плохо скрытое высокомерие, проговорил он. – У меня к вам серьезное дело. Вы знаете, конечно, что меня назначили директором рыбоводного завода… Вы должны разрешить мои сомнения, – продолжал он, – я имею в виду предстоящую реконструкцию завода. Простите, если я скажу вам что-нибудь неприятное, как хотите судите, но против правды я не пойду, не уступлю, что бы со мной ни случилось.
Его мягкий, почти юношеский голос казался Свиридову приторным, а глаза, подернутые влагой, – масляными.
«Вот ему что надо, – с раздражением подумал Свиридов, – еще один ходатай в пользу сына». Этот тихоня никогда раньше не вмешивался в семейные дела. С сыном у них бывали какие-то разговоры, Петр в чем-то его убеждал, он как будто не соглашался. Споры эти, конечно, были пустяковыми, друзья скоро мирились и, должно быть, забывали, о чем был спор.
– Мне кажется, Самсон Данилович, что завод перестраивать не надо, хлорелле здесь не место, она тут ни при чем.
«Сын ратовал за другое. Они, видимо, в чем-то не столковались. Тем любопытнее, куда он гнет», – думал Свиридов.
– Вы должны отвлечься от вашего расположения к зеленой водоросли, – пытаясь скрыть свое смущение непринужденной улыбкой, сказал Лев Яковлевич, – должны во имя того, что выше наших личных симпатий, из чувства долга к тому делу, которое вверено нам.
– Позвольте, Лев Яковлевич, я что-то не понимаю вас, – обрадовался ученый случаю дать выход своему раздражению. – Почему я должен отказаться от собственных взглядов и во имя чего?
Сердитое выражение лица Свиридова и резкий, несвойственный ему тон еще больше смутили Льва Яковлевича. Он некоторое время молчал и, словно набравшись храбрости, выпалил:
– Не от взглядов вообще, а от вашего убеждения, что хлорелла в рыбоводстве везде одинаково нужна. Есть основания полагать, что рукав Волги, где находится наш завод, кишит планктоном и нет нужды хлореллой откармливать рачков, а рачками – рыб. В реке этого корма более чем достаточно. В другом месте или в другой реке эти расчеты, возможно, и правильны, только не здесь.
Разговор все больше раздражал Свиридова. Уж не вздумал ли этот мальчишка разыгрывать его? Когда и где он, Свиридов, утверждал, что хлорелла везде одинаково хороша, из чего видно, что это его убеждение?
– Я не знаю, Лев Яковлевич, какую цель вы преследуете этими рассуждениями, я не мастер вдаваться в такие тонкости. Вам доверили завод, извольте защищать свою точку зрения, а меня оставьте в покое.
На лице молодого человека отразилась гримаса страдания. Она была знакома тем, кто видел Льва Яковлевича в момент, когда Юлия затевала спор с родителями. Свиридов считал эту мину фальшивой.
– Меня учили быть верным науке, – с подчеркнутой твердостью проговорил Золотарев. – Не сомневайтесь – я свой долг выполню. Мой учитель Иван Федорович Колосов, великий знаток планктона, сидит, бывало, на корабле без хлеба, кончились запасы, и неоткуда их взять. Он пробавляется моллюсками, трепангами и морской капустой, а домой не спешит. В отчете не должно быть ни слова неправды, пусть придется пожить впроголодь, а материалы должны быть полностью проверены…