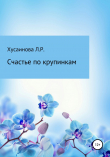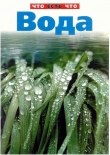Текст книги "Повесть о хлорелле"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Болезнь вернула, казалось, все, что было некогда утрачено. Так бывает, когда человек прикоснется к смерти и близко ее ощутит. Его сильно потянет жить, и он словно заново родится. В нем пробудилась воля к труду, жажда творческих исканий. Он изводил себя и жену, потоки идей и смелых проектов следовали друг за другом, все удавалось, самые смелые замыслы воплощались…
Так длилось до тех пор, пока подъем не сменился спадом. Творческий пыл стал убывать, меньше радовали удачи, иные мысли и тревоги оттеснили радость труда.
Началось с того, что у Свиридова ослабела память. Дня не проходило, чтобы серьезное дело не было упущено, забыто нечто важное в работе. Он опаздывал на деловые свидания, не вовремя являлся в ботанический сад, заставлял домочадцев ждать с обедом. Так бывало и прежде, но его выручала записная книжка. Маленький уголочек листка с занесенными с вечера пометками восполнял недостатки стареющей памяти. Теперь он стал забывать о существовании книжечки или не находил ее на месте. От этой забывчивости пострадал его любимый каталог – картотека отечественной флоры. В продолжение многих лет ученый заносил в него все вновь открытые им свойства растений. В последнее время записей становилось все меньше, и нужные сведения пропадали.
За этим, казалось бы, незначительным событием, последовали многие другие, весьма усложнившие жизнь ученого. Так, он неожиданно открыл, что его часто знобит. Сказывалась старость с ее несовершенным кровообращением. И с походкой что-то случилось, она словно стала шаткой, фигура сгорбилась, и слабеющий голос утратил свою твердость. Даже слух временами ему как будто изменял. То словно проскользнет мимо, то речь собеседника заглохнет. Радужная оболочка и волосы теряли свой пигмент, а в нервных клетках и в мышце сердца, должно быть, становилось его все больше…
Число недугов, действительных и кажущихся, росло с каждым днем, они требовали к себе внимания, и вскоре Свиридов оказался в их власти.
У него появилась манера смотреть на себя со стороны, постоянно анализировать свое состояние, как если бы предметом наблюдения был кто-нибудь другой. Так он подметил в себе неизвестную ему прежде подозрительность, склонность к опеке и придирчивости. Достаточно врачу призадуматься над лабораторным анализом, лишний раз взглянуть на рентгеновский снимок, – и в душу закрадывается тревога, возникают назойливые сопоставления – одному из знакомых точно так же предложили сделать снимок, и вскоре у него обнаружили рак… Его придирчивость стала пугать окружающих. Недавно он напрасно обидел работницу. Ему показалось, что скульптура в прихожей, которую он раньше не замечал, покрыта пылью. О ней попросту забыли или поленились вытереть ее. В спор вмешалась жена. Она отозвала его в сторону и шепнула:
– Ты, как все старики, мелочен и зол.
В душе он с ней согласился.
Заметив прежде, бывало, морщинку у себя на лице, он утешался мыслью, что дух его не старится. Мыслители всех времен сохраняли ясность ума и свежесть чувств до последних дней жизни. То же самое происходит и с юга. Теперь утешиться нечем – память не та, ни желаний, ни радостей, дух явно приходит в упадок.
Думы о недугах, о безжалостной смерти, после которой ничего не остается, омрачили жизнь ученого, отодвинули природу с ее пахучими травами и отняли радость труда. Он перестал замечать птиц, голова не откидывалась, чтобы подставить лицо сиянию солнца и каплям теплого дождя. Предписания врача, напоминания о лекарствах и процедурах, которые надо принимать, оттесняли мысли о науке и долге перед страной. Бой часов утратил свои благодатные свойства, он напоминал о времени, которое без пользы уходит, об опытах, не доведенных до конца, о недочитанных книгах, и ничего больше…
Время от времени Свиридову казалось, что в его состоянии наступила перемена. Сегодня и вчера сердце вовсе не ныло и на душе было легко. Если жизнь не будет омрачаться волнениями и чрезмерные испытания не подорвут душевные силы, он долго еще протянет. Обстановка, в которой трудится ботаник, более чем благотворна и не может идти в сравнение с условиями работы химиков, физиков, врачей, математиков. Вместо пыльных и душных лабораторий, пропитанных газами и едкими веществами, – обширные оранжереи, поле и лес. В такой спасительной среде ничто человеку не страшно.
Как всем больным, ему хотелось видеть себя здоровым, и он готов был верить всему, что в этом его убеждало.
Настал день, когда Самсон Данилович призвал ученого-Свиридова и задал ему ряд горьких вопросов. Как это случилось, что болезни закрыли от него свет? Ему некогда было прежде думать о них, почему они сейчас его поглотили? Он погряз в тревогах, никогда не имевших доступа к нему. Куда делась страсть к любимому занятию? Где прежние планы, надежды и вера в великое значение хлореллы?
На все эти допросы мог быть только один-единственный ответ, а его Свиридов больше всего опасался. Пришлось бы сознаться, что разговор с Александрой Александровной и Львом Яковлевичем в Москве все еще тревожит его, что ему все трудней держаться прежних убеждений, всегда казавшихся ему непогрешимыми. Будущее, говорят они, должно стать желанным для настоящего, иначе в него не поверят, грядущие поколения не примут хлореллу, если предки не одобрят ее. Почему бы с этим не согласиться? Человечество переживает белковый голод, вряд ли эта нужда станет с годами меньше. Почему бы не утолить этот голод, послужить нашему сегодня без ущерба для далекого завтра? Тем временем водоросль будет улучшена, и люди привыкнут к ней. Отцы и дети повоюют с непривычной пищей, а внуки примут ее как должное… Мы ведь едим не то, что любим, а то, к чему «приучены»…
Несомненно и то, что человеческая психика ограничена во времени, только настоящее и близкое будущее способно внушить нам какие-либо чувства, вооружить надеждой и терпением. Что, если сомкнуть идею о благородном назначении хлореллы в будущем с нуждами сегодняшнего дня? Пусть узнают о ней и в городе, и в деревне, пусть она займет свое место на обеденном столе и станет необходимостью для человека…
Трудно с такими сомнениями поладить, и мысли уводили его к подступам старости и смерти…
Посоветоваться с женой Свиридов долго не решался. Не потому, что опасался встретить непонимание или выслушать насмешку жены. Она, несомненно, с ним согласится, но какими глазами он взглянет на нее? Двадцать лет он твердил ей, что расчеты противников лишены смысла, один лишь он отличает истину от заблуждения, и вдруг – уступить. Выслушав его, она промолчит или скажет «прекрасно».
Решено, он поговорит с ней в ближайшее воскресенье во время поездки в колхоз. Лев Яковлевич пригласил их побывать на рыбных прудах. По дороге такие вещи легче всего обсудить.
В тот же день он написал Александре Александровне:
«Милый друг!
Позвольте удивить вас неожиданной вестью. Я решил согласиться сотрудничать с вами в исследованиях, связанных с разведением хлореллы в прудах. Скажите всем, кому следует, что я считаю это делом важным и перспективным. Напишите, чего вы добились и что намерены предпринять.
Готовый к услугам».
Дальше следовала подпись и приписка:
«Не сердитесь, я заглажу свою вину».
В воскресенье утром к воротам дома Свиридовых подошла машина филиала института. За рулем сидел Золотарев. Стояло погожее майское утро. Накануне выпал дождь, и под весенними лучами прохлада, словно нехотя, покидала землю. Как рачительная хозяйка, вновь вернувшаяся в свой дом, солнце усердно убирало следы недавнего ненастья: стирало темные блики с яркой зелени деревьев, сушило и поднимало примятую ливнем траву и грело все, что истосковалось по теплу. Казалось, солнце отдавало и небу дань – сметало тучи с небосклона и серебристыми блестками пронизывало синеву небес.
Прежде чем войти в машину, Самсон Данилович поглядел кругом и улыбнулся чудесному утру.
Супруги уселись на заднем сиденье, автомобиль тронулся, и Свиридов сразу же заговорил.
– Нам надо обсудить серьезное дело, – многозначительным движением указательного пальца призвал он жену к вниманию. – Вопрос заслуживает того, чтобы на нем остановиться…
На этом источник его красноречия словно иссяк. Дальнейшее лишено было какой-либо связи и содержания. Вот что значит начать разговор, предварительно его не обдумав.
– Ну, – протянула она, – я что-то твоего дела не вижу.
– Да, да, ты права, – поспешил он с ней согласиться, – обсудим это вдвоем. Мне самому не все ясно. Отнесись только к моим словам со вниманием и спокойствием…
Почему он счел, что в пути такие вещи легче всего решаются?
– Что ты тянешь, – начинала сердиться жена, – опять какая-нибудь фантазия не дает тебе жить?
Свиридов обернулся и, словно разговор велся не с женой, а с Золотаревым, в том же тоне продолжал:
– Меня очень беспокоит, выживет ли хлорелла под прямыми лучами солнца в прудах. Одни утверждают, что она, как и бактерии, гибнет под прямыми лучами. Другие полагают, что не направление лучей, а высокая температура губит ее. Теперь, когда вы располагаете теплолюбивой культурой хлореллы, вам легко будет эту загадку разрешить. Вот уж с чем вам придется повоевать, так это с опасностью чрезмерного освещения… Пруды необходимо чуть затенять… Чудесное предприятие и какое выгодное! – после некоторого молчания продолжал он. – Из углекислоты, воды, фосфора и азота создавать органические соединения и заодно живое вещество… Где вы видели растение, способное почти всю поглощаемую солнечную энергию претворять в пищу?..
Теперь красноречие не изменяло ему, каждая фраза вдохновляла его, и голос заметно теплел. К жене он ни разу не обернулся. Когда живописная картина цветущих садов привела его в восхищение, он положил руку на плечо Золотарева и сказал:
– Не спешите, дайте оглядеться, уж очень здесь хорошо…
Машина скользила между зелеными холмами, овеянными теплом и благоуханием. За окном стелилась тишина и покой, разворачивался край, объятый глубоким молчанием. Бесшумно проносились встречные машины, скользили по белому песку, словно салазки по, снегу. Кругом мир и благодать, а всего больше ее в карточном домике – шалаше на краю огорода… Безмятежны холмы, дремлют низины, опоясанные черной змейкой асфальта и окаймленные изумрудной озимью…
Самсон Данилович оторвался от окна и продолжал свои наставления:
– Бойтесь, Лев Яковлевич, вселенцев, коловраток, двукрылых личинок, кладоцер. Они сожрут в прудах хлореллу и отравят среду отбросами. В лаборатории эти организмы изучаются изолированно, а ведь живут-то они в сообществе, вредят и помогают друг другу… Выясните, как они поладят с хлореллой…
Лев Яковлевич выключил сцепление, погасил мотор и, пока машина бесшумно катилась под уклон, сказал:
– Я ждал, что вы все это скажете мне раньше. Я ихтиолог и в биологии водорослей ничего не смыслю. Когда вы отказались нам помогать, мне ничего другого не оставалось, как пройти курс у других… Благодарю за ваши советы, но они запоздали, я получил их в Москве… Вы, я вижу, изменили свое отношение к моему делу, спасибо, я в трудную минуту к вам обращусь. – Он помолчал и голосом, в котором одновременно звучали упрек и просьба, продолжал: – Александра Александровна тоже ждет вашей поддержки… Вы напрасно не хотите ей помочь… Или вы передумали?
Будь Свиридов не так увлечен разговором, он увидел бы на лице жены нечто такое, что весьма смутило бы его. Выражение напряженного ожидания, когда он наконец вспомнит о ней, чувства обиды и недоумения открыто сменяли друг друга, словно Анна Ильинична и не помышляла их скрывать.
– Вы не ошиблись, Лев Яковлевич, я изменил свое отношение к вашему делу, – нисколько не задетый его укором, ответил Свиридов. – Многое из того, что вы тогда мне говорили, я запомнил. «Нам нужны друзья не только в среде ученых, но и в народе… Докажите сельскому населению, что оно при малых затратах сможет иметь вдоволь рыбы, и недовольство отдельных ученых потонет в многомиллионных голоса друзей. Как им не поддержать нас, ведь мы нм приносим изобилие…» Ваши слова, признайтесь! – закончил он.
– Не запомнили ли вы также советы Александры Александровны? – вернулся Лев Яковлевич к вопросу, на который не получил уже однажды ответа.
Самсон Данилович улыбнулся и просто сказал:
– Я послал ей письмо, в котором советовал не оставлять работу. Я буду ей помогать, как и вам.
Теперь только он вспомнил о жене и о неудавшемся признании.
– Как-то вышло у меня неладно, – с пристыженным видом проговорил Свиридов. – Я ведь все это хотел тебе рассказать…
– Ничего, ничего, – как всегда, серьезно и сдержанно ответила она. – Хорошие вести и запоздалые хороши…
– Так на чем же мы остановились? – весело спросил Свиридов, обрадованный тем, что наконец объяснился с женой. – Вы поняли теперь, почему мне так дороги ваши пруды? В колхозах узнают, что за клад хлорелла, и обязательно полюбят ее… Урожаи на полях до сих пор зависели от дождя и солнца, иначе говоря, от погоды. Хлорелла освободит людей от этой зависимости.
Далеко позади остались зеленые холмы, обсаженные фруктовыми деревьями. Машина мчалась по гладкой песчаной степи с редким ковылем и полынью. Кудрявые барашки на голубом небе предвещали непогоду. Легкий ветер пригибал траву и кружил пыль по дороге. Лев Яковлевич озабоченно сказал:
– Как бы дождик не испортил нам праздника. Пруды находятся в стороне от деревин, не каждому захочется мокнуть под дождем… А хорошо бы собрать побольше людей, они ведь со временем станут нашими помощниками… Да, кстати, вас следует поздравить с новой помощницей. Юлия самым серьезным образом занялась хлореллой.
Свиридов устремил на жену вопросительный взгляд. Сообщение Золотарева в такой же мере удивило, как и встревожило его. Что это значит? Зачем понадобились дочери зеленые водоросли? От него что-то скрыли, жена не могла этого не знать. Свойственная ему подозрительность подсказывала, что он случайно наткнулся на нечто такое, о чем стоит поговорить.
Анна Ильинична ускользнула от вопросительного взгляда мужа и сухо сказала:
– Не я тебе сказала это и нечего спрашивать меня. Расспроси Льва Яковлевича, пусть расскажет…
Золотарев успел в зеркале, подвешенном над рулем, заметить волнение Свиридова и смущение его жены и поспешил вмешаться.
– Вы напрасно, Самсон Данилович, придали этому значение. Дочь ваша надумала лечить своих больных хлореллой. Она где-то прочитала, что в лепрозории Венесуэлы прокаженных три года кормили супом из водорослей. Результаты были не совсем безуспешны… Она убеждена, что лепра поддерживается неспособностью организма усваивать витамины. Так как в хлорелле их более чем достаточно, она подумала, нельзя ли с ее помощью насытить ткани больного витаминами.
Так как зеркало над рулем не обнаружило перемен в выражении лиц супругов, Золотарев добавил:
– Как вам угодно, Самсон Данилович, по Юлия вся в вас. Подай ей проблему, от которой не радостей, а испытаний жди. Раз во что-нибудь поверив, она не отступит уже, только время и опыт могут ее переубедить… Я держусь того мнения, что жена, у которой нет собственного дела, рано или поздно займется чужим и станет опекать мужа…
Тонкая лесть Золотарева не могла оттеснить подозрения Свиридова. Он снова перевел взгляд на жену и раздраженно спросил:
– Но почему об этом мне не сказали?
– Зачем? – поспешила Анна Ильинична принять удар на себя, – чтобы выслушать твое категорическое «Нет!»? Я о многом в нашей жизни тебе не говорила. Ты не знаешь, например, что я вот уже три года готовлю из хлореллы вкусные блюда. Каждую новую культуру, которую мы выводили, я со всякого рода специями проверяла на плите… Сама ела и тебя кормила не раз. Ты мог убедиться, что травянистого запаха и вкуса у хлореллы больше нет, во всяком случае он не так резок и не так неприятен… Я но знаю, какие блюда разработал для японцев профессор Тамийя, но мы с дочерью готовим шестнадцать блюд. Кулинария японского профессора одобрена в институте Стэнфорда, в штате Калифорния. Нам незачем так далеко забираться, пошлем наши рецепты в Москву… Ты должен быть доволен – хлорелла станет известной всюду, где варят пищу, – в институтах питания, в больницах…
Самсон Данилович не мог одобрить жену. Слишком много она позволила себе. Об этом у них будет еще разговор. Другое дело – дочь, ей он сделает отеческое внушение.
– Следовало бы все-таки посоветоваться со мной, – недовольным тоном, в равной мере относившимся и к жене и к дочери, проговорил он.
– Вы совершенно правы, – поспешил с ним согласиться Золотарев. – Я то же самое ей говорил… Думаю, что это больше не повторится, я обещаю вам за ней присмотреть. – Он немного помолчал и с загадочной улыбкой добавил: – Позвольте это бремя возложить на меня. И плечи у меня покрепче, и сил больше… На будущей неделе мы сыграем свадьбу, и обещаю, что ничего подобного больше не повторится.
Самсон Данилович улыбнулся, погрозил ему пальцем и, милостиво взглянув на жену, сказал:
– Следите, Лев Яковлевич, да построже, я ведь буду надеяться на вас.
Машина круто повернула к небольшой речке, к ее высоким берегам, густо заросшим травой. В стороне от ручья, исчезающего за первым поворотом, у одинокой ветлы, распустившей над водой зеленые кудри, блестели три небольших пруда.
Золотарев и Свиридов сошли с машины и сразу же очутились в толпе спорящих людей. Невысокого роста человек лет сорока, с остроконечной бородкой, в суконной куртке, застегнутой на все пуговицы, в сапогах с голенищами гармоникой увещевал наседавших на него селян.
– Что вы слушаете Антонина Ивановича? Ну, бригадир, ну дельный человек, а прячется он за юбкой жены, как тресковый малек под колоколом медузы… Нет у него своего слова.
Ему возражал высокорослый и широкоплечий колхозник с перекошенным после паралича лицом. Его большие голубые глаза и добрая застенчивая улыбка скрадывали уродство и делали лицо приятным.
– Какая ты юла! – тихим, но твердым голосом отвечал он. – Тебе говорят одно, а ты – свое… Никто против прудов не говорит, дело нужное, спасибо. Недаром во всем районе народ пруды копает, только зря ты околесицу несешь… Мол, рыбой мы все на свете забьем: и хлеб и овощи переплюнем, одним словом, от рыбы миллионщиками станем… Ни к чему это все… Правильно я говорю? – обратившись к окружающим, закончил он.
– Правильно, – поддержали его селяне, – заврался парень!
– Ну и баста, спору нет, – быстро согласился человек в суконной куртке. – Не обязательно мне, как рыбе, против течения идти… Угодно так, извольте!
Самсон Данилович отвел Золотарева в сторону и спросил:
– Ведь это тот самый, что на совещании в Москве всякую чушь молол… Или мне кажется?
– Нет, нет, вам не кажется. Этот тот же Голиков, но в другой роли. Не ученый он теперь секретарь, а мой помощник – опытные работы в колхозах налаживает… Надо бы тогда уволить его, да ведь этим человека не исправишь…
Пруд удобрили минеральными солями и тут же запустили в него хлореллу. С процедурой изрядно запоздали – следовало бы ее провести сразу после ледохода, прежде чем в пруде ожили сорняки. Теперь часть солей достанется сорным травам, придется хлорелле с ними поделиться…
На обратном пути Свиридов продолжал наставлять Золотарева:
– Следите за тем, чтобы клетки водорослей не мельчали… Стареющую культуру надо вовремя заменить, иначе урожай пострадает… Хлорелла, как и другие растения, питается минеральной пищей, но не брезгает и органической… Подкормить ее глюкозой, и вместо одиннадцати миллионов клеток в тысячной части литра их станет в девять раз больше…
* * *
Прошло лето. Никогда еще в скромной лаборатории ботанического сада не было столько проделано, как в эти несколько месяцев. Анна Ильинична и дочь усердно готовили из хлореллы недурные блюда.
Самсон Данилович примирился с самоуправством жены и дочери и даже одобрил ее инициативу. Пусть каждый приближает хлореллу к народу, – утешал он себя, – насильно ее не навяжешь, люди должны в ней почувствовать нужду. Сыну он предложил вывести неприхотливую и вместе с тем урожайную культуру. Не так уж сложно, – объяснял он ему, – окружив растение всеми благами земли – наилучшей температурой, благоприятным питанием, избавив ее от бактерий и хищников, – добиваться успеха. Нельзя урожай, добытый в сосуде, простым умножением перечислять на гектары воды. В этих расчетах не учтены превратности естественной среды. Не будь их, для людей давно не осталось бы места на свете, одна муха в короткое время может покрыть своим потомством весь земной шар. Для лаборатории эти расчеты непреложны, а в жизни так не бывает.
– Наша водоросль, – наставлял он сына, – должна в условиях недоедания, недостатка кислорода и света хорошо размножаться. Наука располагает семенами злаков, приспособленных к засухе и холоду, развивающихся на тяжелых глинах, на песках и на солончаковых почвах. Баловать организм, значит делать его беспомощным, лишать устойчивости в борьбе за существование. Мы себе этого позволить не можем.
Сын беспрекословно слушал отца и только однажды вскользь заметил:
– Ты должен согласиться, что я был прав. Ученые в первую очередь должны думать о сегодняшнем дне. Нельзя уноситься идеями за орбиту земли…
Самсон Данилович как-то странно усмехнулся, но промолчал. Сказать сыну правду не хотелось, хоть и следовало бы с ним поговорить. Рассказать, какие думы тревожат отца, признаться, что отец его, кажется, сбился с пути, нет у него цели и ничто не маячит впереди… Да, недурно бы с сыном поговорить, пусть знают дети, как трудно бывает отцам.
Я всегда был уверен, готов был Свидиров сознаться, что будущее рождается сегодня. Кто хочет послужить потомкам, должен своему делу найти опору в настоящем. Но тот не ученый, кто перестал видеть перспективу и не думает о тех, кто сменит нас…
Александре Александровне Свидиров подсказывал, как лучше вести наблюдения, и в каждом письме усложнял ее и без того нелегкие опыты. По каждому поводу он искал сведений и обсуждал все до малейшей подробности.
Доставалось немало и Льву Яковлевичу. Свидиров дважды побывал на опытных прудах, убеждался, что рыба хорошо развивается, сулит до трех тонн улова, – и все же замечал недостатки…
Уделяя много внимания своим подопечным, он находил, однако, время подолгу просиживать за словарем, углубляться в чтение комментариев к Гомеру или решать длиннейшие уравнения. Однажды, когда Самсон Данилович обложил себя книгами и, склонившись над одной из них, долго не поднимал головы, жена подсела к нему и сказала:
– Ты напрасно делаешь вид, что занят чем-то важным… Ты просто не знаешь, куда себя деть… Все трудятся и довольны, одни ты не находишь себе места.
С видом человека, которому безразлично, как отнесутся к его речам, она встала с намерением уйти. Повинуясь первому движению, Свидиров также встал. Некоторое время они молча глядели друг на друга, затем он сел и снова склонил голову над книгой.
Он ничего ей ответить не мог – какой смысл ее беспокоить? Никто, кроме него, не виноват в том, что случилось. Ему хотелось быть обманутым, и он добился своего.
Его предупреждали быть осмотрительным в расчетах… «Вы обещаете прокормить население земли спустя двести лет. Ученые не хотят и не могут так далеко заглядывать». Уже в ближайшие годы могут быть найдены средства поднять плодородие земли в десять и в двадцать раз. Химический синтез не сказал еще последнего слова. Кто знает, до чего дойдет научный прогресс в ближайшее десятилетие, как можно верить планам, рассчитанным на века…
Анна Ильинична была права, он действительно не находил себе места. Мучительные опасения не оставляли его. Что если в самом деле возникнут условия, которых сейчас предвидеть нельзя, и о хлорелле никто не вспомнит? Кто ему вернет потраченные усилия, десятилетня труда и надежд? Он попытался уйти от ответа, согласился, чтобы другие утверждали доброе имя хлореллы и великое дело творилось без него. Да, цель его жизни исчерпана. Ни сын, ни жена, ни тем более друзья ему не помогут. Только новая вера, что труды над хлореллой не были напрасны, вернет ему покой. Только сознание, что дело его жизни переживет того, кого некогда звали Свиридовым, даст ему силы трудиться и жить.
С женой об этом Свиридов но говорил. Беседа с сыном не принесла ему удовлетворения. Вспоминая о ней, Самсон Данилович с грустью думал, что он ужасно одинок. Говорят, он неисправим и в упряжке не хочет быть ни коренным, ни пристяжным…
Он действительно не хочет, но есть же вещи на свете, которыми поступиться так же трудно, как и расстаться с жизнью.
– Сознайся, – сказал сыну отец, – ты ведь втайне мечтаешь переделать меня, и не из каких-то расчетов, а в-о имя долга перед наукой.
Петр мог бы его разубедить или уклониться от ответа, не всякую правду надо отстаивать… Он ухмыльнулся и, подражая интонации отца, его же словами ответил:
– И ты ведь втайне мечтаешь переделять меня, и также во имя долга перед наукой.
Улыбка отца как бы подтвердила догадку сына.
– Пытаюсь, не скрою. Не могу только поздравить себя с успехом.
– В таком случае мне больше повезло. Ты повернулся лицом к современности, а я никогда с ней не порывал.
Ты хорошо сделал, что послушался меня, я все-таки тебе ближе, чем кто-либо другой.
В его дружелюбной усмешке было что-то от покровительственного вида боксера, одержавшего победу на ринге. Казалось, сейчас он протянет поверженному противнику руку, чтобы рукопожатием подтвердить свое превосходство.
Самсон Данилович не придал этой выходке значения и скорей из озорства, чем из желания обидеть сына, сказал:
– Быть ближе не значит сильнее греть. Людям тем холоднее, чем ближе земля к солнцу.
– Ты должен расстаться с твоим идеологическим вывихом, – ободренный миролюбием отца уже более смело заметил сын, – с несчастной склонностью обращать действительность в мечту. Такого мнения о тебе многие… Я знаю, как сильны в нас пережитки прошлого, они ведь допекают и меня.
– Откуда? – рассеянно спросил Свиридов, который в ту минуту думал о другом. – Ведь тебя не было на свете, когда с ними было покончено.
Сын снисходительно покачал головой: до чего этот человек наивен!.
– Остались люди, отец, – бодро проговорил он, – они эти пережитки для нас сохранили.
Свиридов продолжал размышлять, он думал, что сын – единственный человек, который мог бы подсказать, что ему делать. Оп неглуп, знает ботанику и серьезно увлечен хлореллой. Не стоит обращать внимания на его рискованный утверждения о преимуществе сущего над грядущим. Где грань между ними, да и возможна ли она?
– Все это, мой друг, пустое, нам надо поговорить о более серьезном и важном. Выслушай меня спокойно. Можешь возражать и не соглашаться, задавать вопросы и спорить, но дослушай меня до конца.
Сын был озадачен. Слишком много отец проявлял сегодня терпения, он давно его не видел таким. Уж не случилось ли с ним что-нибудь?
Отец молча придвинул стул сыну, уселся напротив и закрыл рукой глаза. Это означало, что рассказ будет долгим.
– Случается в театре, что актеру надо выглядеть значительным и крупным, а сам он непредставителен и мелковат. Такого артиста окружают на сцене низкорослыми людьми. Среди них наш актер кажется героем. В жизни такой маскарад встречается часто. Я знаю ученых, только тем и замечательных, что они много лет повторяют одну и ту же гипотезу, неотразимую тем, что искусно подобранные ученики – недалекие, лживые и хищные – ни сами эту идейку не превзойдут, ни другому этого не позволят. Идейка обратилась в источник благополучия для учителя и учеников, единственная забота которых не дать кому-либо увидеть, что король гол!.. Можешь ли ты себе представить Коперника или Ньютона, Тимирязева или Пирогова в такой незавидной роли? Нет! Им ли цепляться за истину, век которой – несколько лет? Только подлинная ученость совместима с величием духа… Тебе этого нельзя забывать.
Сын учтиво склонил голову и с подчеркнутой вежливостью спросил:
– А как же быть тем, кому до Ньютона не дотянуться?
– Ты хочешь сказать: не каждому под силу искать погрешности в законах и теориях, освященных веками? Напрасно. Никто не знает предела своих возможностей, нам остается лишь верить, дерзать и трудиться…
– Много брать на себя нескромно и невыгодно, – счел Петр своим долгом возразить. – II за то и другое приходится отвечать. Ты и сам убедился, как опасно для ученого слишком надеяться на себя.
Уже не впервые сын намекает ему на какую-то ошибку, говорит с ним, как с наказанным шалуном. Лучше бы он вспомнил собственные неудачи в филиале института и в Москве. Когда-нибудь, не сейчас, отец напомнит ему бесславную историю недавних дней, ничто в ней не будет упущено. Сегодня же он ждет от него совета, не может быть, чтобы сын не понял его.
– Но будем говорить обо мне, – просят его отец, – речь идет о цели в жизни. Один ставит ее перед глазами, а другой отодвигает далеко, чтобы до последнего вздоха, до самой смерти, тянуться к ней.
Теперь он поговорит о самом важном, спросит, как ему быть и что делать… Нет, рано, пожалуй… Сыну будет полезно выслушать еще один пример…
– Случилось это во время гражданской войны. Был у меня в отряде красноармеец Тихон Железной. Рассказывали, что он брата-белогвардейца морил голодом, добивался, чтобы тот не возвращался к белым. Брат не отступился, и Тихон его убил.
Был конец лета девятнадцатого года. Белогвардейцы с одной стороны, банды – с другой беспокоили отряд. Сидели как-то Свиридов и Тихон на броневике, и спрашивает командир красноармейца:
– Но жаль тебе брата?
– Людей всегда жалко, – отвечает тот, – и сердце другой раз за него болит.
– Значит, ты не спокоен, душа не на месте?
– С чего мне беспокоиться, – говорит Тихон, – не из корысти я человека убил… Одно дело для себя, другое – для порядка.
Командиру шел двадцать третий год, он был любознателен и многого не понимал.
– А справедливо ты поступил? – продолжал он расспросы.
– А хоть бы и несправедливо, – спокойно ответил красноармеец, – в большом деле не без греха. Революция раз в сотни лет бывает, и провести ее надо как следует.
Такова история. Далеко метил Тихон, на века заглядывал вперед… Тому же учила своего командира политрук отряда Маша Гордеева…
Отец положил руку на плечо сына и, словно это прикосновение могло ему передать тепло отцовского сердца и веру в грядущее, со счастливой улыбкой продолжал:
– Маша была крупной, рослой девушкой, с милым вздернутым носом и копной рыжих волос. Она явилась в отряд под Елисаветградом после ссоры с отцом, мастером большого завода. Спор был серьезный и рассорил их навсегда.
Гордеев верил, что дело его жизни – отстоять завод. И белые, и красные, и Петлюра, и Григорьев – одним миром мазаны, пропадай все на свете, было бы им хорошо. Никому до завода нет дела, растащат его и оставят рабочих без хлеба. Крепкая власть, вот что ему нужно, какая бы ни была, только бы сильная. Собрал мастер людей, обзавелся арсеналом – сабель, пулеметов, бомб и гранат припрятал, в вагоне-теплушке учредил штаб. Там решали, кому позволить в город войти, с кем воевать, кому уступить, кого обмануть, уничтожить. Ударят ночью в набат, и заводская братия хлынет на станцию, к вагону-теплушке. Бойцы и командиры, врачи и сестры, каждый знает свой пост, дело привычное, не впервые воевать. На постоялых дворах пекут и варят картофель, подводами грузят на фронт. Все назначены и избраны раз навсегда, даже мирная делегация одна и та же – с белым флагом на белом древке…