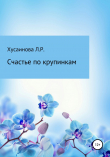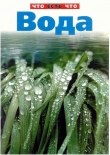Текст книги "Повесть о хлорелле"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
– Многие исследователи избегают ответственной темы. Они пишут диссертацию «по вопросу», который решался другими, «еще раз о том», что известно давно. Я но могу перепевать чужие мысли. Что же касается лепры, – вдруг вспомнила она возражения Каминского, – то в Европе она действительно вскоре исчезнет, по мне не менее жаль прокаженных Африки и Азии, а их там слишком много…
– Боже мой, – потерял наконец терпение Арон Вульфович, – вы, как и отец, начинены иллюзиями… К чему они вам?
– Мой отец не фантазер, – сухо произнесла она, – если он иногда и видит дальше других, то нельзя его за это слишком строго судить. Я понимаю, как трудно порывать с традицией, насчитывающей тысячи лет, но мне кажется, что другого выхода нет. Мне хочется иногда смешать все на свете и этой смесью лечить больных. Я так бы и сделала, но, вспомнив, как строго отец осуждает всякие поиски вслепую, я убеждаю себя не спешить. Я стараюсь не отчаиваться, брать пример с отца, ждать и терпеть… Если бы я могла, как он, выжидать! Ни ждать, ни надеяться я не могу, я должна что-то сделать, и как можно скорей… Мне кажется, что если бы я заболела проказой, трудности устранились бы сами собой… Что вы так смотрите на меня? Не беспокойтесь, Арон Вульфович, искусственно заразиться нелегко, да и характера у меня на это не хватит…
Вот когда Каминский наконец понял, что случилось с его любимицей, откуда эта перемена в ней. Девушку поразили недуги, свойственные ее отцу: безудержное влечение к беспочвенным мечтам, слепая покорность навязчивой идее и страсть, оттесняющая все радости жизни.
Слишком неожиданно было заключение. Арон Вульфович вначале не поверил себе, но, сопоставив случайно и не случайно подмеченные обстоятельства, он заключил, что она всегда была такой, ничто в ней не изменилось. Вопреки советам друзей и родителей, побуждаемая прихотью или случайным интересом, она из института ушла в лепрозорий и полюбила свое трудное дело. С той же решимостью, ценой ссоры с отцом, она последовала за своим чувством и переняла образ мыслей, язык и взгляды Золотарева. С неменьшей определенностью и страстью она прониклась мечтой решить проблему лепры. С ней, как и с отцом, бесполезно спорить, решил Каминский и, делая вид, что сочувствует ей, осторожно заметил:
– Спасибо за доверие, я охотно вам помогу… – Минуту спустя он как бы невзначай обронил: – Не лучше ли было бы вам помогать мне? Право, более верное дело.
– Вы не должны были мне это говорить, – просительно и вместе с тем твердо проговорила она, – гомеопатия никогда не заинтересует меня.
Каминский был готов к такому ответу, и все-таки ее усмешка покоробила его.
Спасибо за откровенность, его так же мало привлекает лепра, как ее – гомеопатия. Тратить время на болезнь, относительно которой известно, что ее скрытый период длится не то год, не то десятилетия, что возбудитель открыт и тем не менее неуловим, ни вырастить его в лаборатории, ни заразить им животное, ни выяснить толком, как он проникает в организм, невозможно – такого рода дело не для него… Какое безумие заниматься лепрой! Ведь в ней ничего определенного нет! Говорят, что она заразительна, но супруга прокаженного и его дети могут годами общаться с больным и оставаться здоровыми. Вчера еще пораженные ткани сегодня стерильны. Ни вакцины, ни сыворотки, ни лекарственные средства не могут больного излечить. Какая наивность в такой неразберихе вообразить себя способной что-нибудь предпринять! Он, конечно, не скажет девушке всей правды, но и не даст ей следовать по ложному пути…
Уж если отдать свои силы и самую жизнь науке, то разве лишь тому ее направлению, которое ждет успех… Спору нет, идеям надо честно и верно служить, но, беспочвенные, они нас истощают и рано лишают надежд. Он сам это изведал в своей трудной жизни – за частностями порой не замечал цели и, пренебрегая достигнутым, расточал свою страсть впустую. Неспокойная голова! Все ему казалось не на месте, воображение рисовало несчастья там, где были лишь трудности и неурядицы… Каких только глупостей он не натворил! То ему мерещилось, что юноши и дети лишены радостей благодатной весны. Именно в нору, когда пробуждаются силы природы и молодая жизнь тянется к ной, наступают экзамены – время затворничества и перенапряжения душевных сил…
С той же непримиримостью он ввязался в борьбу с законодателями модного спорта, людьми, призванными развивать выносливость и силы молодого поколения. «Я понимаю, – сказал он им, – когда рукоплещут акробату не столько из восхищения его искусством, сколько из приятного сознания, что возможности человеческого тела безграничны. Но как мириться с тем, что мальчишки и девчонки расшатывают свое здоровье, надрывают сердца в бессмысленном подражании спортсменам?» И в этом случае он всю силу своего беспокойства направлял мимо цели. Не средствами убеждения и не логикой доказательств, а непримиримым отрицанием всякого компромисса отстаивал он свою правоту…
Ему не нравились больничные порядки, произвол знаменитостей, легкость, с какой они передоверяют больных малоопытным помощникам. В клиниках ему казалось, что там порой экспериментируют на людях, а хирурги ложной шумихой заглушают голоса истинной науки.
Какое испытание – провести жизнь в напрасной борьбе! В тяжбах и стычках искать справедливость!
Неспокойные люди – тяжелое испытание для окружающих! С ним охотно расставались знакомые и друзья, его увольняли со службы по малейшему поводу. Благомыслящие врачи отворачивались от него, зато его поддержки искали неудачники. Их круг нарастал, а он становился все более одиноким. Тогда его осенила озорная мысль: публично отречься от академической медицины, столь дорогой его противникам, и объявить себя гомеопатом. Не то, чтобы это направление было дорого ему или его привлекало учение Ганемана, – он метнул в своих врагов тем, что ему самому было дороже всего на свете.
И на новом поприще мятежная душа не нашла себе покоя. Ему показались слишком тесными пределы, отведенные для врачей-гомеопатов. Недостаточно клиник, мало аптек и нет ни одной гомеопатической больницы. Нет общества врачей-гомеопатов. Многие из них с учеными степенями, все с высшим образованием, но ни обмениваться опытом, ни печатать свои труды они не могут.
Таково было начало. В новой среде Арона Вульфовича ждали новые огорчения. Число их росло, и его мятежный дух не стерпел. Он обрушился против тех, кто великое дело служения человеку подчиняет корыстным расчетам, кто невежеством оскверняет искусство врача. Не такими должны быть гомеопаты! Протесты и возмущение не принесли Каминскому славы, он стал чужим среди своих. Отчаявшись найти себе единомышленников, он отдался новой специальности, изучил все, что написано о теории и практике гомеопатии за полтораста лет. Арон Вульфович примирился со своим одиночеством, разработал и обосновал ряд лечебных приемов и стал задумываться над составом лечебного напитка, способного укрепить стареющее тело и продлить человеческий век. Люди могут и должны жить возможно дольше, говорил и писал Каминский. Толстой, Гете, Микеланджело и Филатов прожили свыше восьмидесяти восьми лет; академик Бах, Зелинский, Гамалея, Тициан – свыше девяноста; многие тысячи безвестных людей – до ста и больше…
Плодотворная работа была неожиданно прервана, когда сердце напомнило исследователю, что его собственная смерть не за горами. Стоит ли растрачивать последние силы, изнывать в напряженном труде, когда вместе с ним погибнут его завершенные и незавершенные труды… Сейчас, когда Юлия просила его помощи в лечении лепры, Арон Вульфович подумал, что девушка со своей любовью к лечебному искусству могла бы сохранить то, что им сделано, и продолжить его труд.
– Поговорим начистоту, – с той милой вразумительностью, с какой он всегда говорил с ней, предложил Каминский. Они сидели в ее маленькой уютной комнате, у самого окна, за которым моросил осенний дождь и бледнел уходящий день. Девушка тоскливо глядела на ненастное небо и, казалось, ничего не видела и не слышала вокруг себя. – Мы с вами врачи, – продолжал Каминский, – наше дело – лечить больных. Какой смысл тратить молодость на штудирование болезни, которая исчезает?
– Вы хотите, чтобы я занялась гомеопатией? – не отрываясь от окна, с кажущимся безразличием спросила она. – Я никогда не оставлю терапию.
Он улыбнулся и с той же вразумительной мягкостью сказал:
– Не советую оставлять, я и сам в нее засел на всю жизнь. Гомеопатия – та же терапия, такое же почтенное направление в медицине, как тибетское и китайское.
На это примирительное заявление последовал ответ, нисколько не согревший сердце Каминского.
– Я раз и навсегда заявляю вам – не трудитесь, ваше направление не интересует меня… – Она стояла перед ним, высоко подняв голову, сложив руки на груди и устремив на него взгляд более красноречивый, чем самое страстное заверение. – К врачу прибегают порой не столько за тем, чтобы излечить больного, сколько избавить семью от чувства бессилия и поддерживать в себе веру, что борьба продолжается и не все еще потеряно… Если мне пс удастся решить проблему лепры, я буду помогать их близким и родным, вселять в них надежды.
Словно исчерпав все тепло своего сердца, девушка поежилась и покрыла платком плечи.
– Вам, Арон Вульфович, но холодно? – спросила она. – Меня в последнее время ни с того ни с сего пробирает дрожь, даже руки немеют. Так хочется тепла, что не знаешь, куда деться. Отчего бы это?
Каминский деловито погладил свою пышную шевелюру и с притворной озабоченностью сказал:
– Все симптомы говорят о том, что болезнь не зашла еще далеко… Возбудитель страдания должен быть где-то близко… Не дальше Москвы.
Она улыбнулась, погрозила ему пальцем и сразу же заговорила о другом.
– Как же мы решаем, будете вы мне помогать?
Он кивнул головой, но в душе твердо решил сделать ее своей помощницей.
С тех пор Каминский при всяком удобном случае заговаривал с ней о лечебных приемах гомеопатии, подбирая для этого наиболее убедительные примеры. Вначале безразличная к его рассуждениям, она стала постепенно проявлять к ним интерес. Арон Вульфович истолковал это как доброе начало и передал ей статью знаменитого фармаколога Кравкова с просьбой подготовиться к серьезному разговору. Он обсудит с ней спор, затянувшийся в медицине на полтора века. Ей предстоит ответить ему и себе: следует ли больного лечить малыми дозами таких лекарств, которые, будучи приняты в большом количестве, сами вызывают такую же болезнь. Иначе говоря, лечить подобное подобным или прописывать большие дозы, исходя из правила: противоположное излечивается противоположным. Статья Кравкова ей в этом поможет. После многих лет опытов этот ученый убедился, что соли металлов, яды, стрихнин, никотин и другие лекарственные вещества, которым в больших дозах свойственно расширять или сужать кровеносные сосуды, в малых действуют наоборот. Чем больше эти вещества разбавлять, тем сильнее их влияние на сосуды. Некоторые яды, будучи разбавлены водой в миллионных и миллиардных пропорциях, все еще способны суживать сосуды. Уж не молекула вещества, говорит Кравков, а продукты ее расщепления с их электрическими зарядами, не материя, а ее энергия действует на организм целебно.
Принимая от Арона Вульфовича статью, она с усмешкой спросила:
– Это мне в наказание за то, что я вас заставила изучать лепру?
– Нет, – ответил он, – это вам в благодарность за урок.
При следующей встрече девушка долго восхищалась опытами Кравкова, о которых узнала впервые. Они на многое открыли ей глаза, и отныне она готова поверить всему, чему бы Каминский ее ни учил.
Арон Вульфович не сразу поверил удаче. Страстно желая в душе, чтобы девушка увлеклась его идеями, он ей усердно их внушал. Увлекательные примеры, подкрепленные доказательствами, датами, цифрами, должны были подтвердить, что чувствительность живых тканей беспредельна и ничтожные доли вещества могут оказывать на организм исключительное влияние. Запах розового масла продолжает нами восприниматься, когда оно растворено в двух миллионных частях воды; присутствие мускуса остается чувствительным для нас, когда концентрация его в воздухе достигает миллионных долей миллиграмма. Запах маркаптана действует на обоняние в одной шестидесятичетырехмиллионной доле миллиграмма…
Он привел ей пример с забавным опытом над бабочкой «павлиний глаз». Самка этого вида привлекает самцов пахучим веществом столь ничтожной концентрации, что человеческое обоняние не воспринимает его. В силу каких физических законов эти незначительные частицы материи насыщают пространство в несколько километров – трудно понять. С такой же вероятностью можно было бы надеяться окрасить Ладожское озеро крупинкой кармина или заполнить бесконечность нулем…
Ученый задумал разбавить запах вещества, выделяемого бабочкой, с другими ароматами и помешать самцам обнаруживать самок. В помещении, где находилась самка «павлиний глаз», рассыпали нафталин, расставили блюдца с керосином, с сернистыми основаниями и другими сильно пахнущими веществами. Хитрость не удалась: сквозь зловонную атмосферу до самцов доходил действующий на них запах, и они прилетали на его зов.
Влияние ничтожных количеств вещества на живую ткань человека оказалось не менее удивительным. Ферменты, образующиеся в клетках тканей, призванные регулировать и ускорять в них химические процессы, проделывают работу, кажущуюся невероятной. Одна молекула фермента, который превращает перекись водорода в воду, может разрушить около полумиллиона молекул перекиси водорода в секунду. Чтобы захватить одну из них, расщепить ее и отделить кислород, молекуле фермента отпущено две миллионных секунды… Молекула дыхательного фермента управляется со ста тысячами молекул кислорода в секунду. Сычужный фермент – экстракт из желудка рогатого скота – свертывает молочный белок в количестве, превышающем вес самого фермента в четыреста тысяч раз… Солод разлагает массу крахмала, превышающую его собственный вес в миллион раз…
Юлия воздала должное эрудиции Арона Вульфовича и попросила его приводить примеры более близкие к судьбе человека.
– У меня задерживается в памяти только то, – сказала она, – что может быть полезно для моих больных.
Каминский готов был уже исполнить ее желание, но неожиданная мысль заставила его призадуматься. Действительно ли ее привлекло дорогое его сердцу учение или она притворяется заинтересованной, чтобы потом посмеяться над ним.
– Скажите мне, – недоверчиво склонив голову набок и окидывая девушку испытующим взглядом, спросил Каминский, – вам понадобился наш разговор, чтобы заполнить несколько свободных минут, или наши беседы в самом деле вас занимают?
Она поспешила его заверить, что разговор доставляет ей удовольствие, для праздной болтовни у нее времени нет. Арон Вульфович может вполне быть спокоен, его умные уроки ей пригодятся. В одном лишь она ему не призналась, но об этом он узнает потом, обязательно узнает в другой раз.
Уверенный в том, что ему удалось склонить ее симпатии к его делу, он с еще большей настойчивостью ее наставлял:
– Не только фармакологи, но и врачи вам расскажут об удивительной чувствительности человеческих тканей. Люди, нерасположенные к йоду, страдают уже от стомиллионной доли миллиграмма йодистого калия, астматики переносят приступ бронхиальной астмы от запаха плесневых грибков, разведенных в ста миллионах частей воды… Сенная лихорадка возникает из-за исключительной чувствительности организма к цветочной пыльце… Туберкулин, растворенный в миллионах и миллиардах частей жидкости, вызывает заметную реакцию у больного туберкулезом…
– Погодите, Арон Вульфович, – остановила она его, – у меня от ваших доз закружилась голова. Расскажите лучше, что значит – подобное лечить подобным… Я что-то не представляю этого себе…
Вопрос почему-то развеселил Каминского, он притопнул ногой, рассмеялся, и на мгновение выглянули его молодые, сверкающие белизной зубы.
– Как так не представляете себе? – с выражением неподдельного изумления проговорил он. – Ваши врачи сплошь и рядом этому правилу следуют… Экзему они лечат серой, она же в больших дозах вызывает экзему. Против анемии применяют витамин Б-12, вернее содержащийся в нем кобальт, тот же кобальт в другой дозе порождает малокровие… Физиологи знают, что нет лучшего способа заставить железу вырабатывать свой сок, как смазать ее собственным соком. И слюнная железа, и слизистая оболочка кишечника, будучи таким образом смазаны, начинают усиленно выделять свой секрет… Чтобы ускорить образование желчи в печени, в вену вводят желчь… Неужели учителя вам этого не говорили? Ай, как плохо они вас учили! Вам известно, надеюсь, что углекислота, когда ее в организме много, приводит к расстройству дыхания и удушению. Знаете также, что этих больных спасают тем, что дают им малые концентрации углекислоты, то есть лечат подобное подобным…
Напрасно Арон Вульфович искал на лице девушки выражение удовольствия или одобрения. Ее сосредоточенный взгляд, плотно сжатые губы и набегающие на лоб морщины говорили о напряженном размышлении. Обдумывала ли она то, что услышала сейчас, или мысль ее была занята чем-то другим – кто знает. У Каминского вновь зашевелились подозрения, Юлия хоть и слушала его с интересом, но, как ему показалось, искала в его словах ответа на собственные сомнения. Возможно и другое: она собиралась поспорить с ним, заставить проникнуться к ней уважением…
Словно в подтверждение этих опасений, Юлия облокотилась о стол, подперла голову рукой и голосом, в котором звучала непоколебимая уверенность и сознание собственного превосходства, сказала:
– Ваши примеры не убедили меня. Лечить подобное подобным – значит вводить заразному больному дополнительную порцию вируса или микробов. Может быть, и мне поступить так с моими больными?
– Конечно, конечно, только так, – сразу согласился он, – заметьте, ничего нового в этом не будет. Так поступают уже со времен Пастера.
– А я, вообразите, не знала, – с той самоуверенностью, с какой дети говорят со взрослыми, когда речь заходит о забавах, которые известны лишь им одним, проговорила она.
– Не клевещите на себя, – многозначительно усмехаясь, сказал Каминский, – вы хорошо знаете, что инфекционные болезни предотвращают вакциной, под кожу и в кровь вводят микробов, которые подобную же болезнь вызывают. Когда причиной страдания, как при столбняке, служит токсин, больному вводят ослабленный токсин. Укушенного бешеным животным спасают от смерти прививкой ему живого вируса бешенства. Заболевшему дифтерией вводят сыворотку крови лошади, перенесшей эту болезнь… Иногда вакцину готовят из микробов, выделенных из организма самого больного, то есть возбудитель болезни становится лечебным средством…
Он говорил так, словно перед ним была студентка первого курса. Что поделаешь, она сама этого добивалась. Кто же забывает, что инфекционные болезни предупреждают и лечат тем самым возбудителем, который эту болезнь вызывает?
– Трудно, конечно, себе уяснить, – с притворной наивностью продолжал он, – как можно организм, нафаршированный токсином или губительными микробами, спасать дополнительной порцией того или другого! Скажете, что возбудитель и его яды ослаблены и растворены. Но ведь и наши лекарства потому растворены, что иначе они вредны, как и неослабленные микробы.
Девушка сделала нетерпеливое движение, ее, видимо, раздражали его назидательный тон и лукавая усмешка. Она покачала головой, точно отгоняла от себя непрошеную мысль, и, взглянув с укором на Каминского, промолчала. Он сделал вид, что ничего не заметил, и с той же настойчивой уверенностью продолжал:
– Не мне вам объяснять, что антивирус – это часть микроба, которая отделилась от материнской почвы. Вы знаете, конечно, что им лечат болезни, вызываемые тем микробом, который его породил. По сути дела это тот же возбудитель, в одном случае порождающий заболевание, а в другом – излечивающий его.
Каминскому все еще не давала покоя мысль: почему девушка с таким волнением следит за каждым его словом? Что скрывается за ее сосредоточенным взглядом и вынужденным спокойствием? Спросить ее об этом? Какой толк. Прежняя Юлия с завидным простодушием выложила бы все начистоту. С тех пор она многому научилась и сейчас непременно промолчит.
– Вы подобрали ряд удачных примеров, – с плохо скрываемым безразличием сказала она, – найдутся доказательства, невыгодные и для вас. Серьезные ученые утверждают, что основы гомеопатии противоречат законам нормальной физиологии, организм функционирует и лечит себя по-другому. Учение, которое не исходит из природы человека, не может иметь успеха.
– Ну что вы говорите, – взмолился огорченный Каминский, – экую глупость вы сморозили! Я не знаю, что думают серьезные ученые, но организм функционирует и лечит себя так, как если бы мы, гомеопаты, спроектировали его…
Это ей за пренебрежительный тон, за самоуверенность и попытку прикрыться авторитетом «серьезных ученых». Ничего с ней не будет, она немного поморщится, поразмыслит на досуге и успокоится.
Она промолчала, и Каминский не без чувства раскаяния, более спокойно продолжал:
– Физиологию забыли, нехорошо! Кто же не знает, что наиболее сложные жизненные процессы осуществляются бесконечно малыми частицами химических веществ. Из желез внутренней секреции поступают гормоны столь ничтожной величины, что они проходят сквозь стенки клеток. От их избытка или недостатка зависят наши жизнь и здоровье. Секрет надпочечников – адреналин – выполняет свое назначение в сверхгомеопатических дозах. Гормон щитовидной железы повышает основной обмен у человека уже тысячной долей грамма. В опытах этот гормон не утрачивает своего воздействия на живую ткань, будучи разведенным в пяти миллионах частей жидкости… В таких же малых концентрациях используются в организме витамины, недостаток или избыток которых грозит человеку страданиями и гибелью… Даже передача возбуждения от нерва к мышцам осуществляется бесконечно малыми частицами выделяемого нервами вещества. О сило его действия можно судить по тому, что, разбавленный в ста миллионах частей жидкости, он сохраняет способность замедлять ритм изолированного сердца лягушки… Все эти невидимые и неощутимые продукты организма плавают в русле, насыщенном ничтожно малыми телами, и каждую секунду в этом потоке рождается десять миллионов красных телец… Чем не гомеопатическая лаборатория! Будете возражать?..
Арон Вульфович предвкушал победу. Он решил отстоять свою точку зрения, благо никто ему не мешал.
– Почти все химические элементы земной коры жизненно необходимы нашему организму. Такие сильнейшие яды, как кобальт, медь, серебро, цинк, ртуть, свинец, радий, олово, фосфор и многие другие, курсируют в крови и тканях. Легко себе представить, в каких бесконечно малых долях миллиграмма используются эти элементы, если пять сотых грамма фосфора вызывает острое отравление, а такое же количество кадмия – смерть…
Арон Вульфович умолк. То ли ему показалось, что он исчерпал свои доводы, то ли хотелось послушать свою собеседницу. Он ободряюще взглянул на нее, как бы приглашая вступить в разговор. Она жестом поблагодарила и улыбнулась. Словно эта улыбка пробудила у Каминского нечто затерянное в недрах его памяти, он спохватился и сказал:
– Еще вам следует запомнить, что основные заболевания человека вызываются ничтожно маленькими микробами и еще более незначительными вирусами, а сопротивление им оказывают такие же бесконечно мелкие тельца – фагоциты, антитела… Повторите теперь, что основы гомеопатии противоречат законам нормальной физиологии, организм функционирует и лечит себя по-другому…
– Спасибо, Арон Вульфович, – тепло пожимая ему руку, сказала девушка, – на этот раз я ничего полезного для моих больных не извлекла, в другой раз я возможно буду счастливей…
Вот когда Каминский наконец понял, чего она от него ждала. Не гомеопатия и ее законы занимали ее, она мысленно видела своих больных и думала об их спасении. Дочь фантазера и мечтателя, на кого, как не на отца, быть ей похожей? Такая же, как он, своенравная и упрямая, где уж трезвому голосу рассудка дойти до нее…
Лина Ильинична отнеслась к этим беседам более определенно. Она отчитала своего друга за излишнее вмешательство в чужие дела и запретила ему смущать покой дочери. В этот день пришло известие о болезни Свиридова. Анна Ильинична решила сегодня же ехать в Москву. Времени до отхода поезда оставалось немного, и беседа друзей происходила между делом. Укладывая вещи, роясь в шкафу и в открытом комоде, она время от времени задавала Каминскому вопросы и отвечала.
– Я не очень понимаю, Арон, – со свойственной ей деловитостью спросила она, – чего ради ты стараешься, что тебе от нее надо?
Арон Вульфович знал свою подругу детства и мог безошибочно сказать, что начало разговора ничего хорошего не предвещает. Бывало, что, поддавшись его уговорам, она уступала, но это случалось редко.
– Я давно уже думаю, что ей следует уйти из лепрозория… – стараясь придать своему голосу возможно больше твердости, проговорил он. – Эта работа ей не подходит.
– Ты так думаешь? – вытягивая из комода зонтик и тщетно пытаясь засунуть его в чемодан, спросила она.
– Несомненно, – с той же несокрушимой твердостью подтвердил он. – Она отдает этому делу много времени и сил, откуда только у нее столько упорства.
– Упорства много, – покончив с зонтиком и пытаясь что-то найти на дне комода, согласилась она, – в этом отношении Юлия вся в отца. Я, к сожалению, всегда уступала и ничего не смогла довести до конца… Так ты говоришь, что лепрозорий не для нее. Что же ты ей советуешь?
Руки ее угомонились, взгляд оторвался от комода и выжидательно уставился на Каминского. Эго придало ему решимость, и он сказал:
– Я советую ей заняться гомеопатией… Она могла бы продолжать мое дело… Я не был бы так одинок, и ее старания нашли бы себе правильное применение…
– Так вот что, Арон, – снова принимаясь за работу, твердо проговорила она, – оставь ее в покое, она лучше нас знает, чем ей заниматься.
– Я желаю ей добра, – не сдавался Каминский. – Я всегда помогал тебе воспитывать ее. Ты не можешь со мной не считаться. Я был для нее вторым отцом…
– Не говори глупостей, Самсон всегда ее любил.
– Ля воспитывал…
– С некоторых пор ты уже не справляешься с этим… Для тебя и для Самсона она все еще ребенок, для меня она – взрослый человек. Я дала ей свободу распоряжаться собой, когда это вам еще в голову не приходило. Запомни это и передай Самсону: взрослые дети не любят, когда не сводят с них глаз. Родители должны уметь видеть и не замечать.
– Но ты согласна, что у лепры пет будущего? – искал ее сочувствия Каминский, – эта болезнь доживает свой век.
Она не намерена была ему уступить. II первый, и второй отец одинаково не вызывали у нее доверия.
– Нельзя вносить сомнения в душу девушки. Важно не то, чем она занимается, а в какой мере это занятие согревает ее…
Перед самым отходом поезда, прощаясь, Лина Ильинична сказала:
– Присмотри здесь за ней, помоги, чем надо, и по морочь ей голову гомеопатией.
* * *
Болезнь нагрянула внезапно острой болью в затылке, звоном в ушах и страшной слабостью. Пересилив наступающее беспамятство, Свиридов успел вызвать по телефону врача и тут же свалился. Перед глазами пошли красные и желтые круги, их бег нарастал, сливался, пока огненный круговорот но захлестнул его. С той минуты исчезли грани между сном и явью, настоящее и прошлое смешалось. Обессиленная мысль то всплывала из глубин водоворота, то вновь погружалась в него. Тело стало нечувствительным, и в нем словно больше не было нужды. Течение времени замерло, либо дни и ночи, словно сбившись с пути, стремительно сменяли друг друга, либо надолго утверждалась ночь. Неизменно шумела листва деревьев и шел проливной дождь… Окружающий мир, лишенный очертаний и подернутый мглой, утомлял, и больной легко расставался с ним.
Свиридов впервые подумал о себе и понял, что заболел, когда солнечный свет ослепил его и глаза различили в кресле дремлющего Арона Вульфовича. Окликнуть старого друга он не смог – голос не слушался. Дать о себе знать движением руки ему также не удалось – тело словно онемело. Больной еще раз попытался заговорить, поднять упавшие веки и решил, что он умер. Как бы в подтверждение ему послышались плач и причитания. Голоса были чужие, неприятные, кто именно оплакивал его, он так и не узнал. В перерывах между воплями плачущих доносились обрывки неясного шепота и монотонно звучала надгробная речь. С ужасающей настойчивостью упоминалось его имя и повторялись где-то слышанные, знакомые слова:
«Есть люди, о которых трудно сказать что-нибудь такое, что неизвестно другим… Они словно были раскрытой книгой, и кто хоть раз в нее заглянул, никогда ее не забудет… Он так умел верить, что в душе его не оставалось уголка для сомнений… Поверив в революцию, в ее живительные силы, он и в пору радостей и испытаний оставался ей верным и эту веру унес с собой…»
Почему – «был», хотелось ему возразить, почему – «унес», но, сообразив, что ему не следует спорить с живыми, промолчал.
«Он верил в благотворную силу знания, и на ложе болезни, и в часы расставания с жизнью, мысли о науке, которой он не мог уже служить, были источником его величайших страданий… Его жизнь была прекрасна, и мучительно сознавать, что этой жизни больше нет… Утешимся мыслью, что нам, выпало счастье с ним жить, выпало счастье его знать…»
Какие знакомые слова! Не он ли сам произносил их однажды?..
После того как Свиридов в первый раз пошевелил правой рукой и разглядел подле себя жену и Каминского, мысли о смерти отступили. Больного тревожило другое – что его ждет? Болезнь лишила его речи и парализовала левую часть тела. Похоже на то, что у него кровоизлияние в мозг. Долго ли протянется это состояние? От воли больного, говорят, многое зависит. Что если упражнять тело и речь? Неужели болезнь не отступится? Или лучше потерпеть? Арон выручит его из беды. Обязательно выручит, Анна поможет ему. Никто в его смерти не заинтересован… Положительно никто… Ведь ученые плохие наследодатели… Кеплер оставил семье 22 экю, две рубашки, 57 экземпляров своих «Эфемерид» и рукопись астрономического романа… После Парацельса осталось не больше – 16 флоринов, библия и домашний скарб…
…Употребить свою решимость, чтобы поставить себя на ноги, Свиридову мешало несколько странное обстоятельство. Оно возникло в те дни, когда сознание его только стало проясняться. В него вселилась тоска, омрачавшая радость выздоровления. Она тревожила и не давала покоя, словно напоминая о чем-то близком и важном, утраченном навсегда. Одно время ему казалось, что это душевная слабость после пережитого, кризис, за которым придет исцеление. Шли дни и недели, а безотчетная грусть не унималась. Сколько Свиридов ни убеждал себя, что ничего не случилось, внутренний голос твердил о печальной утрате, которую не возместить.