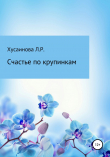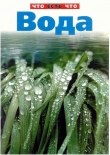Текст книги "Повесть о хлорелле"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Она сердито пожала плечами и неодобрительным тоном заметила:
– Извините меня, Самсон Данилович, похоже на то, что вы разучились поддерживать серьезную беседу.
Свиридов не подозревал, что его старая подруга так непреклонна в своих суждениях. Ничего подобного за ней раньше не водилось… Отвлеченная беседа грозила обратиться в принципиальный спор. Дальнейшие препирательства могли повернуть мысли Александры Александровны на путь театральной «аналогии», и Самсон Данилович прибегнул к спасительной шутке.
– Внутренне я согласен, что мужчина – великая удача природы, но по старой привычке я продолжаю склонять свои симпатии к женщине.
То ли ей не понравилась шутка, то ли Александра Александровна поняла, что Свиридов действительно не склонен поддерживать разговор, – она окинула его недовольным взглядом и запальчиво сказала:
– В прежние годы сложные вопросы делали вас словоохотливым. И мне было чему поучиться, и вам приятно было поговорить. Может, я изменилась, и со мной уже неинтересно вести серьезный разговор…
«Напрасно она утверждает, что мы призваны их возвышать, – думал Свиридов. – Я никогда не пытался навязать жене свой образ мыслей. Мне было не до того, я был слишком занят. Вряд ли Анна нуждалась в этом».
– Выходит, мой друг, – с примирительной улыбкой произнес Свиридов, – что, оставшись вне брака, вы лишены были в жизни одного из величайших благ.
Он с неожиданным увлечением прильнул к программа спектакля, не очень искусно скрывая свой интерес к ее ответу. Как и в тот вечер, когда, возвращаясь из балета, она сказала, что в душе считала его своим мужем, в ее голосе проскользнули уже знакомые Свиридову жесткие нотки.
– Я не была одинока, у меня были вы. Я жила вашими мыслями и идеями. За десять лет вы прислали мне свыше ста писем, каждой букве в них я верила и каждому слову поклонялась… Так заочно вы формировали меня. Я говорила уже вам, что ваши испытания этот союз укрепляли.
Неужели они так же скрепляли его союз с женой? Его борьба и испытания не дали обмелеть ее жизни, несчастья служили ей опорой? Александра Александровна сказала бы, что он слишком мало сделал для жены, она обошлась без поддержки и помощи мужа. Что ж, не всякому такая задача под силу. Нельзя требовать от людей невозможного. Ободренный этой мыслью, он уверенно и твердо повторил:
– В браке каждый живет сам по себе, вы меня не переубедите. Многие мужчины собственной судьбы никак не устроят, – где им формировать характер своей подруги?
– Характер таких мужчин, – едко заметила Александра Александровна, – формирует женщина. Она взваливает жизненные тяготы на себя и собственным примером пытается в мужчине утвердить мужество. Настойчивые, сильные, с мужскими повадками, они всякими путями отстаивают беспомощного супруга. Я подозреваю, что любовь таких мужчин питается мужеством, которого сами они лишены.
И в следующем антракте, и на обратном пути из театра, и на другой день беседа друзей, то утихая, то разгораясь, не прекращалась. Тема о роли мужчины в судьбе женщины сменилась другой и третьей. Самсон Данилович слушал и удивлялся, как мало он ее знал. Ее рассуждения были зрелы, мысли выношены, логика неуязвима. Она смело затрагивала любую тему, заговаривала о том, чего многие избегают касаться, а высказав свое мнение, твердо стояла на своем. О вековечных раздорах между отцами и детьми Александра Александровна сказала:
– В этом споре виноватых нет, и те и другие правы. – Недоумение Свиридова она отвела вразумительным доводом: – Поведение детей определяется их характером и влиянием окружающей среды. Первого им выбирать не дано, а выбор среды зависит от того же характера. Правы и родители. Горестна отчужденность детей, этого лишения ничем не возместить. Никакая намять не воскресит так былых радостей родителей, как сохранившаяся нежность детей.
Свиридову показалось, что при последних словах она как-то странно на него взглянула. Что означал этот взгляд? Бывает, что годами сокрытое чувство пугливо прорвется наружу и снова исчезнет. На одно лишь мгновение выглянула мечта, а тревогу посеяла надолго. Самсон Данилович не скоро собрался с мыслями, а опомнившись, торопливо стал утверждать, что рассуждения Александры Александровны не удовлетворили его. Она делает ответственными родителей за наследственные свойства детей, но ведь и родители в свое время этих свойств не выбирали.
Она усмехнулась: какой он недогадливый, просто ребенок в житейских делах.
– Этим и подтверждается, – наставительным тоном проговорила она, – что виноватых нет, те и другие правы.
Накануне отъезда из Москвы Свиридов с утра ждал Льва Яковлевича, чтобы отправиться на выставку памяти Шопена. Было уже часов одиннадцать, когда неожиданно пришла Александра Александровна. Она принесла интересную новость и журнал Академии наук, в котором эта новость занимала изрядное место. В статье сообщалось, что в некоторых странах хлореллу стали разводить в искусственных прудах и откармливать ею рыбу. Выращивание водорослей потребует больших затрат.
– Что вы скажете об этой замечательной идее, – протягивая ему журнал, спросила она. Ее улыбка приглашала его признать, что событие заслуживает внимания и что пришла она сюда неспроста.
Самсон Данилович перелистал тощий журнальчик и, но читая статьи, положил его на стол. Некоторое время он словно собирался с мыслями, взял снова журнал со стола и, машинально свертывая его в трубку, сказал:
– Хорошая идея… Надо бы кому-нибудь этим заняться.
– Я бы занялась, – последовал быстрый ответ, – по мне понадобится опытный руководитель… Такой хотя бы, как вы…
Свиридов не видел ни тонкой усмешки на ее полных, все еще свежих губах, ни странного блеска в глазах. Мысленно перебирая имена известных специалистов, он думал о том, кого бы ей предложить. Она не стала дожидаться ответа, его рекомендации не интересовали ее.
– Почему бы, например, вам не заняться этим? – с видом человека, который напал на счастливую идею, наивно спросила она. – Вы будете работать у себя, я здесь, а опыт и успех – общий.
Он принял это за шутку и с той же наивной интонацией проговорил:
– Мы даже могли бы заключить договор соревнования. Чем плохая идея? Премия достанется тому, кто больше выгод извлечет из дела.
Александра Александровна взглянула на Свиридова, и в этом взгляде отразились упрек и чувство неловкости за него. Надо же так неудачно пошутить! Смеяться над тем, что, возможно, дорого другому, сводить к нелепости идею, не разобравшись в ней…
Чтобы скрыть свое огорчение, она прошла в другой конец комнаты и остановилась перед копией картины Айвазовского «Девятый вал». С некоторых пор множество скверных копий наводняли магазины и стали навязчиво пестреть в ресторанах и гостиницах. Жертвой неудачливых живописцев стали известные полотна Репина, Айвазовского и Шишкина. Вид грубо намалеванной картины, которую Александра Александровна в подлиннике любила, усилил ее неприятное чувство, и она с едкой иронией, которую следовало бы скорей адресовать художнику, чем ученому, сказала:
– Удивительно, до чего вы не понимаете людей и но знаете жизни! Я бы вам не только свою, по и чужую жизнь не доверила устраивать.
Самсон Данилович удивленно пожал плечами. Он перебрал в памяти все, что сказал ей, и ничего обидного не нашел. В эти дни она часто выходит из себя и не всегда справедливо сердится. Сейчас, как будто, нет и причин, неудобно даже извиняться.
– Не надо сердиться, – пытался он успокоить ее, – не угодно соревноваться – не надо… Обидно, что я о выгодах заговорил? Простите.
Александра Александровна рассталась с «Девятым валом», села и с той внешней безмятежностью, которая для опытного глаза означает большую опасность, чем безудержный гнев, проговорила:
– Я много думала над вашими злоключениями и поняла, что горести и беды, испытанные вами, ничему вас не научили. Вы по-прежнему не понимаете психологии людей.
С тех пор, как Свиридов выслушал грустную повесть ее жизни, он столь остро чувствовал свою вину перед ней, что готов был от нее любое стерпеть. Что значат дерзости, незаслуженные упреки, по сравнению с тем, что она пережила за эти двадцать лет? Так ли уж важно, справедливы или несправедливы ее укоры? Сейчас ее влечет собирать жатву на рыбных прудах, ей кажется, что это вернее всяких долголетних экспериментов, – пусть. Анна Ильинична охотно бы с ней согласилась. Удивительно, до чего женщины скроены на один лад, им случайная удача милей всяких поисков и трудов.
– На первом плане у вас логика, – продолжала она, – вам нет дела до психики людей, а ведь она управляет человеческим поведением. Подумали ли вы, что руководит теми, с кем вы воюете? Легко ли им? Они призваны выявлять беспочвенные идеи, все силы их ума направлены на то, чтобы отличить подлинное от фантазии. Дело нелегкое, ответственное, и вдруг являетесь вы и огорошиваете их задачами, в которых возможное и невозможное сочетаются так, что но каждому под силу одно от другого отличить. Вы обещаете прокормить население земли спустя двести лет. Ученые не хотят и не могут так далеко заглядывать. Человеческая психика ограничена во времени, только настоящее и близкое будущее способны внушать нам какие-либо чувства, вооружать надеждой и терпением.
Она сидела в кресле с непринужденным спокойствием, а Свиридова эта невозмутимость почему-то беспокоила. Ни одно движение не выдавало ее душевного состояния, а ему все более становилось не по себе. Он чувствовал, как пробуждается в нем безотчетная тревога, она нарастает и метает слушать и понимать. Он всматривался в ее лицо, искал в нем причину своего беспокойства и не находил.
– Ученые с вами не согласны, – размеренно звучала ее речь, – и не без основания. Они не могут принять планов, рассчитанных на века. Уже в ближайшие годы могут быть найдены средства поднять плодородие земли в десять и в двадцать раз. Химический синтез, который искусственно копирует все вплоть до гормонов, не сказал еще последнего слова. Кто знает до каких совершенств дойдет научная мысль в ближайшее десятилетне, а вы требуете веры в расчеты, которые осуществятся спустя двести лет. Ученые не должны расточать своего доверия. Не хотите мириться с людской ограниченностью – снизойдите к несовершенству человеческой психики. Им кажется, что вы повторяете ошибку Мальтуса. Предложите им что-нибудь менее спорное. Они не хотят заглядывать слишком далеко – передвиньте ближе грядущее, сделайте будущее настоящим.
Разговор был прерван появлением Льва Яковлевича. Свиридов вначале смутился. Он вспомнил, как бестактно представитель главка намекал на какую-то близость между ним и Александрой Александровной, и, поддавшись мысли, что Лев Яковлевич может к этому проявить излишний интерес, хотел предложить ему прийти позже. Еще одна причина вынуждала его так поступить. Свиридов все еще ждал, что Александра Александровна закончит чем-то очень обидным для него и хотел это выслушать без свидетелей. Он стал подыскивать предлог, чтобы отослать Льва Яковлевича, но в последнюю минуту рассудил, что присутствие лишнего человека сделает ее нападки более умеренными, и оставил его.
– Присаживайтесь, Лев Яковлевич, – придвигая ему стул, предложил Свиридов, – у нас тут завязалась любопытная беседа. Кто знает, не понадобится ли нам арбитр. – Он потер руки и хрустнул пальцами от удовольствия.
Александра Александровна взглядом выразила согласие иметь его своим арбитром и с прежней интонацией невозмутимого спокойствия продолжала.
– Будущее должно стать желанным для настоящего, иначе в него не поверят. Люди трудно привыкают к новым идеям и особенно неподатливы, когда новшество покушается на их пищевой рацион. Потребуйте, чтобы европеец съел гусеницу, – он предпочтет претерпеть любые лишения, в то время как туземное население субтропической Америки ради этого лакомства часами ковыряется под корой пальмового дерева. Население индийской деревни с омерзением отворачивается от куриного яйца или цыпленка. Ацтеки откармливали собачек для своих пиршеств. Сотни миллионов магометан и евреев не едят свиного мяса, предрассудок этот держится тысячи лет. Люди веками противились введению в пищу картофеля, чая, спиртных напитков, объявляли грехом курение табака. Будущие поколения не примут хлореллы, если ее не одобрят их предки. То, чего не было в настоящем, не утвердится в будущем, – закончила она сдержанной улыбкой, которая в равной мере была адресована тому и другому слушателю.
Свиридов, подавленный тревожным чувством, не оставлявшим его, с трудом понимал, что говорит Александра Александровна. Откуда, казалось бы, это смятение, предчувствие чего-то неотвратимого? Не смешно ли тревожиться? Что может его ждать – упреки, недовольство, обидные замечания доброго старого друга? Не исходит ли эта тревога от больного сердца? Тогда лучше помолчать или заговорить на другую тему? Он хотел отмолчаться, но, заметив, что Лев Яковлевич с интересом слушает Александру Александровну, сказал:
– Я полагал, что вы хотели мне сообщить нечто важное. Может быть, с этого и начнем?
– Вы правы, – согласилась она. – Когда мы говорили о психике ваших противников, я указала, что вы но можете не считаться с ней. Сейчас мне показалось, что я нашла нечто такое, что примирит вас с ними. Решение одинаково приемлемо для вас и для них. – Она некоторое время помолчала и, как человек, которому предстоит взять крутую вершину, глубоко вздохнула. – Человечество, как вы знаете, переживает острый недостаток в белковой пище, – продолжала она, – по мере роста населения нужда эта вряд ли уменьшится. Не посвятить ли вам хлореллу гуманной цели, утолить этот голод, послужить нашему сегодня без ущерба для далекого будущего? Том временем наша водоросль будет улучшена и люди привыкнут ею питаться. Отцы и дети повоюют с непривычной пищей, а внуки примут ее как должное. Мы ведь едим не то, что любим, а то, что упрочилось на нашем столе… Никто после этого не упрекнет нас, что мы ради будущего пренебрегаем настоящим, фантазию предпочитаем подлинной науке… Не спешите только с ответом, прошу вас, – умоляюще взглянув на него, проговорила она. Прежняя невозмутимость оставила ее, она снова была такой, какой он знал ее много лет, – мягкой, ласковой и уступчивой. – Соглашаясь со мной, вы ничем не поступаетесь, – взволнованным шепотом продолжала она, – кроме формулировки… Вы поможете мне и многим другим добывать белки в рыбных и животноводческих хозяйствах.
Так вот она чем собиралась его удивить! Как наши сердца порой недогадливы. Стоило ли беспокоить себя и других, чтобы повторить то, что давно известно. Никому другому Свиридов не простил бы причиненных ему огорчений, ни тем более вмешательства в его дела. Удивительно только, почему эти советы, не столь уж новые и оригинальные, сейчас показались ему и разумными и логичными? Он не станет с ней спорить и объясняться, пусть Лев Яковлевич это сделает, у него и сил и терпения больше. Притом же арбитру она не станет возражать.
– Что вы думаете об этом предложении? – с ободряющей интонацией и поощрительным кивком головы спросил Свиридов. – Можем ли мы его принять?
На Льва Яковлевича можно положиться, он рассеет ее иллюзии с первого слова.
Золотарев немного подумал и, обращаясь к Александре Александровне, сказал:
– Я хотел бы еще немного вас послушать.
Самсон Данилович согласился и жестом пригласил ее продолжать разговор.
– Я право не знаю, что еще сказать, – напряженно подыскивая ответ, неуверенно проговорила она. – Если только добавить, что новое положение даст нам много друзей и поможет продолжать исследования. О наших работах сейчас знают немногие, зато, по мере того как рыбоводы, животноводы, тысячи тружеников и специалистов ознакомятся с хлореллой, они станут нашей опорой. С такими помощниками мы многого добьемся.
По мере того как Лев Яковлевич слушал ее, выражение его лица становилось все более напряженным и складки густо покрывали лоб. По всему было видно, что ему предстоит сказать нечто такое, чему он сам не рад.
– Простите меня, Самсон Данилович, но я буду откровенен, – овладев собой, уверенно проговорил Золотарев. – Выступая против планов директора филиала, я, как вам известно, не был против использования хлореллы в наших хозяйствах. Только опасение, что реконструкция завода скомпрометирует полезное дело, вынудило меня на этот шаг. Хлорелла может и должна служить практическим нуждам страны. Особенно сейчас, когда в белке такой острый недостаток.
Свиридов, который не ждал такого ответа, с досадой пожал плечами.
– Странно, что вы оба одновременно оказались чувствительными к белку.
– Кроме нас, это почувствовал весь мир, – рассудительно ответил Золотарев. – Я согласен также с тем, что нам нужны друзья не только из среды ученых, но и в народе. Докажите сельскому населению, что оно грошовыми затратами сможет иметь вдоволь рыбы, что для этого достаточно отвести из речки воду в три небольших пруда – в одном выращивать хлореллу, в другом этой хлореллой плодить рачков, а в третьем – рачками кормить рыбу – и недовольство ученых потонет в многомиллионных голосах наших друзей. Как им не поддержать нас, ведь мы им приносим изобилие! Они весной запускают крошечную рыбешку в двадцать граммов, а осенью извлекают рыбину в восемьсот, набирают с гектара до трех тонн добра… Всюду, где есть речушка или другой источник воды, будет рыба, и тысячи людей будут обогащать пас своим опытом.
Александра Александровна порывисто встала и пожала руку Золотареву:
– Прекрасно! – с воодушевлением сказала она. – Будет нелегко это осуществить, но вы справитесь. Желаю удачи. Учитель у вас будет такой, – бросив восхищенный взгляд на Свиридова, закончила она, – что позавидуешь.
Свиридов слышал о плане Золотарева впервые. Странно, что он никогда не обмолвился о нем. И какое совпадение: рыбные пруды для разведения хлореллы предлагают в один день и час Лев Яковлевич и Александра Александровна. Уж слишком все похоже на сговор, каждый как будто отстаивает свое, не удается врозь – пробуют сообща. Подозрительность Свиридова еще более возросла, когда Лев Яковлевич и Александра Александровна обменялись многозначительной улыбкой. Он словно благодарил ее за поддержку.
– Насколько я вас понял, – поочередно окидывая их насмешливым взглядом, заметил Самсон Данилович, – вы хотите неспециалистам предоставить изучать хлореллу? Вы все-таки думаете, что они могут быть нам полезны?
Лев Яковлевич не понял насмешки и стал горячо уверять, что пруды станут лабораториями и руководить ими будут агрономы. Колхозники внесут свои знания и опыт. Из них нередко выходили прекрасные специалисты.
– Наш знаменитый ихтиолог, эмбриолог и путешественник Бэр, – продолжал Золотарев, – писал в своем письме к адмиралу Крузенштерну, что простонародье почти всегда пролагало пути научным изысканиям. Сибирь с ее богатствами открыта людьми из народа. Наиболее предприимчивые открыли всю цепь островов Берингова моря и весь Западный берег Северной Америки.
Александра Александровна сразу поняла, что Самсон Данилович посмеялся над ними, но не уяснила еще себе, что скрывается за его насмешкой. Отвергает ли Свиридов их предложения или ему просто захотелось позабавиться? Чтобы вывести Льва Яковлевича из ложного положения, она с намеренным лукавством сказала:
– Вам ли, Самсон Данилович, сомневаться в талантах людей из народа? Отец ваш – портной, дедушка – бондарь, сами вы в прошлом рабочий, самоучка… То, о чем мы говорили, гораздо серьезнее той маленькой частности, которая ничего не решает.
Подозрительность Свиридова получила новое подтверждение, – Александра Александровна уже не скрывала, что говорит от своего и Льва Яковлевича имени. Она так и сказала: «…То, о чем мы говорили». Ей не удастся его убедить, что они случайно здесь встретились и случайно совпали их точки зрения. Они, видимо, решили, что не так уж трудно будет его уломать. Так думал в свое время сын и многие другие. Его не впервые убеждают разменять великую цель на мелкие практические выгоды. До чего женщины все одинаковы, нм бы все переиначить на свой домашне-хозяйственный лад. Будь это в их власти, они бы философию обратили в правила житейского благополучия.
Мысленно отчитав своих друзей, Свиридов с хорошо разыгранной наивностью спросил:
– Вы будете, конечно, между собой и опытом обмениваться?
– Разумеется, – сразу же согласился Золотарев.
– Вот вы и будете работать сообща, – сухо проговорил Свиридов, – меня ваши планы не интересуют. – Ему хотелось этим ограничиться, пощадить самолюбие Льва Яковлевича и не огорчать Александру Александровну, но ему показалось, что его ответ прозвучал недостаточно решительно и мог им внушить ложные надежды. Чтобы не оставить сомнения на этот счет, Самсон Данилович холодно добавил: – Обратитесь к кому-нибудь другому, меня таким делом не прельстишь.
Про себя он подумал: «науку надо беречь от произвола. Александра Александровна правильно сказала: «Ученые не должны расточать своего доверия».
– Напрасно, – с вызывающей усмешкой проговорила Александра Александровна. Упрямство Свиридова сердило ее, и она готова была ответить ему дерзостью. – Вы повторяете ошибки иных знаменитостей. Ожесточившись в борьбе за свои идеи, они потом забывают критически осмыслить то самое дело, которому посвятили свою жизнь. В смежных областях знания давно возникли перемены, в науке все переплетено, а знаменитость ничего знать и видеть не желает.
Если бы Самсону Даниловичу сказали, что суждения его, казавшиеся ему непогрешимыми, как и гнев и раздражение, сопровождавшие их, весьма далеки от его собственных убеждений, – он но поверил бы. Свиридов мог бы возразить, что придерживается таких взглядов скоро двадцать лет. Да, действительно, ом думал именно так, но к убеждениям привыкают, привязываются – и порой навсегда. Некогда важные и необходимые, они, утратив прежний смысл и назначение, продолжают служить другой цели. Они становятся тем же, что герб для владетельной особы, чин для офицера, звание для артиста или ученого. По ним узнают нас среди других, они как бы говорят о наших заслугах и обязывают помнить о нас после смерти.
Самсон Данилович все еще верил, что великую цель нельзя разменивать на мелкие практические выгоды, по в тайниках его ума, там, где логика соперничает с привычкой, эта вера все более слабела.
* * *
Уход Льва Яковлевича из филиала института и печальная весть о болезни Свиридова, привезенная сыном из Москвы, имели неожиданные последствия для душевного состояния Юлии. Арон Вульфович, наблюдавший эту перемену, долго отказывался верить своим глазам.
После отъезда Золотарева все вначале шло хорошо: добрый гений дома Свиридовых являлся к своей любимице, которую некогда носил на руках, приходил ее развлечь и утешить. Она, как обычно, то слушала его с интересом, то беспощадно высмеивала все, что не приходилось ей по вкусу, и неизменно заслушивалась его рассуждениями о любви. Па этот счет у нее были свои давние сомнения, и одному лишь Каминскому она могла их вверить.
Во-первых, ей непонятно, почему любовное чувство порой столь неустойчиво и так часто проходит без следа… Легко утверждать, что любовь – влечение характеров, тяготение людей к душевным особенностям друг друга, но какая цена тяготению, которое так легко исчезает? Всю жизнь опасаться быть оставленной любимым – есть ли большее несчастье на свете? Кто скажет, почему признания мужчин или даже их ласковый взгляд ей так неприятны. Ведь между ними немало прекрасных людей, и черты характера те же, что у Золотарева… И еще бы ей хотелось узнать, почему нежность подруги не утоляет, а обостряет сердечную тоску?..
Арон Вульфович добросовестно пытался решать сотканные ее прихотью задачи, снова и снова повторял, что пока черты характера, которые сроднили влюбленных, не изменились, – любовь долговечна. Влюбленные, чей склад души счастливо совпал, и супруги, сумевшие это совпадение сберечь, никогда друг друга не покинут… Нетрудно ответить и на другой вопрос, который, впрочем, кажется ему нелепым… Как можно сопоставить нежность подружки и влюбленного? Нежность девушки – это выражение ее покорности, готовности всем поступиться ради милого друга. У возлюбленного это разбудит мужество и волю эту покорность защищать. У подружки такая нежность вместо желанной твердости и силы вызовет томление…
Надо ли объяснять, почему сердце, занятое образом друга, недосягаемо для другого? Ведь у этого образа глубокие корни и в радостях былого, и в мечтах о будущем счастье и любви. Уже сами эти представления – непреодолимое препятствие для других…
Когда подобных задач становилось слишком много, Каминский отказывался на них отвечать и однажды, не сдержавшись, строго сказал:
– Энергия, которая тратится вашим сердцем в течение дня, способна поднять семьдесят тонн на высоту одного метра. Не утруждайте же это сердце лишними тяготами…
В веселые минуты она по-прежнему просила Каминского учить ее правилам хорошего тона. Он удовлетворял ее просьбу и оставался серьезным, пока она шутила над его приверженностью к «ложному этикету».
Перемены в ее душевном состоянии наступили исподволь. Арон Вульфович разглядел их не сразу. Началось с того, что девушка сменила свои модные платья на прежние – с длинными рукавами и закрытым воротом, спрятала подарки матери – серьги, браслеты, часики и брошку с алмазом. К ней вернулись прежняя сдержанность, спокойные и строгие движения, исчезли неумеренный смех и развязность, так угнетавшие Свиридова. Она стала рано уходить на работу, поздно возвращаться и подолгу засиживаться за книгой. На замечания матери, что чрезмерный труд подорвет ее силы, она отвечала:
– Я очень отстала и многое упустила, мне надо наверстать упущенное.
На недоверчивую усмешку матери дочь пожимала плечами и отвечала коротко и твердо:
– Я хочу, как отец, быть серьезным ученым… Ты должна меня, мама, понять.
Арону Вульфовичу становилось все труднее угождать своей любимице. Она все меньше смеялась над его забавными историями и, выслушав иной раз, качнет головой и так улыбнется, как если бы уличила его в непозволительной шалости.
В день ее рождения – двадцать пятого сентября – он подарил ей томик стихов современных поэтов с несколько шутливой надписью: «Не верьте, милая, поэту, что девушкам милы стихи, что слуху их, влекомому и к шепоту и к нежностям признания, так сладкозвучен ямб, хорей и прочие причуды стихотворцев. Все то, что девушкам внушила жизнь: и мысли смелые, и чувства робкие, – впервые прозвучало для них прозой. И ласка матери, и грусть влюбленного, и голос собственного чувства стучались в их сердца простою речью… Грядет же день, когда на языке Тургенева, Толстого, не Тютчева, не Майкова и не Суркова падет вам на душу то искреннее слово, та правда друга, которую так ждет тоскующее сердце».
Она прочла надпись и, не поднимая глаз от книги, сказала:
– Извините за откровенность, но очень уж старомодно. Вы все не привыкнете к тому, что я взрослая и говорить со мной следует просто и серьезно.
Иначе слушала она его, когда речь заходила о новых лекарствах и методах лечения, созданных в последнее время. Об этом Юлия охотно и подолгу могла говорить. Ее вопросы и замечания обнаруживали ум, сообразительность и серьезную подготовку. Она не ссылалась в своих утверждениях на Льва Яковлевича и не упоминала его имени. И манера держать себя, выражать свои мысли и поддерживать разговор, который мало ее занимал, ничем не напоминали манеры прежней Юлии. Словно пронесшийся над семьей ураган встряхнул ее душевные силы и вернул скованной мысли свободу.
Наблюдая сдержанную молчаливость девушки, ее строгость к себе, пришедшие на смену беззаботному легкомыслию, и пробудившуюся в ней страсть к труду, Арон Вульфович спрашивал себя: что с ней? Откуда эта перемена и надолго ли?
Однажды она положила перед ним несколько книг и сказала:
– Прочитайте, прошу вас, они вам пригодятся.
К чему ему литература о лепре, он не намерен лечить прокаженных. Ни в Индию, ни в Африку он не собирается…
– Сделайте это, Арон Вульфович, для меня, – попросила девушка, – мне понадобятся ваши советы.
В те дни Каминский был занят другим. Он получил квартиру и расставлял в ней свою мебель, хранившуюся у друзей, пока он скитался из города в город.
– Теперь я, пожалуй, долго не протяну, – в связи с этим шутил Каминский. – До сих пор мою жизнь поддерживала надежда, что я обзаведусь домом, буду есть за собственным столом, спать в своей кровати. Развешу свои фотографии, расставлю безделушки и стану ими любоваться. Цель достигнута, а с ней исчезла и надежда, которая поддерживала мое слабое сердце.
Книги о лепре были прочитаны, и, возвращая их девушке, Арон Вульфович спросил:
– Вы будете меня экзаменовать или поверите, что я усвоил урок?
Она пропустила мимо ушей шутливый тон, села за стол и стала что-то старательно выводить на бумаге. Буквы выходили ровными, строгими, словно в строю. «Взгляните на нас, – как бы говорили они – какие мы ладные! Где вы встретите таких молодцов!»
– Мне пришла в голову интересная мысль, – с виноватой улыбкой проговорила она, – я записала ее и когда-нибудь вам расскажу.
Вместо отпета Каминский огорченно развел руками и с укоризной заметил:
– Опять ваши пальцы в чернилах! Как вас трудно к чему-нибудь приучить!
Девушка и на это не возразила. Когда рука ее замерла на последней строке и точка замкнула величественное шествие букв, она спрятала бумагу в ящик стола, подняла глаза и с мечтательной медлительностью сказала:
– Вы знаете много чудесных лекарств. Укажите мне такое, которое помогло бы моим больным. У вас, гомеопатов, свои средства, подскажите мне что-нибудь… Вы не представляете себе, как мне хочется найти что-нибудь действенное против лепры. Мне кажется порой, что, пока мы не отрешимся от нашей практики и не поведем исследование в другом направлении, ничего не выйдет у нас… Мы уткнулись в тупик, и надо иметь мужество в этом сознаться.
Арон Вульфович не знал, чему больше удивляться, – наивности ли девушки, возмечтавшей найти средство против проказы, или уверенности, с какой она звала порвать с утвердившейся практикой лечения. Тысячи лет человечество искало лекарств против грозной болезни, усилия ученых всех времен и народов оказались напрасными, где уж ей справиться с лепрой!.. Ни спорить, ни возражать Арон Вульфович не стал и только осторожно заметил:
– Стоит ли тратить жизнь на изучение болезни, которая исчезает. Всего в Европе больных тысяч десять, пройдет лет двадцать, и о проказе забудут…
Не обращая внимания на замечания Каминского, она продолжала развивать свою мысль.