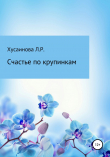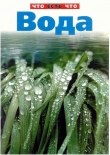Текст книги "Повесть о хлорелле"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Всему этому вскоре нашлось объяснение: виной всему – болезнь, она сделала его брюзгой, отвратительным ворчуном. Старость принесла с собой болезни, надломила сердце и сделала его чувствительным к невзгодам.
Окрепшая память говорила о другом: вовсе не впервые, и не сейчас возникло это тягостное чувство. Нечто подобное случалось с ним раньше, до заболевания… Помнится вечер, в номере гостиницы сидят его друзья, Александра Александровна и Лев Яковлевич, они убеждают его помочь им в их работе над хлореллой… Он не уступает, и Александра Александровна, при молчаливом согласии Льва Яковлевича, говорит: «Вы повторяете ошибки иных знаменитостей. Ожесточившись в борьбе за свои идеи, они забывают затем критически осмыслить то самое дело, которому посвятили свою жизнь». Ему от этих слов стало не по себе. После горького раздумья им овладело чувство острой тоски. И сейчас, когда в мыслях воскресают обстановка того вечера и речи Александры Александровны, мучительная тоска лишает его покоя… Крепко должно быть задело его, если долгие страдания не изгладили из души обиды… Не старость и не болезнь причиной тому, что сейчас его угнетает, он и сам уже это начинал понимать.
В дни минувших страданий и болезни два друга больного – жена и Арон Вульфович – не отходили от его постели. После приезда Анны Ильиничны Каминский написал ей в Москву, что не может себе позволить находиться вдали от больного. Она предупредила его, что в столице и без него достаточно врачей, он может оставаться дома. На это последовало короткое письмо, в котором между прочил! говорилось, что Фридрих Великий сажал фельдшера под арест, если у него умирал гвардеец.
Арон Вульфович приехал, снял номер в гостинице, где жили Свиридовы, но почти не бывал у себя. Глубокое кресло у кровати больного заменило ему номер со всеми удобствами и комфортом. Здесь он проводил дни и ночи, готовил лекарства, наблюдал за больным, урывками дремал и тут же обедал.
Вынужденные подолгу оставаться вдвоем, Анна Ильинична и Каминский коротали время в беседах и спорах. Она дала волю своей давней страсти и свободные минуты проводила за чтением романов. Он, не расположенный к художественной литературе, находил в этом повод для нелестных замечаний по адресу любителей «изящных измышлений». Каминский искренно недоумевал, как можно с таким рвением читать скучные истории о «взрослом мужчине и не менее взрослой женщине, которые не могли между собой договориться…»
На это она однажды сказала ему:
– А как можно с таким рвением проводить дни и ночи у постели соперника? Ведь в нашей скучной истории взрослые тоже не смогли между собой договориться…
Он попросил ее говорить тише, больному эта новость не доставит удовольствия, и тем не менее в долгу перед ней не остался.
– Ни по поводу любви, ни относительно дружбы толковать с тобой не следует. Ты неспособна в этих вещах разбираться. Мужа ты любишь, как мать, зятя, как сына, а мою дружбу к Самсону вовсе не понимаешь… Подумала ли ты, чего ради носит меня нелегкая по свету, почему я в свое удовольствие не поживу возле тебя? Ты могла бы мне это объяснить?
Нет, не могла бы, хоть ей и казалось, что разлучался он с ней неохотно, возможно и против собственной воли.
– Я опасался, что ваше счастье будет тяжким испытанием для меня и я возненавижу Самсона. Мне нельзя было его терять, у меня, кроме вас, никого на свете не осталось.
Вместо сочувствия на ее лице мелькнула усмешка, которая лишала Каминского мужества. За этим выражением высокомерия следовало обычно замечание – короткое и холодное.
– Ты поступил, как истинный христианин. Подвижники не то еще делали с собой, чтобы не поддаться искушению возненавидеть врага…
Этому нападению надо было противопоставить защиту, и Арон Вульфович не спешил, он не сомневался, что достойно расквитается.
– Ты прекрасно знаешь, – с той медлительной уверенностью, которая всегда была ей неприятна, проговорил Каминский, – что я так же мало расположен к распятому еврею, как и к его жестокосердному отцу. Мораль, которую я исповедую, старше религии и христианской философии… Ты ничего не поняла в моем чувство к Самсону. Дружба, скрепленная временем, более прочна, чем любовь детей к родителям. Друзья идут рядом, а родители и дети врозь…
Намек на разлад в ее собственном доме и претензии, что его чувство к Свиридову сильнее привязанности их сына к отцу, нисколько не задели ее. Она раскрыла книгу и с видом человека, которого ни в чем не убедили, принялась читать. С той же уверенностью и спокойствием в движениях и во взгляде она отложила книгу, встала из-за стола и остановилась у изголовья больного. – Для Каминского это молчание было тем более нестерпимо, что его мучило раскаяние, – ему не следовало этого ей говорить. Ему ли не знать, что сердце матери должно любить, страдать и опасаться. Оно не может пустовать, место сына займет всякий, кто принесет матери утешение…
Так коротали они время в беседах и спорах. Невинное воспоминание или невольная шутка вдруг вызовет язвительное замечание, на это последует резкий ответ, и размолвка завершится ссорой. Удивительно, как быстро между этими друзьями, связанными общим несчастьем, наступал разлад.
– Он неисправимый домосед, – скажет Анна Ильинична о муже, – никуда не выманишь его. Поведешь к друзьям, он так высмеет скуку и пустые беседы за хозяйским столом, что не скоро отважишься куда-нибудь его повести…
На это Арон Вульфович ей возразит:
– Я знал его другим. Бывало, в летнюю нору его потянет вдруг в поле, к берегу Волги, или захочется побродить ему в песках. Ничем его тогда не остановишь. Все бросит на свете, прибежит домой, переоденется и вихрем помчится из города. Ни времени, ни дела не жаль ему, гуляет сокол – вольная птица…
Она усмехнется, разведет руками и укоризненно покачает головой: Арон решительно все перепутал… Когда это было? Сколько соколу было лет?
– Он давно уже не носится вихрем по городу, – готова она рассердиться и достойно отчитать болтуна. – Опомнись, Арон, что ты мелешь! Если ему и взбредет потолкаться среди людей, тем дело и кончится – он соберется и тут же вспомнит, сколько дел у него, и никуда по пойдет.
Они словно перестали понимать друг друга. То ли несчастье их ослепило, и, подавленные скорбью, которую некому излить и в которой некого винить, они в ссорах находили утешение, то ли споры были кажущимися, и за внешней неприязнью и ворчливостью таились нежность и тепло…
В один из зимних вечеров, когда январская стужа и метели сокрушают одинокие сердца и навевают тоску по минувшему, когда ниспадающая с неба пелена рождает мысли о смерти, вечно сменяющей жизнь, Арон Вульфович развлекал свою подругу размышлениями о началах любви и несовершенстве человеческой природы.
– Источник всех наших несчастий, – сказал он, – неумение человека управлять шедевром, который природа вверила ему. Для управления мотоциклом нужен минимум технических знаний, судьба же величайшего и сложнейшего механизма вверяется неучу. Много ли мы знаем о том, что творится в нашем мозгу, понимаем ли собственную душу, – а управляем тем и другим…
Скупая на похвалы, неизменно сдержанная и молчаливая, она сказала:
– У тебя, Арон, острый ум, мне это всегда в тебе нравилось, а еще больше – твоя любовь к жизни. Самсон не такой…
Как повелось уже у них, он тут же ей возразил:
– Зато он мудрец, неспокойный, неровный и все-таки мудрец. Глаз его видит далеко, жаль, что вблизи он ничего не видит.
– И ты так думаешь? – спросила она с тем неожиданным интересом, какой люди обнаруживают, услышав о некоей особенности близкого человека и не сразу этому поверив. – Нам, женам, нелегко судить о наших мужьях… Но что это за мудрец, – с неожиданной ноткой горечи продолжала она, – который не видит, что у него творится под носом… Неужели мудрость дает право причинять близким обиды и страдания, поддерживать нелады в семье…
Как всегда, когда она становилась неспокойной, руки ее хлопотливо задвигались, вначале по столу, затем устремились к оконным занавескам и стали энергично сдвигать и раздвигать их. Крутой белый лоб ее мрачнел, тревожный взгляд закрыли отяжелевшие веки.
– Я не раз тебе говорил, что ты недооцениваешь Самсона, – решительно отказывал ей в сочувствии Каминский, – а временами ты и вовсе не понимаешь его.
Неосмотрительно брошенная фраза расшевелила у Анны Ильиничны недобрые чувства к мужу. В другой раз она, возможно, не придала бы этим словам значения, – какое дело посторонним до ее семейных дел. Сейчас эти чувства позволяли ей излить давнишние обиды не в жалобах и стенаниях, несвойственных ее натуре, а в гневе, обращенном на Каминского. Пусть учтут этот урок все непрошеные заступники и друзья мужа. Пора им запомнить, что никто, кроме нее, не может быть судьей в ее семейной жизни. Ни одобрять, ни порицать Самсона Даниловича она никому не позволит.
– Много ты в нем понимаешь, – сверкнув глазами и сложив руки на груди, словно удерживая их от вмешательства в спор, сказала она, – уж если кто-нибудь знает Самсона, так это я… Мудрец!.. Провидец!.. Он ни времени, ни пространства, ни самого себя не замечает! Не кивай головой, ты этим меня не собьешь… Он – слепой! Идешь с ним, бывало, по пескам, ищешь какую-нибудь травку, ходишь час, другой, едва ногами шевелишь, пора бы отдохнуть, а он молчит. «Мы изрядно прошагали», – говорю я ему. «Разве»? – удивляется мой мудрец. «Да», – отвечаю, – километров двадцать прошли». – «А я и не заметил», – признается он и продолжает шагать. Он и меня в то время не замечал.
Она долго еще говорила и, словно в ее огорчениях была доля вины Каминского, время от времени окидывала его сердитым взглядом.
– Ты, конечно, воображаешь, что жизнь моя с ним была сплошным праздником – в доме мир и любовь, во всем согласие… У нас не было мира, мы воевали, и жестоко. Вначале шла борьба за мою душу, мне или ему этой душой управлять. Я понимала, что в браке более сильный и приспособленный ведет семейный корабль. Самсон на это права не имел, и все-таки победа досталась ому. Он брал упорством, которого у меня не хватало… Я убеждала себя, что так и должно быть, мой муж дальше видит и больше понимает, хотя и не верила этому. Покорная и бессловесная, я была удобной женой, старалась все знать и молчать. Я надеялась, что с ним мне будет легче, у меня ведь и мысли, и чувства на запоре… Он всего этого не видел, и не замечал, зато свои радости так обрушивал на меня, что я находилась словно в чаду. Для меня его страсти были мучительны, их с излишком хватило бы на троих… Я только и была спокойна, когда он забывал обо мне… Ни меня, ни себя он не щадил, хлорелла ему свет закрыла… – Она замолкла и с виноватым видом добавила: – Я так говорю о нем, словно его уже нет, – и как бы устыдившись невольно сделанных признаний, сердито заметила: – Ты все еще не оставил своей манеры вызывать меня на откровенность…
Время от времени больного навещал Лев Яковлевич. Он подолгу просиживал у его изголовья, избегал разговоров, перед уходом спрашивал Анну Ильиничну, не надо ли ей чего-нибудь, и, печальный, уходил.
В конце февраля Свиридов заговорил. Первое время он коверкал слова, забывал названия вещей и уморительно морщил лоб, припоминая имена и фамилии близких людей. Арон Вульфович по-прежнему проводил дни и ночи в кресле. Напрасно Анна Ильинична пыталась выпроваживать его на ночь. Больной, соскучившись по человеческому голосу, истомленный вынужденным молчанием в продолжение нескольких месяцев, просил не разлучать его с другом. Вскоре возникло другое осложнение: Свиридов обнаружил необычайную словоохотливость, которую врач ему позволить не мог. Арону Вульфовичу пришлось нести двойное бремя – говорить за себя и за больного. Свиридов разгадал намерение Каминского и не стал препятствовать ему. Речи старого друга были ему приятны, он высоко ценил его ум и образованность, хоть и не одобрял налета цинизма и скепсиса в его мировоззрении. Незадолго до отъезда в Москву Свиридов мог еще раз убедиться, как неутомим в своих заблуждениях этот человек.
Он пришел как-то вечером в ботанический сад с радостной вестью: ему посчастливилось достать редкую книгу по истории биологических наук. Это настроило его на философский лад, и, как всегда в такие минуты, он сыпал парадоксами, делал смелые обобщения и между прочим сказал:
– Человечество утешает себя тем, что по уму человек не знает соперников. И, действительно, какому зверю придет в голову во имя прогресса и цивилизации сбрасывать на свои леса атомные бомбы?..
Самсону Даниловичу разговор не понравился, он мог бы много возразить, но ограничился коротким замечанием:
– Ты стал слишком часто ради красного словца городить всякий вздор!
Урок не пошел Каминскому на пользу, он по другому поводу тут же сказал:
– Судя по несправедливости, прочно утвердившейся на нашей планете, землю следовало бы объявить запретным местом для человека.
Где нм было договориться! Один был полон веры в настоящее и будущее человечества, а другой, ущемленный жизнью, изверился в людях…
Каминский продолжал дневать и ночевать в кресле. Он рассказывал больному политические новости последних месяцев, избегая касаться всего, что могло взволновать больного. На сон грядущий заботливый врач читал своему пациенту Уилсона, в минуты горького раздумья – стихи Беранже или рассказывал веселые истории собственного сочинения. Когда Свиридов пожаловался на навязчивые сны, на странную склонность грезить наяву, врач с серьезным видом ему сказал:
– Придворный медик Римского императора Севера – Серен-Саммонин рекомендовал в таких случаях верное средство – носить на груди пергамент с чудодейственным словом «АБРАКАДАБРА», буквы которого расположены треугольником…
В начале марта Свиридов начал подниматься с постели и сразу же заговорил о своей работе. Много времени упущено, предстоит немало потрудиться. Достанется а жене, дел хватит на десятерых. Чтобы убедить окружающих в своем душевном и физическом благополучии, он с видом здоровяка, для которого ничего трудного нет, сжимал в своих объятиях жену и врача или затягивал бравурные песенки, отбивая ритм хлопками по обложкам книг. В одну из таких счастливых минут Самсон Данилович, прильнув к уху своего друга, с той значительностью, с какой вверяют сокровенную тайну, сказал:
– Ты изменишь свое мнение о человечестве… Нищета и голод разделяют людей и делают их несчастными. В мире, где все будут сыты, не будет ни злобы, ни вражды… Я никогда не устану трудиться для блага людей. Когда моих сил не хватит, я буду это делать руками тех, кто, как и я, верит в великое назначенце хлореллы.
Врач забыл, что перед ним больной, что философские споры с ним неуместны, и, поддавшись полемическому пылу, сказал:
– Со слишком высокой колокольни глядишь ты на мир.
– Ничего удивительного, – возразил Свиридов, – чем выше мы над землей, тем дальше видим.
– Дальше, – не унимался врач, – но ничего вблизи. С твоей колокольни все повседневное кажется ничтожным, люди маленькими, дела их незначительными.
Самсон Данилович сообразил, что спор следует кончить, и коротко бросил:
– Дел оттуда не увидишь, люди выглядят маленькими, но отнюдь не мелкими.
Арон Вульфович поспешил согласиться и, дружелюбно подмигнув больному другу, ласково сказал:
– Ничего с твоей хлореллой не случится, если ты еще погуляешь. Пора бы и мне передохнуть… Никак не отосплюсь, ложусь и встаю усталым… У нас, врачей, это недобрая примета…
Свиридов с чувством признательности пожал ему руку, но на следующий день вновь заговорил о работе.
Март выдался на редкость теплый. Снег стремительно таял, холодные ветры сгинули, и на отлогом берегу Москвы-реки золотом зацвела мать-мачеха. Здоровье Свиридова с каждым днем улучшалось, а Каминскому становилось все хуже. Он сильно похудел и жаловался, что никак не отоспится. Свиридову не сиделось на месте, и друзья часто отправлялись за город. Там, в березовых рощах и в сосновых перелесках, больной жадно прислушивался к пению желтой овсянки, гомону грачей и запоминающейся трели жаворонка, а его спутник тусклым взглядом, обращенным вдаль, прощался с последней весной.
Отъезд из Москвы был назначен на двадцатое марта, и Анна Ильинична, занятая хозяйственными приготовлениями, искала повода избавиться от присутствия Каминского.
– Ты жаловался, что никак не отоспишься, – увещевала она его, – почему бы тебе не поспать весь завтрашний день. Других дел нет, спи хоть двое суток подряд.
Ему не хотелось уходить. В последнее время он избегал оставаться в номере один и сейчас неохотно покидал друзей.
– Я, кажется, заболел профессиональной болезнью, – словно отвечая на свои мысли, проговорил Каминский, – каждые два врача из трех умирают от сердечно-сосудистой болезни, а каждый шестой – от рака. Раковая болезнь мне уже не грозит…
– Иди, Арон, – не дала она ему договорить, – ты мне надоел.
Он встал с кресла, в котором провел так много дней и ночей, и сказал:
– Я хочу тебя предупредить, что Самсону надо работать, иначе он не окрепнет… Имей это в виду…
Лицо его было бледно, глаза безжизненны, и она подумала, что он стар, очень стар, Самсон выглядит куда лучше. Она хотела спросить, что с ним, но в то же мгновенье он мягко скользнул по креслу, запрокинул голову и замер…
Он умер у постели спасенного друга, как умирает солдат, исполнив свой долг…
* * *
После встречи у Свиридова Лев Яковлевич стал бывать у Александры Александровны в ее лаборатории пресноводных растений. Влекла его сюда будущая кормилица рачков-дафний, а косвенно и рыб – хлорелла, которую здесь изучали. В маленьком помещении, уставленном банками с зеленеющей жидкостью и вазонами с южными растениями, закрывающими свет в единственном окне, между Золотаревым и его новой знакомой завязывались беседы, которые нередко затягивались надолго. Каждого интересовала работа другого, и это сближало их.
Лев Яковлевич мог убедиться, что Александра Александровна прекрасный педагог, терпеливый и умный наставник. Сам он был менее терпелив, стремился все узнать и, недовольный объяснениями, позволял себе возражать. Много помогала ему и своеобразная манера заведующей лабораторией – прежде чем приступить к новой работе, обсуждать возможные удачи и неудачи до мельчайших подробностей. Невольной слушательницей этого раздумья вслух была обычно лаборантка, обязанная к этим расчетам проявлять интерес, хотя бы ей пришлось отложить собственную работу. Теперь ее место занял Золотарев. Учительница платила ученику признательностью! Ей нравилась его способность вызывать интерес ко всему, чего бы его мысль ни коснулась, уважение к ее знаниям и готовность, тем не менее, одинаково усердно отстаивать свои правильные и неправильные представления. Не переоценивая собственные силы, он легко признавал чужие заслуги. Когда Александра Александровна спросила, как он относится к одному известному ученому, Лев Яковлевич сказал:
– Чтобы судить о трудах такого исследователя, надо иметь право с ним состязаться – по крайней мере в знаниях не уступать. Я повременю. Мои суждения от этого только выиграют.
Подкупала искренность и простота его, с ним хотелось быть откровенной, верить ему и думать, что таких, как он, немало на свете. Осторожный и сдержанный в выражении своих чувств, Золотарев изменял себе всякий раз, когда речь заходила о Самсоне Даниловиче. Ничего другого он не желал, как во всем походить на Свиридова.
Обучение между тем подходило к концу. Александра Александровна была довольна учеником, сам он много узнал и мог бы этим ограничиться, но каждый его приход приносил новое, и было жаль с лабораторией расстаться.
Однажды, когда Лев Яковлевич обратился к Александре Александровне по поводу затруднения в работе, она вместо ответа вдруг спросила его:
– Вы очень любите свою ихтиологию?
– Разумеется, – ответил Золотарев. – Разве можно заниматься делом и не любить его? Ведь и вы влюблены в хлореллу! Не так ли?
Она не ответила, и Лев Яковлевич заговорил о другом.
– Я в последние годы все чаще подумывал, что недостаточно знаю прошлое наших рыб, их природу и среду обитания. Среди литературных источников мое внимание привлекли исследования арабского географа десятого века. О нашем Каспийском море он, между прочим, писал: «Это Хазарское море – соленое, и в нем не бывает ни приливов ни отливов…»
Она движением руки остановила его и после короткой паузы бойко закончила начатую им цитату:
«…Дно этого моря темное, илистое, в противоположность морю Кульзум и всему Персидскому морю… Не извлекают из этого моря ни драгоценных камней, вроде жемчуга, ни красного коралла или чего-нибудь иного, что извлекают из других морей…» – Она весело расхохоталась, тем же движением руки попросила не перебивать и продолжала: – «Зато в этом море много рыбы…»
Лев Яковлевич с изумлением слушал ее. Откуда она знает эту древнюю запись арабского географа? К чему было ей дословно запоминать текст? Что значит ее смех и внезапно прорвавшаяся радость? Так ведут себя люди, неожиданно встретив нечто близкое им.
– Я вычитал текст в древнейшем источнике, – все еще не отделавшись от изумления, сказал Золотарев, – а вы как узнали о нем?
Александра Александровна вздохнула и отвела глаза в сторону.
– Я вычитала его там же. Рассказывайте, вас интересно слушать…
Оба незаметно для себя оставили работу. Она перебирала длинные космы бурых водорослей, высунувшихся из аквариума, и, зачем-то встряхивая их, вновь погружала в воду. Он, несколько смущенный, перелистывал страницы дневника. Ее уклончивый ответ был ему неприятен. Как можно с такой легкостью прерывать серьезный разговор, умолкнуть, не считаясь с собеседником. Как спортсмен, которого у самого финиша предупредили, что состязание было лишь шуткой, Золотарев почувствовал обиду и разочарование.
Она жестом и мимикой попросила не сердиться, и он неохотно продолжал:
– Я узнал, что в могильниках Приволжья и Прикамья найдены кости и тотемистические изображения осетра на скалах, а в Западной Сибири – каменные фигурки этой рыбы…
– Разрешите точности ради заметить, – снова перебила она его, – что изображения на скалах были обнаружены в другом месте – на Бесовом носу Онежского озера… Каменные же фигурки времен неолита найдены не в Западной, а в Восточной Сибири.
– Я намеренно сфальшивил, – признался он, – чтобы проверить, случайно ли или не случайно известны вам древние источники. Теперь ваша очередь рассказывать об осетрах, а моя – вас поправлять.
У Льва Яковлевича отлегло от сердца, и он с удовольствием рассмеялся.
Предложение не смутило Александру Александровну, она в знак согласия кивнула головой и с загадочной улыбкой спросила:
– Какие места на карте интересуют вас? Какая эпоха? Историческая или доисторическая? Вряд ли стоит говорить об античном мире, осетровые в те века были воспеты и в поэзии и в прозе… Может быть, напомнить вам о войнах Венеции и Генуи из-за осетровой икры, о посольских договорах Тосканских владетелей с Московией? Или повторить общеизвестный факт, что во времена средневековья осетровые промыслы были привилегией английских королей, новгородских и московских князей, китайских императоров, испанских и русских монастырей? – Она лукаво усмехнулась и спросила: – Прикажете еще?
Лев Яковлевич церемонно склонился перед ней и с притворной торжественностью в голосе проговорил:
– В ознаменование вашего успеха жалую вас реками с рыбой…
Этот короткий, казалось, ничем не замечательный разговор почему-то врезался в память Золотареву. Он не забыл, что на вопрос, влюблена ли она в хлореллу, ответа не последовало, запомнил также внезапную грусть на ее лице, когда она спросила, любит ли он свое дело. Откуда, наконец, ее познания в ихтиологии? Он решил при случае вернуться к этому разговору и, когда Александра Александровна как-то сказала, что завидует его способности всегда думать о своей работе, осторожно спросил:
– А разве вы не увлечены хлореллой, не думаете всегда о ней?
– Нет, – ответила она, – мне в жизни приходилось многим заниматься, не могла же я все любить.
Он воспринял это как шутку и беззаботно сказал:
– Наш судак с одинаковым успехом множится и промышляет в море и в реке, и даже в водохранилище. А вот стерлядь, благородная стерлядь, в пруде будет жить, но только в реке – размножаться.
Так как она промолчала, Золотарев подумал, что шутка показалась ей обидной, и с необычной для него горячностью принялся за работу: зажег газовую горелку и тут же ее погасил, энергично взболтнул культуру водорослей и, не взглянув на нее, поставил на место. Он попробовал заглянуть в журнал и с разочарованием отодвинул его. Александра Александровна, видимо, догадывалась, что смутило так Золотарева, и поспешила его успокоить.
– Не сокрушайтесь, я поняла вас. Вам многое простительно, ведь вы не все знаете… – Ее все еще красивые глаза стали грустными, и две морщины в уголках рта – два рубца глубокой раны – исказили лицо страданием. Она пыталась выглядеть спокойной и даже улыбнуться, но эту скорбь никакая улыбка развеять не могла.
Золотарев понял, что коснулся чего-то заветного в ее душе, невольно причинил ей боль, и растерянно пробормотал:
– Извините, пожалуйста, это вышло у меня случайно…
– Ничего, – с болезненной улыбкой проговорила она, – я по крайней мере узнала, что стерлядь в полном смысле творческая единица.
Он хотел ей что-то возразить, по она попросила его помолчать.
– Не знаю, покажется ли вам интересным то, что я скажу, но эти мысли не пришли ко мне случайно, я имела возможность над ними подумать… В науке, мой друг, можно любить только раз. Мы склоняем наши симпатии к той дисциплине, которую лучше и легче воспринимаем. Мы говорим в таких случаях, что наука нам близка и приятна. Сама природа как бы определяет наше призвание, нам остается лишь хранить верность ему. Когда в одном из институтов мне предложили место ассистента, я отказалась, когда узнала, что там слишком долго выбирали между мной и совершенно ничтожным человеком… Мне близка и дорога географическая ботаника и зоология. Географические ландшафты с их миром зверей, птиц и рыб – моя творческая среда. Она для меня то же самое, что река для вашей стерляди… По этой самой причине мне известно настоящее и былое осетровых…
На этом беседа закончилась. Прошло много времени, прежде чем разговор был продолжен. Александре Александровне, видимо, не хотелось возвращаться к нему, а Льва Яковлевича одолевало чувство неловкости при воспоминании о неудачной шутке. Он мог бы с ней поспорить и о значении призвания, и о многом другом. Что значит – «в науке можно любить только раз»? Или – «сама природа как бы определяет наше призвание». Где и кем это установлено? Он, правда, не продумал своих возражений и не готов вступать с ней в спор, но пусть ома прежде подкрепит свои утверждения…
Желанный разговор состоялся, но вместо того чтобы удовлетворить любопытство Золотарева, принес новые сомнения и вызвал у него самые разные чувства.
– Я завидую вам, – сказала она, узнав, что его возвращают в филиал института. – Вы будете встречаться с Самсоном Даниловичем, это большое счастье. У него есть чему поучиться.
Он согласился, что иметь такого учителя – большое счастье. К Золотареву судьба не была милостива, педагоги не оставили заметного следа в его душе. На этот счет Александра Александровна задумчиво сказала:
– У меня был хороший учитель… То были лучшие годы моей жизни.
Она вздохнула, и на лице ее промелькнула печаль. Лев Яковлевич решил, что учителя нет в живых, и сочувственно спросил:
– Он умер?
– Нет, он жив и, будем надеяться, долго еще проживет. Мы встречались с ним редко, и я не очень много могла от него получить.
Она не назвала имени учителя, и Лев Яковлевич ограничился ничего не значащей фразой:
– Хороший педагог стоит многого… За его спиной чувствуешь себя как за каменной стеной… – Убедившись, что Александра Александровна не спешит ни согласиться, ни возразить, он машинально закончил: – С учителем, конечно, надо жить рядом.
– Жить надо рядом, – словно отвечая собственной мысли, повторила она, – но не во всем следовать за ним.
Золотарева эти слова удивили, ему даже показалось, что он ослышался, но она молчаливо предупредила: «Да, да, – говорила ее усмешка и разочарованное движение рук, – вы правильно поняли меня».
«Что значит – не во всем следовать за ним? – недоумевал он. – Что дает ей право так безапелляционно судить?» Всего больше в жизни Лев Яковлевич не любил самоуверенных людей, скромность уже тем казалась ему прекрасной, что она никого не огорчает.
– Вы твердо убеждены, что ученики должны контролировать учителей? – с вызывающей игривостью спросил он.
Поспешность, с какой был задан вопрос, и некоторая нервозность в поведении собеседника красноречивей всяких слов выдавали его мысли. У Александры Александровны было испытанное средство умиротворять взволнованные сердца.
– Ученики действительно должны контролировать, – со снисходительным холодком проговорила она, – но не учителя, а себя… – После этих слов наступила пауза, во время которой собеседник имел возможность осудить свое легкомыслие. – Во всем следовать за ученым, – продолжала она, – опасно, можно потерять себя… Так случилось со мной. Самсон Данилович шел своей дорогой, а я неотступно следовала за ним…
Так вот из-за кого ей многим приходилось в жизни заниматься! Неужели она ничего больше не скажет и любопытная история на этом оборвется? Словно опасаясь, что именно так и произойдет, Лев Яковлевич поторопился спросить:
– Что же мешало вернуться к любимой науке, когда вы убедились, что неразумно во всем плестись за ученым? Или было уже поздно? Извините, если я задал этот вопрос невпопад, – сильно смущаясь, с волнением в голосе проговорил он.
Вместо того, чтобы сказать ему: «Пока мысли Свиридова заняты хлореллой, я не смогу расстаться с ней, потому что это единственное, что связывает нас…», – Александра Александровна несколько непоследовательно сказала:
– Это невозможно. Если он умрет, я уйду из института и буду в средней школе преподавать географию.
Ответ не удовлетворил Золотарева. Она не сказала, что помешало ей следовать собственным путем. Пренебречь любимым делом можно только ради чего-то более дорогого.
– Позвольте задать вам еще один вопрос, – чуть касаясь ее вздрагивающей от волнения рукой, попросил Лев Яковлевич. Ему не следовало продолжать разговор, который, несомненно, ей неприятен… – Только один-единственный вопрос… Ведь вы не сердитесь, не правда ли?
Она кивнула головой, но он некоторое время еще помолчал. Перед ним была трудная задача – не ошибиться в словах, вызвать Александру Александровну на откровенность, не огорчив ее.