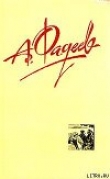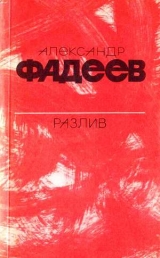
Текст книги "Разлив. Рассказы и очерки. Киносценарии"
Автор книги: Александр Фадеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
За время обороны бойцы и командиры хорошо узнали и проверили друг друга. Их связала могучая воинская дружба. Когда высшее командование приказало оставить полуостров, немецко-финские войска в течение суток не решались его штурмовать, хотя там уже решительно никого не было.
Генерал-майор Симоняк – командир времен гражданской войны, получивший в мирные годы высшее военное образование. Он прошел первый опыт современной войны в финской кампании 1939–1940 годов и с честью выдержал испытания нынешней войны с германским фашизмом как защитник Ханко.
В его манере говорить, мыслить и действовать сохранились умная прямолинейность и грубоватость солдата, в нем есть жизненная хватка и хитрость, и все это очень импонирует рядовому бойцу. В то же время это образованный и культурный военный, без всякой позы, умеющий учиться на новом опыте и учить других.
Ученье, свидетелями которого мы были, ставило своей целью приучить бойцов и командиров к решению задач наступления.
– Не все же ему наступать, придет время – будем и мы наступать, – прищурившись и глядя на меня хитро и весело, очень серьезно говорит генерал-майор. И, словно еще раз обдумав это со всех сторон, он повторяет с улыбкой: – Ведь придется наступать?..
Генерал-майор Симоняк не знал тогда, что на долю его части выпадет честь и слава быть одной из самых передовых в прорыве блокады Ленинграда.
«Труд милосердия»
Последние дни перед отъездом из Ленинграда я жил в гостинице «Астория». Зимой в ней помещался госпиталь, теперь он был уже ликвидирован.
В номере еще попахивало лекарствами, но обстановка его была та же, что и до войны: та же мебель, ковры, картины на стенах. Было чисто, уютно, светло. Действовало электричество, четыре лампочки – вверху, на письменном столе, у постели, в ванной комнате. Действовали водопровод и канализация. Только за кипятком надо было бегать к кубу, на кухню, в подвал.
Однажды в дверь постучались, и вошел молодой человек в форме военного врача.
– Не узнаете?
– Не узнаю.
– Вспомните Гавр, пасмурное утро, советский теплоход причаливает к пристани…
Я сразу вспомнил лето 1937 года, Международный конгресс писателей в защиту культуры в Париже, – стало известно, что Московский Художественный театр прибывает на гастроли, и мы приехали в Гавр встречать земляков. Пока проходили все формальности, мы несколько часов провели на теплоходе среди наших моряков и артистов, и за нами, как гостеприимный хозяин и земляк, ухаживал молодой, очень широко душный и очень застенчивый судовой врач Федор Федорович Грачев.
– Какая судьба, – вот где и когда привелось встретиться! – воскликнул я.
– Да, Гавр, гастроли Художественного театра в Париже!.. Было ли все это? – засмеялся Грачев. – Художественный театр, во всяком случае, был и есть, а Париж… вон какая штука!.. – Он покачал головой.
– Но почему вы в форме армейца, а не моряка?
– Да ведь я не моряк. Я был обыкновенным советским врачом на теплоходе Гражданского морского флота, Когда стало формироваться ленинградское ополчение, пошел добровольцем в качестве рядового. А во время боев оказалось, что очень нужны врачи. Правда, я терапевт, а там нужны хирурги. Но раз нужны хирурги, я стал хирургом. И вот сейчас работаю в качестве хирурга в одном из военных госпиталей… Вы но удивляйтесь. В Ленинграде ничему не надо удивляться. Возьмите знаменитого ленинградского гинеколога профессора Егунова. Теперь он директор крупнейшего ленинградского военного госпиталя. И ничего – людей научились оперировать на славу.
– Поди, страшно резать без опыта?
– Конечно, страшно, да ведь еще страшнее не резать, когда знаешь, что человеку грозит: жалко человека, вот и набираешься смелости. Мой брат, старый кадровый военный, всегда ругал меня, как человека крайне неоформленного нрава и характера, а теперь с почтением пожимает мне руку. Во времена голода и холода мы немало подняли на ноги гражданского населения. Военные госпитали Ленинграда отдали населению города семнадцать тысяч постоянных коек. Понимаете, что это такое?
Да, я понимал, что это такое. В знаменитой Европейской гостинице в Ленинграде зимой тоже был госпиталь, обычный рядовой госпиталь, в котором работали обычные рядовые люди. Суровой зимой этот госпиталь попал в число тех, которые были лишены топлива и электроэнергии. Это немедленно вызвало порчу водопровода и канализации.
В роскошных номерах пришлось поставить железные печурки и на паркетном полу рубить дрова, когда их удавалось достать, а когда не удавалось, – рубить мебель на дрова. За ранеными не успевали выносить. Все унитазы, ванны были завалены калом и отбросами, все это тут же обледеневало. Медицинский персонал валился с ног от голода, холода и непосильного труда. Но до весны тысячи раненых были поставлены на ноги.
К весне госпиталь был закрыт, чтобы привести здание в нормальный вид. Но как это сделать, если по-прежнему нет ни света, ни воды, ни топлива? Поручили это дело военному врачу Додзину, проделавшему в качестве врача медсанбата финскую кампанию и начало нынешней войны, а этой суровой зимой сумевшему организовать в Ленинграде образцовый военный госпиталь.
Додзин пришел в новое здание со всем своим медицинским персоналом. И все, начиная от сиделки и санитара и кончая главным врачом и начальником госпиталя Додзиным, стали своими руками очищать здание от отбросов. Презрев всякую брезгливость, они таскали их ведрами, лоханками, вывозили на тачках. Из этого громадного помещения было вывезено около трехсот грузовиков кала и мусора.
После этого все теми же силами они стали мыть, чистить, чинить и красить полы, потолки и стены. Решительно все работы – плотничьи, столярные, штукатурные, малярные – были сделаны руками санитаров, сестер и врачей. Они сами открывали, проверяли и осуществляли новые способы изготовления глины, извести, красок.
Когда я попал в этот госпиталь, бывшую Европейскую гостиницу, по окончании работ, это было прекрасное, светлое, поблескивающее свежепокрашенными стенами и полами здание.
Додзин, маленький человек с большими черными красивыми глазами и спускающимися с висков черными бачками, что делает его похожим на офицера Отечественной войны 1812 года, не в первый раз, видно, показывал результаты своего труда. Должно быть, всякий раз перед его взором вставало все, что здесь было, он чувствовал, что люди, не видевшие этого, не могут понять всего, что они сделали, и он все водил нас из палаты в палату и все рассказывал и все спрашивал:
– Ну, как? А здесь как? А это как?
Мне бросилось в глаза, что есть известная неравномерность в качестве окраски: иные палаты были окрашены с профессиональной чистотой и тонкостью, а иные грубовато.
Додзин засмеялся:
– Это очень просто: одни палаты красили женщины, а другие мужчины. Женщины и работали аккуратнее, и краски выбирали понежнее – какую-нибудь голубенькую или розовую, А наш брат разводил в ведре какую-нибудь гадость и давай смолить во всю стену. Помните, как у Гоголя: «По небу, изголуба-темному, точно исполинскою кистью наляпаны были полосы из розового золота»… А все-таки конфетка, а не госпиталь! – не выдержал он.
На отдельных участках фронта я видел, как наши поенные врачи в условиях походной палатки или блиндажа делали самые сложнейшие операции. Не могу забыть, как врач, только что удаливший почку, разорванную осколком снаряда, увидев нас, выхватил эту страшную почку из ведра и буквально потряс ею перед нашими глазами. Старик гордился этой почкой так же, как санитарный инструктор Ольга Маккавейская гордилась своим пробитым пулей комсомольским билетом. Это был великий труд по спасению жизни людей. Мой знакомец Федор Федорович Грачев был прав: все это делалось из любви к человеку.
В старину работа медицинского персонала во время войны называлась «трудом милосердия». Теперь такое определение этого труда вышло из моды. Но когда я представляю себе, какую самоотверженность, любовь, страсть и мужество души вкладывают в этот труд спасения людей, раненных в бою и пострадавших от лишений блокады, героические санитары, сестры, фельдшеры, врачи Ленинграда, мне хочется вернуть этим словам их прежнее благородное значение.
Июнь – июль
Из последней поездки по фронту я вернулся в конце июня. И не узнал Ленинграда.
На улицах его еще и сейчас можно было встретить изможденные лица, и, нет-нет, попадался взору скромно пробирающийся стороной гроб или обернутое в белое полотно тело на двуколке для ручной поклажи. Но ленинградская улица в июне – июле была яркой, залитой солнцем улицей, полной загорелой молодежи, нарядных женщин и детского крика.
В садах и скверах уже в полный лист распустились деревья, по утрам мощно пахло тополями. Все сады, скверы, пустыри, дворы были возделаны под огороды, зелень буйно всходила. Везде, где только пробивалась дикая трава – по обочинам окраинных улиц, в садах и на кладбищах, можно было видеть согнутые спины женщин, рвущих съедобные дикие травы – лепестки одуванчика, щавель, крапиву, лебеду. Проходя по Марсову полю, возделанному под огороды, я видел, что нижние ветви лип общипаны, насколько может достать рука.
По больше всего можно было узнать ленинградцев по тому, как содержались скверы и сады по всему протяжению проспекта 25 Октября. Они, как до войны, были возделаны не под огороды, а под роскошные цветочные клумбы. И на перекрестках улиц уже можно было купить цветы из ленинградских оранжерей.
Буйно распустившаяся зелень и раскрывшиеся на солнце сверкающие перспективы вод Невы, Фонтанки, Мойки, каналов, – это необыкновенное сочетание воды и зелени яркостью своих красок точно вытесняло все следы разрушений в городе. Он был прекрасен. Вечерами с загородных пашен и огородов пешком и на трамваях возвращались группы женщин и подростков с охапками зелени и громадными букетами полевых цветов.
Над Ленинградом развернулись белые ночи. Можно было часами стоять на Троицком мосту, когда в белой ночи над Летним садом всходила луна, а внизу, по Неве, недвижные и прекрасные вставали в сиреневой дымке Ростральные колонны, громады Фондовой биржи, Зимнего дворца, Адмиралтейства.
И днем и ночью были распахнуты окна ленинградских квартир. Звуки радиомузыки или патефонов вырывались на улицы. Бредя тихим, тенистым переулком, ты мог слышать, как где-то там, в темной глубине распахнутого окна, тонкие пальцы девочки старательно выделывают на пианино свои экзерсисы, изредка строгий голос учительницы доносился из окна. И отрадно было, идя ночью но Невскому, видеть меж крыльев Казанского собора чуть колеблющуюся на тросах громадную серебряную рыбу аэростата воздушного заграждения, готовую всплыть к небу.
Впрочем, их было мало, воздушных тревог, в эти летние месяцы. Ленинградские летчики хорошо охраняли родной город, воздушные бои шли далеко на подступах к нему. Иногда одиночные самолеты прорывались к окраинам и сбрасывали бомбы пли торпеды. Артиллерийский обстрел был уже даже не хищническим, а воровским. Вдруг среди ясного солнечного дня или в прекрасной белой ночи раздастся звук отдаленного орудийного выстрела, снаряд, свистя, пронесется над городом и разорвется где-нибудь возле канала Грибоедова или площади Урицкого. Еще, еще – то там, то здесь, – и вор уже сбежал. Он знает, что ленинградская артиллерия уже засекла его расположение, и если не замолчать и не сменить позицию – вору конец.
На прекрасных улицах Ленинграда уже редко можно было встретить объявление об обмене тех или иных вещей на продукты питания. По всему городу были расклеены афиши о концертах, литературных вечерах, лекциях. В Филармонии шла опера «Кармен» с Вельтцер в заглавной роли. У Александринки, где играла Музыкальная комедия, постоянно толпилась молодежь, раскупая билеты за неделю вперед, а вечерами стайки подростков, юношей и девушек дежурили у артистического подъезда, дожидаясь выхода своих любимцев. Билеты на спектакли и концерты было так трудно достать, что их выменивали на хлеб.
По-прежнему целые толпы народа стояли у свежерасклеенных газет, и по-прежнему можно было слышать вопрос: «А пу-ка, посмотрим, что пишет товарищ Андреенко». Андреенко был начальником отдела торговли Ленинградского совета. Но на зеленой траве стадиона имени Ленина, деревянные трибуны и заборы которого были использованы зимой на топливо, уже тренировались футболисты. И бегуны, юноши и девушки, в трусах и майках, бежали по зеленому кругу.
В одно из воскресений в Лесном состоялся женский кросс, в котором участвовали сотни коллективов, десятки тысяч молодых женщин и девушек. Едва взошло солнце, как но всему пути на Лесное потянулись трамваи, грузовики, полные женской молодежи. Иные мчались на велосипедах, иные шли пешком. Рощи с пышной распустившейся листвой стонали от песен – казалось, что нет на свете никакой войны и никакой блокады. По широким аллеям среди солнечных пятен, в разноцветных спортивных костюмах своих организаций, с номерами на блузках и майках, мчались ленинградские девушки, которым предстояло еще самим воевать и быть матерями нового благородного и счастливого поколения.
Ленинград бессмертен
Ленинград устоял в блокаде не только потому, что люди, воспитанные за два с половиной десятилетия существования советской власти, настолько же выше своих врагов, насколько человек выше дикого животного. Ленинград устоял потому, что, как и вся наша страна, он выше своих врагов по типу своего хозяйства и управления.
Ни один город любой другой страны, даже наиболее передовой, но устоял бы, попади он в положение не то что подобное ленинградскому, а раза в четыре лучшее, то есть тоже в достаточной степени тяжелое.
Ленинград устоял потому, что он был и остался своеобразным городом-коммуной. В тот самый день, когда город попал в блокаду, все материальные блага, которыми владели гражданские ведомства, ведомства военные, ведомства флота, были централизованы, соединены в один Котел. Они распределялись из единого центра, в зависимости от потребностей войны. Нет и не было ни одной страны в мире, где такая централизация могла быть произведена. Это не удалось довести до конца Парижской Коммуне, тоже находившейся в блокаде. От Парижской Коммуны Ленинград отличает не только более высокий тип хозяйства, а, главным образом, то, что его передовых Людей не раздирает борьба различных групп и партий, Которая в условиях Парижской коммуны являлась выражением социальной борьбы в самом народе. Руководство Ленинграда – политическое, хозяйственное, военное – является цельным, монолитным руководством, составной частью руководства всей нашей страны в Отечественной войне. И все население города сплочено вокруг своего руководства, которое десятками тысяч нитей связано с населением через его лучших представителей во всех районах города.
Мне приходилось много выступать на районных активах Ленинграда – Московском, Дзержинском, Кировском, среди рабочих и интеллигенции, среди военных и моряков. Со многими и многими из этих людей я скоротал бессонные ночи в самых задушевных разговорах о всей нашей жизни и борьбе. И я могу сказать, что самое великое и прекрасное, что выковал Ленинград за месяцы борьбы и страданий, – это они, передовые люди города из среды рабочих, служащих и интеллигенции.
Это они подняли десятки и сотни тысяч ленинградского ополчения, возглавили его и остановили врага под стенами родного города.
Это они в тягчайшие дни страшного голода и мороза несли огненные слова правды и борьбы в сердца ленинградцев, и город внимал их словам и стискивал зубы, и напрягал последние силы, стоял и боролся.
Это они шли впереди сквозь пургу и смерть, когда прокладывали трассу через Ладожское озеро. И они же подняли сотни тысяч падающих от голода жителей Ленинграда на очистку родного города с наступлением весны.
Все страдания народа они разделили с ним. Мало среди них таких, кто в этой борьбе не потерял самого близкого – мать, отца, жену, ребенка. И сколько из них самих пало в борьбе и лишениях! Но их ряды не поредели. На место павших из среды народа вставали и встают новые.
Они, эти люди, являются той самой высшей духовной силой, которая наполняет всех и все живым историческим, человеческим смыслом и движет всех и все вперед и вперед.
Накануне вылета из Ленинграда я пошел на концерт в зал Филармонии. Симфонический оркестр, под управлением Элиасберга, исполнял Шестую симфонию Чайковского.
С трудом удалось достать билет. Толпы народа еще шумели у входа, когда в тишине зала, перед одетыми в черное и уже наладившими инструменты музыкантами вырос над пультом высокий сутуловатый человек с выразительными белыми руками, в черном фраке. Он поднял палочку, и симфония началась.
И только она началась, лица всех сидящих в зале преобразились. Из будничных, обремененных суровыми тяготами и заботами, они стали ясными, открытыми и простыми. Они не были похожи на лица любого обычного концертного зала. Печать великого знания лежала на этих лицах.
Раза два во время исполнения симфонии начинался артиллерийский обстрел города, а лица людей с тем же ясным, открытым и простым выражением, выражением знания, недоступного и неизвестного людям других мест, были обращены к оркестру.
Ночью – не белой, а темной июльской ночью я был уже на аэродроме. Друзья, писатели Ленинграда, провожали меня. И снова низко-низко над Ладожским озером летел наш самолет, теперь он летел над подернутой утренней рябью водой, и солнце снова било в лицо, – оно всходило.
Через три часа я был в Москве и вступил в привычные условия жизни. Но еще много дней я не мог привыкнуть к этой жизни. И когда люди говорили мне что-нибудь, я не мог вслушаться в то, что они говорят, и видел только, как они шевелят губами, – настолько то, что они мне говорили, было далеко от меня. Снова и снова вставали в памяти моей и этот зал Филармонии, и эти лица, и мощные звуки Шестой симфонии Чайковского, восходящие к небу.
Февраль 1943 г.
КИНОСЦЕНАРИИ

ПЕРЕКОП
Киносценарий
(литературный вариант)
Севастополь, весна 1920 года.
Севастопольский рейд. Константиновская батарея. Сильный прибой, начало шторма.
На горизонте линейный корабль. Держит курс на Севастополь. Это линейный корабль королевского британского флота «Император Индии». У кормового флага – английский матрос на часах.
Перед зеркалом сидит человек с длинным лицом – тип остзейского немца. Его бреет парикмахер, моряк в английской форме. Не торопится.
Адмиральская каюта. На столах карты. Пять человек вокруг стола: адмирал Сеймур – командующий британскими морскими силами в Черном море, граф де Мартель – верховный комиссар Франции при «Правительстве юга России», французский генерал Молле, английский – сэр Роберт Лесли и полковник Дюваль– штабной офицер при генерале Молле.
Сеймур (склонившись над картой). Наиболее выгодное направление удара – это Кубань – Дон, с тем чтобы отрезать Кавказ, Баку. Нас, англичан, нельзя упрекнуть в том, что эта операция в наших интересах. Совершенно ясно, что здесь обеспечена поддержка казаков.
Молчание.
Генерал Молле. Баку – это нефть, не правда ли?
Французы улыбаются. Часы бьют десять.
Сеймур (глядит на часы). Он не задержит?
Дюваль. Нет, он не задержит.
Бритье в уборной адмиральской каюты идет к концу. Парикмахер снимает салфетку с бреющегося.
Адмиральская каюта. Те же пять человек.
Граф де Мартель (над картой). Мы предпочли бы направление удара на Украину – Донецкий бассейн. Вряд ли можно упрекнуть Францию в том, что этот план продиктован ее интересами. Абсолютно ясно, что здесь мы поражаем противника в его самые жизненные центры и идем на соединение с Польшей.
Сэр Роберт Лесли (с полным пониманием дела). Донецкий бассейн – это уголь, не правда ли?
Сеймур улыбается.
Граф де Мартель. Я думаю, он готов?
Дюваль. Да, он готов.
Уборная адмиральской каюты. Бритье кончено. Клиент английского парикмахера встал. Ему подают верхнюю одежду. Это белая черкеска. Он надел черкеску, пояс, кинжал; глядится в зеркало.
Парикмахер. Я имел честь служить вашему предшественнику, барон. (Барон вопросительно глядит на парикмахера.) Генералу Деникину, барон. Мы увозили его из Новороссийска на этом же корабле.
Врангель бросает быстрый взгляд на парикмахера. Что это – ирония? Нет. Парикмахер почтительно склонился перед ним. Дверь открывается. В выжидательной позе стоит полковник Дюваль. Делает пригласительный жест. И еще раз окинув себя взглядом в зеркале, Врангель идет к выходу.
Адмиральская каюта. Все встают, с поклоном пропускают вперед Врангеля. Он первый поднимается по парадной лестнице на палубу.
Музыка играет встречу. На палубе – делегация: белогвардейский генералитет, чиновники, господа в сюртуках. Нестройное господское «ура». Дамы подносят цветы.
Человек в вицмундире, треуголке и с лентой через плечо:
– Ваше превосходительно, барон Петр Николаевич! Прежде чем вы ступите на родную землю, позвольте в вашем лице приветствовать главнокомандующего вооруженными силами юга России и пожелать успеха вашему делу. Мы обащаемся со словами благодарности к нашим высоким друзьям и союзникам: широкое русское спасибо! Вы привезли нам богатыря, который объединит Россию…
В стороне генерал Молле и полковник Дюваль смотрят на церемонию.
Дюваль. Опять «единая неделимая»? Как это понимать?
Молле. Ну, как вам сказать… вроде единого и неделимого Китая…
Врангель (отвечает на приветственную речь). Твердо верю, что скоро будет освобождена земля родная… От лица народа и армии я обращаюсь к вам, наши друзья и союзники: Россия не забудет вашей благородной и бескорыстной помощи…
Звонкий голос. Катер главнокомандующего!
Как пущенная мина, катер главнокомандующего вооруженными силами юга России летит к берегу.
Гремит, оркестр. Крики «ура».
Над берегом плывет колокольный звон.
На флагштоках здания штаба взвиваются флаг командующего вооруженными силами юга России и рядом флаги британской и французской военных миссий.
– ― ―
Степь в Северной Таврии вблизи Сиваша. Беспредельный горизонт. Серое нависшее небо. Ветер гонит перекати-поле. Бежит девушка. В небе три жужжащие точки. Это самолеты. На них опознавательные знаки британской армии. Убегающая девушка глядит вверх.
Самолеты снижаются. Девушка бежит изо всех сил. Облако пыли. Появились всадники – кавалерия. Кони стелются по земле. Сверкают золотые полоски погон.
Девушка вбегает в деревню. Почти по ее следам на рысях вступает в деревню кавалерия белых. Широкая пустынная улица деревни. Низкие, врытые в землю хаты.
Всадники спешились, растекаются по хатам. Прикладами выбивают окошки, выламывают двери. Из окошек на улицу летит жалкая утварь. Плач детей, вопли и причитания старух, ржание и топот коней, тревожный колокольный звон – набат, вдруг оборванный ружейным выстрелом.
Два офицера схватили девушку, которая убегала в степи. Тарас Голубенко, могучий старик, бросается освободить девушку…
…На паперти сельской церкви – командующий белой армией, генерал-лейтенант барон Врангель. Его окружает свита. Впереди генералы Кутасов и Борщевский. Первый – звероподобный рубака, второй – прямая ему противоположность, сравнительно молодой щеголь, генерального штаба генерал-майор.
В свите Врангеля – глава французской военной миссии генерал Молле и глава английской – сэр Роберт Лесли. Тут же полковник Анри Дюваль. Перед Врангелем, в отдалении, стоят два офицера, окруженные конвоем с шашками наголо. Это они грабили в деревне. Теперь они стоят перед Врангелем навытяжку, безоружные. Несколько поодаль стоит группа стариков крестьян, впереди старик Тарас Голубенко.
Врангель размашистым жестом указывает на арестованных офицеров, обращается к крестьянам:
– Они?
– Они, – твердо отвечает Тарас Голубенко.
Иностранцы с любопытством глядят на развертывающуюся перед ними сцену.
Врангель спускается с паперти, подходит вплотную к арестованным офицерам и вдруг резким и сильным движением срывает с одного и другого погоны. Затем, повернувшись к адъютанту, бросает коротко и повелительно:
– Повесить!
Мгновенье оцепенения. Конвой уводит офицеров.
Врангель подходит вплотную к группе крестьян. Он говорит то отеческим тоном доброго и рачительного барина, то повелительным тоном генерала и хозяина положения:
– Вот что, старики… не будет того, что было раньше, при генерале Деникине. Будет мир. Будет порядок. И земля будет. Пахарю нужна земля, и земля будет.
Движение в свите Врангеля.
Неподвижно стоят крестьяне.
Врангель. Будет земля. Но не для горлопанов и лодырей, а для хорошего хозяина, для хозяйственного, справного мужика. Дадим вам землю за выкуп.
Генералы и свита напряженно глядят в лица крестьян. Крестьяне отводят глаза в землю.
– ― ―
Белая армия в походе. Движутся колонны войск, офицерские части, танки, броневики, пушки. Лавина белой армии катится на север, мимо кургана, где стоит Врангель со свитой. С развевающимся штандартом проходят конные полки генерала Борщевского. Рядом с Борщевским едет полковник Дюваль.
Борщевский салютует саблей.
Из свиты, окружающей Врангеля, возгласы:
– На Днепр!
– На Дон!
– На Кубань!
Оглушительное «ура».
Проходят отборные части – корпус генерала Кута-сова. Сверкают клинки, склоняются знамена. Неудержимое стремление вперед. Оглушительные крики:
– На Киев!
– На Ростов!
До сих пор неподвижный, Врангель вдруг протягивает руку вдаль, на север, и кричит пронзительным звонким голосом:
– На Москву!
– На Москву! Очистим Кремль от красной нечисти! На Москву! – кричат в свите Врангеля.
Катится лавина белой армии.
– ― ―
Картина ночного Кремля.
Приемная кабинета Ленина. За столом секретарь-женщина пишет. Военный, лет тридцати пяти, в суконной защитной гимнастерке с малиновыми «разговорами», сидит в приемной, ждет. Он несколько волнуется.
Женшина-секретарь закуривает.
Военный (встает). Эх, дайте-ка и мне папиросочку!
Секретарь (улыбается). А сказали – не курите. Волнуетесь?
Военный (с смущенной улыбкой). А как же вы думаете? Ленин! (Неумело закуривает.)
Секретарь. Он уже справлялся о вас. (Подходит к двери в кабинет, чуть приоткрывает ее. Из-за двери доносятся резкие звуки повышенного ленинского голоса.) Еще немножечко, и я доложу о вас. (Приоткрывает дверь.)
В кабинете Ленина.
Ленин, заложив руки в карманы, быстрой походкой прохаживается по кабинету. Перед ним стоит военный, крупный штабист – Семенов.
Ленин. Успокаивать и успокаивать – это плохая тактика. Выходит – игра в спокойствие. А на деле нас бьют. Прямо позор!
Семенов. Главком считат…
Ленин. Да, да, «считает»! Главком отвечает за все это. Опоздание за опозданием! Опоздали с мобилизацией тыла, опоздали со связью. В результате полная неразбериха, вместо обещанных этими вашими рисуночками побед со дня на день. Помните эти рисуночки– вы мне показывали? И я сказал: забыли, что там англичане и французы…
Семенов. Товарищ Ленин…
Ленин. Надо лучших, энергичнейших людей послать на юг, а не сонных тетерь. А то, пока вы там спите, Врангель вышибет нас с Украины и-Донбасса. Так нельзя…
Ходит по комнате. Семенов мрачно молчит. Входит секретарь.
Секретарь. Прибыл из Туркестана товарищ Фрунзе…
Ленин. Прекрасно! (Он вслед за секретарем быстро идет к двери, высовывает голову.) Пожалуйте, пожалуйте, Михаил Васильевич!
Фрунзе у двери в волнении оправляет гимнастерку, входит. Ленин энергично трясет его руку.
Ленин. Рад, очень рад вас видеть… Именно и особенно вас.
Фрунзе (смущенно). Здравствуйте, Владимир Ильич…
Ленин. Вы прямо с поезда? Здоровы?.У меня есть сведения, что вы еще с тех времен подцепили какую-то зверскую болезнь желудка?
Фрунзе (смущенно). Спасибо вам большое. Я прекрасно чувствую себя.
Ленин. Познакомьтесь. Уполномоченный главкома при штабе Южфронта – товарищ Семенов.
Фрунзе (живо). Как, из Харькова? (Знакомятся.) Ну, как там?
Семенов (чуть пожимает плечом). Все то же. (К Ленину.) Прикажете уйти или могу остаться?
Ленин. Теперь со всеми вопросами обращайтесь вот к нему (указывает на Фрунзе).
Семенов. Понимаю. (С достоинством кланяется, выходит.)
Ленин и Фрунзе в креслах за столом.
Ленин (указывает на карту настене). Как вам все это нравится? А?
Фрунзе. Да, положение трудное.
Ленин. Архитрудное! Народ обнищал, устал, крестьянство ропщет на продразверстку, армия не оправилась от тяжелейшей польской кампании, голодна, раздета, разута, железнодорожный транспорт разрушен. И дело идет к зиме.
Фрунзе. Говорят, англичане и французы чудовищно укрепили Перекопский перешеек?
Ленин. Еще бы! Они дают Врангелю все: снабжение, снаряжение, аэропланы, танки, деньги, – все. Последняя отчаянная попытка восстановить власть помещиков в России, и все для того, чтобы укрепить падающую власть, власть – английских и французских эксплуататоров во всем мире. И заметьте! Керзон ставит условием торговых переговоров с нами, чтобы мы не трогали Врангеля. Каково? А? (Ленин весело, заразительно хохочет.) Дескать, пока будем разговаривать, вас, может быть, побьют!
Фрунзе (в волнении встает, быстро идет к карте). Владимир Ильич! Простите, если я что скажу не так. Но я давно и не без досады наблюдаю за странной динамикой сжимания и разжимания крымского пузыря. (Показывает на карте.) Тактика эта не только глупа, она преступна. Не лучше ли, раз армия Врангеля вылезла за перешеек, ударить ей в тыл, вот здесь, через Днепр, на Каховку и отрезать ее от перешейка? Вот так! (Показьшает по карте.) Насколько мне известно, таков и был план товарища Сталина. Почему он не выполнен?
Ленин. Почему? Я сам только что спрашивал вот у этого господина (показывает на место, где стоял Семенов). Сталин, к сожалению, заболел. А некоторые господа при главном командовании, кажется, утеряли элементарное представление об интересах революции и фронта. Я вам вот что скажу: если мы в кратчайший срок, в два месяца максимум, не ликвидируем Врангеля, он с помощью англичан и французов ликвидирует советскую власть. Так стоит вопрос. Скажите мне совершенно откровенно: чувствуете ли вы себя в силах справиться с этим делом?
Фрунзе. Да, я готов взять это на себя.
Ленин. Другого ответа я от вас и не ожидал.
Фрунзе. Благодарю вас за доверие. Но…
Ленин. Что?
Фрунзе. Поскольку товарищ Сталин болен, я прошу возможности во всех трудных случаях сноситься непосредственно с вами.
Ленин. Хорошо. С чего вы думаете начать?
Фрунзе. Я думаю прежде всего убедить украинского крестьянина в том, что ему выгоднее помочь нам, чем идти под неслыханное зверское иго Врангеля.
Ленин. Правильно! Все английские газеты вопят о новой крестьянской политике Врангеля. Нечто вроде столыпинских хуторов. Хитро? Да мужика они не обманут! И рабочие Донбасса помогут вам. А затем?
Фрунзе. Затем – отчаянно смелое, бесповоротно решительное наступление. До полного разгрома врага.