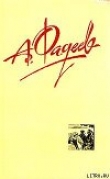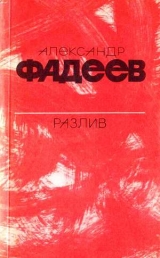
Текст книги "Разлив. Рассказы и очерки. Киносценарии"
Автор книги: Александр Фадеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Он быстро-быстро целовал ее руку, а каштановые волосы метались на его голове, и ласковые глаза с синью пучились прямым спокойным светом.
Она молча и нервно гладила его волосы, не зная, что сказать, не решаясь почему-то назвать его уменьшительными именами.
– Будет, что ли? – спросил он шутливо, отпуская руку.
Она притянула его близко-близко и, касаясь горячими губами уха, сказала совсем неожиданно:
– Какой ты хороший и… странный…
– Странный? – удивился Неретин.
– Да. Я живу здесь семь лет, а таких еще не видала.
"Чудит", – подумал Неретин, сразу принимая добродушно-насмешливый тон.
– А где я жил, там, надо полагать, здешние странными кажутся. Понятно?..
– Нет, все-таки… не то.
– И тебе, стало быть, без "таких" скучно тут было?
– Скучно…
– Чего ж ты не уехала?
Она хотела сослаться на какие-то тяжелые условия, но что-то взмыло к горлу изнутри, и, удивляясь себе, что может вымолвить это так спокойно, она сказала:
– У меня ведь ребенок был…
Сказала и запнулась.
– Ну, так что ж? – допытывался он. – У меня двое были. То есть не сам я рожал, надо думать, а были мои… – И так как она молчала, он добавил:
– Но если понадобится, я куда угодно поеду. Очень просто.
Она заволновалась и попыталась приподняться на подушке.
– Лежи, лежи… – удержал он ее за плечо.
Она нервно передернула руками, соображая что-то, и наконец сказала:
– Тут целые дела… Когда-нибудь расскажу, не могу сейчас… Ошиблась я как-то, ну и… – Голос ее оборвался, и неожиданно для себя и для него она заплакала.
– Вот это уж зря, – сказал Неретин укоризненно, – на-ка полотенце.
Чувствуя прилив необычайной нежности, он стал сам обтирать ей слезы, впервые замечая, что руки у него грубые и жесткие, а пальцы немного кривые. Но от его уверенных и ласковых движений она успокоилась и даже улыбнулась.
– Видишь, какая я кислая, не то, что ты…
– Ничего, будешь со мной, пройдет. Я ведь простой. А рассказывать вообще не стоит – ерунда.
3
Неретин сидел еще долго. Служительница зажгла лампу и принесла ему чаю. Он выпил стаканов семь, удивляясь, куда они умещаются, и шутил по этому поводу. Минаева слушала его, и ей страстно хотелось выздороветь.
Только когда в церкви пробило двенадцать, он ушел. Ночь стояла сухая и вместе с тем странно тягучая и липкая не по-летнему. На западе огневел злато-сизый пояс горящего леса, а за ним плавилось заревом небо, как вогнутый лист раскаленного железа.
В лохматой голове Ивана – в этом луженом и крепком солдатском котелке уже варились и кипели простые, обыденные мысли о работе.
Глава четвертая
1
В промежуток между гречишным севом и сенокосом Жмыхов ходил на охоту. Но этим летом жара давала себя чувствовать даже в Садучарской тайге, и он знал, что мяса теперь никто не купит: в погребе портилась даже солонина, а ледники имелись только у не нуждавшихся в мясе кошкаровских староверов.
Тогда он решил плыть в Сандагоу, чтобы летнее время не пропало даром. Надо было забрать у Нереты двадцать пудов муки, оставшиеся с прошлой зимы за беличьи шкурки, купленные дедом на шубу в приданое дочери. Кроме того, следовало получить у волостного объездчика свое лесничье жалованье и захватить в правлении газеты, которых он не читал уже около двух месяцев.
Он подправил лодку и спустил ее к реке. Плоскодонка была большая, но не тяжелая, почти не пропускала воды. Дома он подстриг бороду, одел патронташи, сумку и большую алюминиевую флягу в суконном чехле, наполненную медовухой. Марья оправила сзади ему рубаху: Жмыхов был костист и высок, и рубаха некрасиво морщилась на спине.
– Ну что ж, пора… – сказал жене. – Где Каня?
– В лодке ждет.
Она в последний раз осмотрела его с ног до головы.
– Хорош! – сказала насмешливо.
– Знамо, хорош, – улыбнулся Жмыхов, заглядывая ей в монгольские глаза. Черные, немного суженные, с большими ресницами и отчетливыми бровями – то были смелые глаза ее предков со средней Аргуни, откуда он вывез ее восемнадцать лет назад.
Они пошли на берег вместе.
Дочь Жмыхова уже сидела на корме и, лениво болтая веслом в воде, смотрела, как бежали вниз маленькие крутящиеся воронки.
– Скоро ты? – крикнула нетерпеливо отцу.
– Поспеешь, козуля…
Жмыхов передал ей топор и винчестер.
– Прощай, старуха! – сказал жене подбадривающим тоном.
Марья не обиделась на обращение "старуха", хотя на загорелом лице ее не было старческих морщин, а черных волос не потревожила седина.
– Езжай, – ответила она просто.
Он столкнул нос лодки с берега и с неожиданной легкостью перенес на него двести двадцать фунтов своих костей и жил, когда лодка была уже подхвачена быстрым течением. Бурый пес бросился вплавь вслед за лодкой, но Марья отозвала его назад, и он долго недовольно ворчал, поблескивая вымокшей шерстью.
2
От хутора до Самарки верст тридцать пять. Надеясь на быстроту течения, Жмыхов редко брался за весла. Каня сидела у руля, а он дремал, лежа на носу, под журавлиную песню Ноты, и солнце высекало золотистые искры из его русых волос с рыжеватым отливом. Волос у Жмыхова – мягкий. Недаром сандагоуцы зовут лесника "Королем", а гольды "Золотой головой".
У Кани руки крепкие, а глаз острый. Нота тоже хитрая река – мечется то вправо, то влево. Лижет скалистые обрывы, водовороты делает. Белопенные водовороты злобно рычат. Кедр тянет с берега корявые мшистые лапы. За кедром непролазная темь да карчи.
В других местах веселее – березняк белеет серебряной корой. Вьется небо вверху меж ветвей иссеченной лентой, и зверь молчит под кустом, от жары разомлев, и пихта стоит прямо и тихо, как сон. Курится тайга медовыми смолистыми запахами…
– Комар прилетел, – сказал Жмыхов под вечер, – давно комара не было.
– Стало быть, дождь будет, – пояснила Каня.
– Ясное дело, будет. К тому и говорю.
Он выпрямился во весь рост и посмотрел вдаль. Нота вырвалась из кедрового плена и бежала по широкой безлесной долине. С боков долины сопки. Ближе – черные, дальше – синие, а совсем далеко – голубые. На сопках – опять тайга.
Большая река Нота, а Улахэ еще больше. Нота идет в Улахэ на полтораста верст ниже Сандагоу, и в этом месте – Самарка. Есть еще ключ Садучар. Он пришел из голубых Сихотэ-Алиньских отрогов и вынес в самое сердце хлебных полей хвойный пихтовый клин. Растрепал Нотовы берега, взбаламутил спокойную воду, натащил тяжелых таежных карчей. Садучар – холодный и суровый красавец.
– Будем воевать, – сказал Жмыхов, заслышав его пенокипящий гул.
Он переменился с дочерью местами, снял снаряжение и засучил рукава. Были у него волосатые и жилистые руки.
Палило огнем вечернее солнце, дымилось небо тонкой пеленой, и воздух, полный невидимого речного пара, стоял неподвижен и густ. Волос Жмыхова горел на солнце золотой чешуей, а у дочери волос черный не мог спрятаться под кожаной шапкой. Кофта у нее совсем расстегнулась, и груди виднелись румяные загорелые яблоки.
Темный пихтовый клин в пожелтевшей долине бежал на лодку. Садучар ревел тайфуном, пенился белыми сихотэ-алиньскими облаками. Лодка дрожала и металась на волнах, как испуганный конь, и резала кипучую пену. Каня опустилась задом на пятки и влипла коленями в днище. Был у нее монгольский пронизывающий глаз. Жмыхов впивался в реку веслом и кричал:
– Загребай нос!
Каня крепче врастала коленями в лодку, а руки ее действовали верно и точно, как железные рычаги машины. И когда, под самым обрывом, кренясь и поскрипывая бортами, судно пролетело наконец Садучарово устье, она откинулась на спину и засмеялась громко и весело.
– Ловкачи мы! – крикнула отцу сквозь смех из-за белых зубов и потянулась, свежая и гибкая, как улахинский кишмиш. – Нас голыми руками не возьмешь, – добавила горделиво.
– Ясное дело, – согласился Жмыхов привычной фразой.
Вспотевшее лицо его бронзовело под золотистой шапкой волос, и широкая грудь, курчавясь мхом в прорези воротника, вздувалась, как кузнечный мех.
3
Нота разрезала Самарку на две части. Человек на берегу мочил дубовые бочки в речном затоне.
– Эй, здорово! – крикнул ему Жмыхов.
Человек приподнялся и, прикрыв глаза от солнца мокрой рукой, долго рассматривал сидящих в лодке.
– Кажись, Король? – сказал он наконец. – Ну-ну, доброго здоровья тебе, – и тотчас же добавил: – И дочке твоей.
– Стрюк дома?..
– Со съезда приехал – все дома. Слышишь, в кузне гукает.
– С какого съезда? – удивился Жмыхов.
Но бондарь уже нагнулся и не слышал его.
Бабы стирали на плотах белье. Загорелые мальчишки барахтались в воде. В знойном мареве плавали позолоченные купола деревенской церкви. Жмыхов обогнул причал и пристал прямо у стрюковской кузницы.
– Кузнец!.. – позвала Каня Стрюка. После победы над Садучаром она чувствовала во всем теле избыток молодой и задорной силы.
Стрюк вышел из кузницы. Был он низкого роста, но коренастый, с чрезмерно длинными руками и мощными ладонями.
– Те-те-те… – защелкал он языком, стараясь изобразить на лице удивление. – Приехал Король и козу свою привел?.. Ладно. Куды, в Сундугу собрались?
Русские улахинцы звали волостное село не Сандагоу, а Сундуга.
– Есть такое дело, – в тон ему ответила Каня.
– Ну, тогда сбирай манатки, ночью дождь будет.
– Ясное дело, – подтвердил Жмыхов.
– Не ясное, а хмарное, – пошутил Стрюк, втаскивая лодку на берег. Айда-те!..
4
Дома Стрюк рассказал Жмыхову все новости. А новостей было много. Прежде всего, у Стрюка оказалось несколько майских газет, в которых только и толковали о выборах во Всероссийское учредительное собрание. Сами выборы предполагались осенью. И так как газеты у Стрюка были самые разнообразные, то Жмыхов имел возможность познакомиться с тем, как смотрят на это дело разные люди.
Правда, разобраться в тонкостях он не мог: различных оттенков было множество. Так, например, на одних газетах сразу под заголовком большими черными буквами красовались лозунги: "Война до победного конца! Вся власть Временному правительству!" А на других: "Война до конца за мир без захватов и контрибуций!", но зато – "Да здравствует демократическая республика!" На третьих стояло: "Долой кровавую бойню! Вся власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!" Впрочем, много встречалось и иных. Когда месяца два тому назад Жмыхов читал мартовские газеты, такой неразберихой как будто бы и не пахло. Но уже и тогда начинали поругивать неизвестных большевиков.
– А ты как смотришь на это дело? – спросил Жмыхов у Стрюка.
– А как смотрю! – сказал кузнец. – У меня два сына на фронте. Хозяйство, знаешь, невелико, а прыгаю, как белка на сосне… Войну кончать пора – вот как смотрю!.. Нам с ней одно горе.
Стрюк говорил строго, а глаза под колючими ершами вместо бровей мигали весело.
– Учредительное собрание… – рассуждал Жмыхов. – Откудова этакое выскочило?.. Живем, как азияты – ясное дело…
– Н-да… В волость съездишь, узнаешь. Там, поди, известно.
Хитрый мужик Стрюк. Улыбку спрятал в бороду, а борода у него что трава на кочке.
– На съезд волостной я ездил… Вот где дела – так да-а…
Он рассказал Жмыхову о последних событиях в волости.
– Копая жирного знаешь? Этому за всех попало. Заседали в воскресенье, а в селе станковые со Свиягинской лесопилки гуляли. Рабочий народ, известно… До девок больше. Отмутили лавочника по первое число, как же. Взятошник…
– Их вражда старая, – пояснил Жмыхов. – Копай на лесопилку муку поставлял. Мало что подмоченную, а говорят, ржаную промеж пшеничных кулей подсовывал. Жулик известный.
– А ты слушай, – продолжал Стрюк. – Большевик, говорят, Неретенок-то?..
Он лукаво прищурился и выжидательно посмотрел на Жмыхова. "Хитрый мужик, все знает", – подумал Жмыхов, а вслух сказал:
– Дела…
5
Кузнецовы бабы вернулись с поля. Темнело. Мальчишки на улице с трудом доигрывали в городки. В растворенные окна хаты вместе с необычайной духотой вечера врывались их звонкие голоса и удары палок по рюхам.
К Стрюку пришел самарский священник, отец Тимофей.
– Здоровеньки булы! – рявкнул он тяжелым медвежьим басом, снимая в сенях дырявую соломенную шляпу. – Завтра дождь будет – солнце садилось в тучу.
Кузнецова мать, рассыпчатая старуха, подошла к нему под благословение.
– Брось, стара, излышний машкерад, ну его к бису! – сказал он насмешливо. И добавил по-русски: – Тебе, может, забава, а мне-то уж надоело. Дура…
– Ах ты, безбожник! – обиделась старуха. – А еще поп! Вон с тем чертом два сапога пара, – указала она на сына.
– Не любят нас с тобой старухи, – сказал отец Тимофей Стрюку. – А по всему, должны бы старухи попа уважать. В других местах так водится. Впрочем, каков приход, таков и поп… Я к тебе, лесная твоя душа, – обратился отец Тимофей к Жмыхову.
Он сел рядом на лавку и, вытащив из рваного подрясника кисет, стал вертеть грубыми и желтыми, как ореховое лыко, пальцами толстую цигарку.
– Ты что? Уже?.. – спросил Стрюк, подмигивая.
– Ни синь пороха… Я в поле был. – Он заклеил цигарку и задымил. Гречка моя не всходила, а пшеница на низу лучше других. Огурцы пропали, попадья плачет. Дура…
Были у попа игривые черные брови, полтавские глаза и нос большой и мясистый, цвета пареной луковицы. Он косился на Каню и часто сморкался в изнанку подрясника.
– Так вот, к тебе, – снова обратился он к Жмыхову. – Возьми меня в Сундугу. Едешь, говорят?
– Вещей много?
– Вещей?! Чу-дак!..
Отец Тимофей расхохотался и долго кашлял, поперхнувшись дымом. Кашель его был откровенен и весел, как смех. Пахло от попа землей, самогонкой и Библией, и был он так же жизнелюбив, пьян и мудр.
– Вещей… Чудак!.. Что я, невеста с приданым, што ли? Мне за жалованьем съездить.
– А платят?
– Платят. Дурни…
– Эт-та поумнеют, – сказал Стрюк резонно.
– А мне хоть бы хны, – усмехнулся поп. – Подрясник сбросил, волосы подстриг, а пашня у меня своя. Гуляй – не хочу.
Стрюк взял со стола первую попавшуюся газету и сунул ее священнику.
– Ну их к бису, – отмахнулся отец Тимофей, – я их и раньше не читал… Так возьмешь? Нет? – насел он на Жмыхова.
– Ясное дело, возьму. Приходи завтра со светом.
– Ладно… Дочка-то у тебя, а? Выросла…
– Выросла, да не для тебя, – съязвила Каня.
– Я и не говорю, что для меня. Дура…
Он расправил плечи, потянулся и зевнул.
– Людская глупость навевает скуку, – сказал безобидно. – Пойду…
И когда сенная дверь захлопнулась за ним, кузнец сказал:
– Чудак поп, а на работе лучше мужика.
6
С полночи зацедил дождь, упорный и однообразный. Несмотря на уговоры Стрюка, Жмыхов выехал на рассвете мокрого и скользкого утра. Отец Тимофей прибежал еще затемно со сверточком под мышкой.
– Где остановишься в Сундуге-то? – спросил Жмыхов. – У отца Ивана, што ли?
– Ну, нет… – забасил отец Тимофей. – Я, знаешь, со всеми сангоускими попами в "дружбе".
Он захохотал откровенно и весело, как всегда, разбрызгивая бородой дождевые капли.
– Не любят они меня, гусятники святые.
Подыматься по Улахэ было труднее. Течение постоянно сбивало лодку. Требовалось полное разделение труда. Каня сидела у рулевого весла, а Жмыхов с попом менялись. Работали то шестами, то веслами, но в некоторых местах приходилось брать и то и другое. Река обмелела, и лодка садилась на перекатах. Они слезали в воду и тащили ее на канате.
Разница между речной и дождевой водой терялась, и казалось, что воздух улетучился, а люди движутся с головой в воде и дышат ею.
Отец Тимофей скинул подрясник и неприлично ругался.
– Чего рыбу глушишь? – смеялась Каня. – Это тебе не в церкви, чертово кадило!
Отец Тимофей шлепал ее по спине тяжелой ладонью.
– Буйные у тебя телеса, девка. Кому в жены достанешься?..
– Медведю!
– То-то порадуешь старика.
Но к вечеру желание шутить пропало. Лица синели, коченели руки, с трудом сгибались и разгибались пальцы.
7
Третью ночь они провели в фанзе старшего племянника Тун-ло. Сам старик отдыхал там же и посоветовал Жмыхову не ехать дальше.
– Ты видишь, Улахэ вздулась. Живи здесь. Тун-ло все знает. Река клохчет, как наседка. Вверху затор. Если хочешь знать где, Тун-ло скажет: в Боголюбовской перемычке. Тун-ло все знает. Так было много лет назад, когда друг еще не родился. Половина долины поплывет, но фанза Тун-ло останется, потому что она на холме.
Старый гольд хорошо говорил по-русски, и слова его звучали уверенно. Но Жмыхов знал, что промедление грозит лишними неделями, и жалел время.
– Успеем, – ответил он гольду. – Помнишь, как мы плавали с тобой? Тогда мы ни черта не боялись. Амур страшнее Улахи, и Улаха меньше Аргуни.
– Да, Аргунь… – сказал Тун-ло задумчиво. – Оттуда ты привез бабушку, и она осрамила этой весной охотника Тун-ло. Но Тун-ло уже стар…
Утром гольд слез с теплого кана, насыпал в мешок чумизы и принялся за чистку ружья.
– Куда ты? – спросила Каня.
– Теплая циновка портит охотничьи кости, – сказал старик. – Тун-ло поедет с другом. У него есть в волости дела.
И он действительно поплыл вместе с Жмыховым, загадочный и спокойный, как каменный божок у фанзы племянника.
Река почти сравнялась с берегами и рвалась из невидимых оков стремительней и бурливей, чем когда бы то ни было. В последний день пути им пришлось особенно тяжело. Сказывалась близость верховьев, а лодка пропиталась водой и стала громоздкой. Сбиваемая спереди речным течением и подгоняемая сзади широкими веслами, она дрожала на мутных волнах тяжелой лихорадочной дрожью, продвигаясь не более одной версты в час.
Таким образом, в последний день они сильно запоздали. Мускулы их слабели с каждым напряжением, невыносимо ныли ключицы, и тела – обессиленные человеческие тела – жадно просили отдыха. Но у таежного человека воля крепка и сурова. Она преодолевает и физическую слабость, и ярость скованной в верховьях реки, и ядовитый скользкий мрак дождливой ночи. Она проводит человека через голубые заоблачные хребты, заставляет его бодрствовать многие сутки, выслеживая зверя, и толкает его в бой так же легко, как в теплую женину постель.
И глаз у таежного человека остер, и пуля из его ружья верна, и взгляд его горд и спокоен, потому что воля его густа, как кровь, а кровь ярка и червонна, как тетюхинская руда.
– Наляжь! – кричал Жмыхов властно. – Р-раз… р-раз… Право руля, девка!.. Р-раз…
Впереди, у невидимого речного колена, в холодной дождливой мгле приветливо мигали желтые огни Сандагоу.
Глава пятая
1
Когда начались дожди, таксатор Вахович смотал походные палатки и вернулся в Сандагоу. Харитону дома делать было нечего. Смоляной запах и старые звериные следы тянули его глубже в чащи. Таксатор предложил ему отыскать забытую охотничью тропу южнее вершины Лейборадзы.
Попутчиком вызвался Антон Дегтярев. Они сошлись быстро. Оба были рослые, широкоплечие и мускулистые парни, с быстрыми глазами; от обоих веяло сочной ядреной крепостью молодых ясеней.
– Чем баб щупать, лучше медведя затаежим, – предложил Харитон. И Дегтярев согласился.
Оба они знали наперечет охотничьи зимовья, шалаши, фанзы, людские и звериные тропы, ключи, овраги и таежные болота, и в угрюмой глуши беспрерывный холодный дождь показался им неопасным. Они переплыли бурные воды Сыдагоу на двух связанных лимонником бревнах, пристрелили застрявшую с испугу в корявом буреломе козулю и в балке у заброшенного китайского шалаша развели свой первый костер. Шалаш был сделан из кедровой коры, крепко сшит ореховым лыком, а широкая берестина, выдавшаяся вперед в виде навеса, прикрывала огонь от дождя.
– Сушись, братва, завтра снова мокнуть, – пошутил Антон, стаскивая с себя всю одежду. – Радуйся, отче Харитоне, комаров нетути, – дождем побило.
Обучался раньше Антон в лесной школе, а под народный язык подделывался.
Он устроил у огня деревянные вилки и развесил белье сушиться. Харитон последовал его примеру. Костер обдавал шалаш банным жаром. Были парни широкогруды и мохнаты, как изюбры.
Дегтярев сбегал голый за водой и прибежал весь мокрый, рыча и фыркая. Он стал сушиться у огня, опалил колено и выругался по-матерному. Тонкие ломти мяса в лопушином листе отправил в золу. Привычному человеку в тайге сытнее, чем дома.
И когда наелись и надели просохшие манатки, Харитон сказал:
– Хорошо женатому человеку!
И не объяснил почему.
– Это ерунда, – возразил Дегтярев, – какой, по-твоему, человек женат?
– А ты не знаешь, какой? – усмехнулся Кислый.
– Нет, все-таки?
– Ну, известно, у кого жена и вообще… детишки там разные и все такое…
– Посуда, хата, постель одна и вши одной породы?.. – допытывался Дегтярев.
– Нет, – отрезал Харитон строго. – Жена вообще – помощница. Жена!.. Пойми, дурак!
– Выходит, что ты сам пень. А человек хороший. Люблю.
Сказал Антон чудно, но слова были теплые. И тогда Харитон объяснил:
– Тридцать годов мне, понимаешь? Имею только вот это… – Он вытянул вперед руки, черные, как сковороды, и потряс ими в воздухе. – Четвертый год хожу возле Вдовиной Марины. Батька не дает. Говорит: "Я гол, а ты голее". И Марина не идет, говорит: "У тебя чуб седой". – Он сорвал с головы фуражку и, блеснув на огне седо-звездной прядью, добавил: – А мне страдай…
Антон вспомнил весеннее девичье дыхание, полный податливый стан Марины под рукой, терпкий запах прошлогоднего сена.
– Выходит, что не везет, – промолвил. Свистнул и опять промолвил: – А мне и без жены хорошо. Сытый голодного не разумеет. Это еще, наверно, в Священном писании сказано.
Харитон не знал, чем сыт его спутник, и говорил много. Слова – тяжелые камни – падали на кедровый подстил, не производя впечатления. И под их нудное гуканье Антон заснул. Были у него буйные русые волосы, вымазавшиеся за ночь в кедровой смоле подстила.
2
На другой день по непролазным кедровым стланцам они перевалили Лейборадзу.
Забытую охотничью тропу нашли быстро. Она заросла более светлым пырником и папоротью и выделялась резко. Они наделали зарубок и пошли назад. На этот раз не перевалили отрог, а обогнули его западней. На востоке, красуясь посвежевшей вершиной Лейборадзы, темнел становик Сихотэ-Алиня. На всем обратном пути засекали насечки и ставили вехи. Идти стало труднее. Ноги скользили в траве, не давая шагнуть широко. Ключи вздулись и мутно ревели, волоча громадные слизкие камни да черные валежины. Более крупные ручьи плавили вниз целые плоты сухостоя и вырванного с корнем ельника. Болота заозерели, а дождь не прекращался.
Антон и Кислый перебирались по кедрачу, как белки. "Как-то там Неретин?" – думал Харитон. Он снова набрался сил и чувствовал позыв к работе и людям. Хотелось поговорить еще об одном заветном, и он пощупал Дегтярева.
– Политикой интересуешься? – спросил у него.
– Нет, – ответил Антон добродушно.
Он пел всю дорогу какие-то необычные песни и часто кричал без видимых причин. Любил человек звук своего голоса.
– Чем же интересуешься?
– Собой… зверем… тайгой…
– А людьми?..
– Мало. Разве вот бабами. – И он захохотал бескручинно-широким, разливистым хохотом.
– Зря, – солидно заметил Харитон, – политика не мешает бабе.
– А баба политике мешает. Только я не потому, а так… Если драться будете, буду там, где ты.
– Молодец, – похвалил Харитон отечески. – Я уж дрался, жаль, тебя не было.
Они с трудом переправились через Сыдагоу и вышли в долину верст на тридцать ниже прежней стоянки таксатора. В Боголюбовской перемычке образовался гигантский затор, и вся верхняя падь превратилась в бушующее озеро, по которому плавали корейские фанзы и чьи-то белые шаровары на черных обломках, казавшиеся издали парой лебедей.
У берега в густых карчах запуталась выдолбленная душегубка.
– Это нашему козырю в масть, – обрадовался Антон.
Они вытащили лодку на берег и, смастерив кинжалами весла, в один день спустились по мятежной Улахэ в Сандагоу.
Вечер был праздничный. Переодевшись и закусив, оба ввалились к девчатам у солдатки Василисы, наполнив избу здоровым молодым хохотом.
3
На вечерке танцевали парни с девчатами польку. Дробно отстукивали большими сапогами чечетку, а у девчат юбки, длинные и широкие, так и плавали по избе.
У солдатки Василисы на постоялом дворе – три отделения. Одно – кухня для стряпни, другое – для постояльцев отдельные комнатки, а третье – для вечерок. С дождями таксатор перебрался во второе. Рабочие остались в палатках. Таксатор был молодой, но до девок труслив. Примостился на вечерке в углу, даже рот раскрыл, и текли по рыжей бородке слюни.
У Дегтярева глаз голубой, как далекие сопки, а у Кислого – серый и напористый, как вода. "Который? – подумала Марина, и где-то екнуло: Дегтярев…" Стрельнула глазом влево и вправо, а Дегтярев уж рядом. Щека давно не брита – колется, и от волос кедровой смолой пахнет.
– Мотри, Харитон-то побьет, – шепнула.
– Не побьет, мы с ним приятели.
– Мельника побил…
– Мельника – не за тебя, за политику.
– И за меня тоже…
Сказала немного с гордостью, и Антон удивился.
Кислый драться был неохоч. Смотрел на них мельком, в танце, уголками глаз, и было ему обидно. Обидно было потому, что рус у Марины волос и румяны щеки, и потому еще, что сам он здоров и в летах, и три года из-за нее к девкам не ходил, хоть и тянуло. И только сейчас стало обидно еще за то, что Дегтярев в тайге сказал: "Сытый голодного не разумеет".
А Митька Косой, присяжный запевала, взял Харитона под руку и на заросшее волосом ухо сказал:
– Не стоит глядеть, птичка-то не для тебя.
– А для кого же?..
Митька отвел глаза в сторону и хитро ответил:
– Как Вавилу побил – на вечерки ходить боится…
– Ну и что же?.. За Вавилу она все одно не пойдет – дурная хворь у мельника.
– А кошелек толстый.
– Ерунда…
– Дело твое, а только, думаю, зря в монахи записался. Иль, окромя Марины, баб нету? Вон Василиса давно млеет.
Бровь у Митьки рыжая, а лицо в веснушках. Мигнул Харитону и пугнул его в непотребное место:
– У-у… душа с тебя вон… Симферополь!..
Веселый парень был.
4
На улице исходило холодным дождем небо. Когда открывали дверь, звук дождя был – точно стучала молотилка на осеннем току. Разве только хлюпало немного, а на току звук бывает сухой и четкий. Таксатор вспомнил, как прошлый год осенью, просекая ивняк, вышли через ключ к току. Молотилок в Сандагоуской волости мало. Ток был сельца Утесного – молотила вся деревня. Снопы в машину направлял хозяин Кривуля. Кричал:
– Гони, гони… э-эй!..
Мальчишка, голый по пояс, стегал коней волосяным кнутом, и кони ходили в мыле.
– Помогай бог, – сказал таксатор.
– Бог помогает, помоги ты, – засмеялся Кривуля. И, сдувая с лица полову и пыль: – Ну-ка, барин… городской… в пуговицах… растрясай снопы… Нут-ка-а!.. Эй, гони-и… Штоб вас язвило!..
Бабы и девки подавали развязанные снопы, а мужики с парнями оттаскивали солому. Было тогда таксатору стыдно и немножко завидно.
И потому, когда дверь открылась и снова застучала молотилка, а голос на крыльце сказал (был голос так же весел, как у Кривули): "Пойдем сюда, отец Тимофей", – и другой на дворе ответил: "Пойду к Харитону", – таксатор вздрогнул и смутился.
Но был это не Кривуля, а кто-то другой – большой человек широкой кости, без шапки, и за ним девка с ружьем, в короткой юбке не сандагоуского фасона. Гармонь оборвалась, и вся вечерка сказала:
– Жмыхов…
Пошли с одежды по полу темные струи дождевой воды, подмывая подсолнушную шелуху, а Жмыхов брякнул:
– Делу время, а потехе час! – вместо приветствия.
– И несло ж тебя в такую пору!
– Кой шут несло! Супротив воды перли, ясное дело. Запрягай лошадь, лодку привезть. Неравно снесет – другой не сделаете. Знаю.
– Беги, Гаврюшка, жива-а, – ткнула солдатка сына.
– Отца Тимофея привез. Пошел к Харитону. Харитон здесь, што ли?..
– Здесь…
– Айда вдвоем, лошадь заложить поможешь. Экий дождь сыплет…
Они вышли вслед за Гаврюшкой, а Каня осталась. Под рукой у Дегтярева неровно и тепло дышала Марина. Сопели, как кабаны, лесовики, и девки со сладким хрустом щелкали подсолнухи.
– Отожми воду, девка, – сказала Василиса, – я комнату приготовлю.
Она ушла, широко разбрасывая ноги, покачивая тяжелыми мясистыми бедрами, а Каня, приставив свой винчестер к отцовскому, закрутила подол. Высоко поднять стыдилась и крутила согнувшись. Были у нее упругие икры, уверенный крепкий стан и плечи широкие – в отца. Вода растекалась по полу у порога, густая, как лампадное масло, и косы свесились в него тугими фитилями. Волос в косах вороной и жесткий, как у лошади.
"Хороша девка из тайги", – подумал Антон.
А Кане под чужими глазами было неловко. Все же оправилась быстро. Людей, как и зверя, не боялась. Выпрямилась, сорвала с головы шапку и давай об косяк оббивать. Била сильно, отчего весь корпус ходил, а под мокрой рубахой дрожали сосочки.
– Глаза с косиной, – шептались девки.
– Видно, ороченка…
– Юбочка-то коротка, и улы на босу ногу…
– Здоровая…
– Иди сюда, девка! – крикнула солдатка из комнаты.
– Куда идти-то?..
– Никуда не ходи, – ввязался Митька, – гуляй здесь! А ружье брось. Девке с ружом не полагатся…
– Ишь шустрый какой, – отрезала Каня. – Не тебе ж ружья дать? С тебя и бабьего веретена хватит.
– Ай, девка!.. Сладка да горяча, как пирог, – жжется. Дай хоть буфера поглядеть, какого заводу.
– Иди, иди! Я те ребра-то поломаю!..
У девок да баб круговая порука. Напали на Митьку девчата. Мало рыжего чуба не выдрали, а парням хоть бы что.
Только когда Каня ушла, почувствовал Дегтярев, что под рукой у него тело чужое. Что сноп, что девка – разницы никакой. И второй раз за вечер удивился. Потом лезли в голову разные мысли. Неясные, как махорочный дым. Вспомнил, что у Марины рубахи потные, и подумал, что, может, сноп-то под рукой держать веселей. И еще: "Хоть из тайги, а такая же баба… ерунда". Хотел всякие мысли прогнать и два раза танцевал, а все же шевелилось где-то желание, чтоб Жмыхов задержался. Таксатора Антон не любил, а как ушел таксатор на свою половину, почему-то заныло. У Василисы спросил:
– Где у тебя воды испить?
– Ступай на кухню!
Но до кухни не дошел. Нудно скрипели половицы. В дощатых комнатах щели большие. Из одной комнаты валило тепло, и кто-то сонный дышал. Посмотрел в щелку. Топилась железная печка, а над ней на веревке – бабья одежда. Капала на печку с одежи вода, и с каждой каплей… ш… шип… ш… шип… Спит девка на спине, одеяло по шею – ничего не увидишь. Только где грудь манящий колышется бугорок да падает с лампы свет на лицо. На лице резко обозначены скулы и длинные ресницы, что черный бархат.
– Эх, девка таежная, ядрена-зелена!..
А в соседней комнате что-то зашуршало. Повел глазами и в щели слева увидел знакомые таксаторовы зенки. Трусливые и бесстыжие, с мутью.
– Смотрит, кисель… Тьфу!.. А ну вас всех к черту, дьяволы!.. – громко сказал Антон.
Назад пошел веселый.
Глава шестая
1
Когда утром проснулся в палатке, Дегтярев почувствовал – что-то переменилось. Был брезент вверху не грязен, а желт, а на желтом тихо играли кленовые листья. Выскочил – вверх уплывало небо, и солнце резвилось зайцами по мокрому листу. Солдаткин луг оделся травой по колено, и за лугом, что кончался в ста саженях обрывом, дымилась утренним паром глина. Сладко шумела кривоствольная забока[3], и, перебивая ее, сердито урчала невидная за забокой Улахэ. Чудились за рекой поля со вспрыгнувшей кверху пшеницей, а за полями качались в дрожащем воздухе сопки, чернея чужими заплатами прибитого к земле пепла.