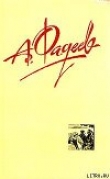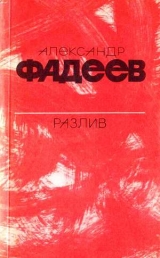
Текст книги "Разлив. Рассказы и очерки. Киносценарии"
Автор книги: Александр Фадеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Мчатся поезда с горючим, боеприпасами, продовольствием, машинисты сутками не слезают с паровозов, прикорнут часик-другой в спальном мешке на тендере и снова сменяют своих помощников, на глухих полустанках сцепщицы отцепляют цистерны с горючим, вагоны, груженные бочками, ящиками, кулями. Скромные труженики БАО перегружают грузы в пятитонки, перекачивают горючее в автоцистерны, и в глубокой ночи, пробивая светом фар крутящую снегом мглу, мчатся машины но нескончаемым, заснеженным дорогам войны на притаившиеся среди родных полей и лесов аэродромы.
3
Но каково летчику в такие дни? Нелетная погода – это даже не отдых, это бездействие, томительное бездействие, выматывающее душу. Каждый летчик-штурмовик знает, что в это время там, на фронте, пехота прогрызает вражеские укрепления, отражает контратаки вражеских танков, в это время там, на линии фронта, в нем, в летчике-штурмовике, великая нужда.
Ночью в нелетную погоду можно еще спать. Но с самого раннего утра все собираются в бревенчатом утепленном бараке на аэродроме и ждут, ждут. Чего ждут? А вдруг прояснеет, а вдруг пехота потребует поддержки штурмовой авиации. В таком случае они готовы превратить любую нелетную погоду в летную.
Такие случаи бывали. Позавчера, когда вот так крутило в воздухе, пришел внезапный приказ о вылете и старший лейтенант Кузин, маленький, русый человек с маленькими точеными руками и ясным и добрым взглядом, поднял в воздух свою восьмерку, и вскоре гул их моторов утонул в вое метели.
В момент вылета небо висело довольно низко, но снег не шел, крутила поземка и была кой-какая видимость; и командир части Михаил Арсентьевич Ищенко, старый опытный летчик, сорока лет от роду, и его заместитель по политической части Иван Тимофеевич Сотников, лет на пять помоложе командира, но тоже опытный летчик, не очень волновались за своих. Потом повалил снег, видимость пропала, и они все чаще стали поглядывать на часы и говорить о постороннем и покряхтывать.
Но когда прошло время, необходимое для операции, со всеми возможными накидками, а самолеты все не появлялись, командир и его заместитель вышли из блиндажа командного пункта и стали смотреть в небо и прислушиваться. И все летчики высыпали из своего барака и, тихо переговариваясь о постороннем, тоже стали поглядывать в небо и прислушиваться.
Командир полка Михаил Арсентьевич стоял высокий, сухой, темнолицый и молчал. Он был человек впечатлительный, и лицо его приобрело суровое и, как бы он этого не хотел, унылое выражение; а Иван Тимофеевич, его заместитель, как человек более молодой, здоровый и жизнерадостный, все утверждал, что ничего не может случиться. Но душа у него тоже болела. Они любили своих ребят отеческой любовью. Ищенко сам формировал эту часть в начале войны, а потом переучивал летчиков на ИЛы; и уже столько он и его заместитель перенесли и пережили вместе со своими ребятами, что мысль о возможных потерях терзала их. Смешанные чувства теснят в такие минуты душу командира: беспокойство за жизнь любимых людей, подчиненных и товарищей; беспокойство за материальную часть – сами-то, даст бог, целые останутся, а самолеты угробят; а не то, в лучшем случае, приземлятся благополучно, но каждый порознь, бог весть где, без бензина; и пока разыщутся, а вдруг назавтра боевой вылет, а самолетов нет дома и отвечай перед начальством.
Но в это время донесся отдаленный гул одиночного мотора. Он гудел где-то справа. Видно, летчик искал и не видел свой аэродром. Тогда Михаил Арсентьевич скомандовал:
– Давать ракеты, пока все самолеты не приземлятся!
Вот что происходило в это время с восьмеркой старшего лейтенанта Кузина. Из-за облачности они с самого начала шли не выше ста метров, потом повалил снег, и они пошли еще ниже. Все лежало в белом саване, все было похоже одно на другое.
Они только тогда поняли, что прошли линию фронта, когда ударили по ним вражеские зенитки и осколки снарядов застучали по плоскостям и фюзеляжам. Некоторое время они искали объект, потом старший лейтенант Кузин определил его, и самолеты пошли в первый заход.
По условиям видимости каждому пришлось действовать в одиночку. Среди восьмерки был летчик Козлов. Оп прославился тем, что прошедшим летом, подбитый вражескими зенитками, дотянул самолет до своей территории, по там у него обрезал мотор, и самолет со всего маха влетел в овраг. Самолет рассыпался на утиль, осталась целой только бронированная кабинка, и из кабинки живехонький вылез Козлов, даже не поцарапанный, а только немного ушибленный.
Сегодня до вылета летчик Козлов, надвинув на лоб ушанку, уныло сидел в бараке за кирпичной печкой, – это было излюбленное его место, – и спал. Но теперь он разозлился на то, что немецкие зенитки имеют наглость бить по советским штурмовикам, и уже после того, как сбросил фугасные бомбы, сделал в крутящей метели еще два пике на зенитки, стреляя из пушек и пулеметов, и немецкие зенитки смолкли навечно.
Видели ли вы когда-нибудь, как кружит над лесом птица, ища разоренное гнездо, или как грачи по весне с криком носятся над вырубленной рощей, где испокон веков их бабки и мамки и они сами вили свои гнезда? Вот так в непогоду ищут стальные птицы свой аэродром – то покружат на месте, то бросятся на юг, на север, на запад, на восток.
Они приземлялись один за другим. Ищенко и Сотников и все летчики на аэродроме считали каждый про себя: «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь…» Седьмым приземлился Козлов. Восьмого не было.
Не было Пикаева. Пикаев – молодой летчик, молодой по годам. Но по опыту своему он старый авиатор, воюет давно. Человек он упрямый, непокорный и отчаянный. Если по самолюбию своему обидится за что-нибудь на друга – вдруг вскинет исподлобья такой мрачности взгляд, и такая сила чувствуется в этом мрачном взгляде ею больших серых глаз, и в его тяжелом подбородке, и в своевольной складке губ, что лучше уж оставить его в покое. Что же сказать, когда дело доходит до немца! Тут его начинает душить такая ненависть, такой овладевает им азарт и беспредельное упрямство, что, черт его знает, чего он только не может вытворить.
И вот все начинают вспоминать: как заходили, как пикировали, не случилось ли в метели с самолетом Пикаева чего-нибудь такого, чего остальные не заметили; но нет, вроде ничего такого не случилось.
А время идет. Уже темнеет. Прошла уже и та предельная минута полета, когда по всем расчетам должен кончится бензин.
– Наверное, сел где-нибудь, – высказывает один из летчиков свое предположение. – Ничего, переночует, завтра найдется.
– Это Пикаев-то сел где-нибудь? Не знаешь ты Пикаева. Это такой парень, который не может не искать свой аэродром! – отвечает другой.
И вдруг доносится издали гул мотора, могучая темная птица разворачивается над аэродромом и с грохотом проносится над головами на посадку.
Пикаев, плотный, мрачный, медвежеватый в своих толстых меховых унтах, переваливаясь, идет по аэродрому.
Товарищи радостно приветствуют его, но он зол на себя и на весь свет. Он залетел в свой тыл, черт его знает куда. Только великое упрямство привело его на место, а в баках самолета осталось бензина не более чем на пол-минуты полета.
Вот какие события развертываются иногда в нелетные дни.
Но большей частью такие дни проходят однообразно. Можно сыграть в «козла», можно спеть под гитару Королева. Этот могучий рослый парень, из тех, кого мальчишки кличут: «Дядя, достань воробушка», – играет как бог. Но ничто не веселит душу.
Нет, скорее бы летный день!
4
И вот он пришел, наконец, этот долгожданный день. Прояснило, небо раскрылось все в звездах. Ищенко еще с ночи получил задание, но велено было ждать приказа о вылете. Все самолеты находились в готовности № 2.
Солнце еще не выглянуло из-за края земли, но уже из-за темной мутной дымки на горизонте проступил розоватый свет, и все вокруг – снежные поля, серое небо, темные кусты и белый морозный туман, чуть всходивший над полями, – все больше окрашивалось этим розовым светом. Желтый шар медленно всплыл в мутной дымке над горизонтом, по всему пространству снегов точно заиграл далекий нежный отблеск тлеющих углей. И в это время небо наполнилось все нарастающим грозным гулом, и высоко над аэродромом проплыла в сторону фронта девятка Пе-2.
Истребители взвились с дальнего аэродрома. Мгновенно, чуть не по прямой, как жаворонки, они взяли немыслимую высоту и, оставив в поголубевшем небе ослепительно белые дорожки, уже невидимые пошли на сопровождение бомбардировщиков.
И как же затрепетали сердца штурмовиков, когда показались над их головами эти могучие птицы – свои, но из другой стаи. Когда послышался этот грозный гул, такой родной и веселящий, но не от своих ИЛов, – какой огонь заполыхал в их жилах!
Другие уже летят, а они еще на земле.
В это время солнце чуть высунулось из мутной дымки, и снег засверкал мириадами разноцветных искр. В небо взвилась ракета. Летчики бросились к самолетам. Чудовищный рев моторов, стремительный снежный вихрь, поднятый сверкающими дисками, образовавшимися от вращающихся пропеллеров.
Выстрелила красная ракета – сигнал к полету. Первым, поднялся капитан Колесников, ведущий головной восьмерки, за ним – старший сержант Королев, за ним Каймаков, за ним Морозов. Набрав высоту метров в восемьсот, они построились ромбом, за ними таким же ромбом пошла следующая четверка – азербайджанец Бердяев, Щедров, Пикаев, Курилов, – и гул их моторов утонул в небе. Вскоре их нагнали истребители охранения.
Блистая снегами и инеем лесов, родная, прекрасная земля расстилалась под ними, снежный покров окутал ее раны, no под ним еще теплилась кровь ее сынов, пролитая за нее. С материнским благословением приняла она в лоно братских могил бесстрашных бойцов и великих тружеников – сыновей своих. Тысячи трупов врагов, проклятых вдовами и сиротами, догнивали в ней без имени, без славы, без чести. Священные зерна озимых хлебов набухали в ее теплом лоне, чтобы с весной взойти зелеными, нежными, непобедимыми ростками новой жизни.
Кровавой бороздой пролег рубеж войны по лицу родной земли.
Здесь, по эту сторону рубежа, жили и трудились люди, здесь труд был священен, как священно имя матери, здесь брат значило брат, друг значило друг, товарищ – товарищ. Еще прошлой зимой здесь хозяйничал враг, но сейчас из труб новеньких деревенских изб уже вздымались столбы кудрявого дыма, как символ восстановления жизни.
Там, но ту сторону рубежа, гуляла смерть. Выродки в образе людском разрушали все, созданное трудом поколений людей, терзали и мучили людей за то, что они труженики, за то, что они братья и товарищи между собою. Там, на десятки верст в глубину и на сотни верст по фронту, простиралась мертвая снежная пустыня с торчащими из-под снега остовами труб и обугленных строений, и вороны клевали трупы людей, когтями докапываясь до них под снегом.
Выродки уничтожили все, что могло говорить о счастливой жизни и свободном труде на земле, и сами, коченея от стужи, боясь русского морозного ясного солнца, зарывались в землю, уродовали, коверкали и насиловали ее, чтобы как-нибудь зацепиться за нее и продлить свое скотское существование.
Обо всем этом не думали ни Колесников, ни кто-либо из его семьи летчиков, проносившиеся над родной землей. Все это они видели не в первый раз, и все это давно уже отложилось в глубине их сердец страшной болью и страшной местью. Теперь все помыслы их были направлены на то, чтобы выполнить задачу: сразу найти цель и так раздолбать ее, чтобы все фрицы с выскочившими из орбит глазами и помраченным разумом вывернулись из земли, чтобы все их орудия, минометы, пулеметы и все их проклятые блиндажи со всем наворованным и запрятанным в них добром полетели вверх тормашками.
Подлетая к линии фронта, восьмерка Колесникова перестроилась и пошла гуськом. Грохот орудий доносился с земли, покрывая шум моторов. Наша пехота, обратив к небу благодарные и счастливые лица, смотрела на несущиеся в реве моторов распластанные крылья своих штурмовиков. Но летчики-штурмовики не думали и не могли думать об этом.
Звено братских штурмовиков, шедшее справа, впереди от восьмерки Колесникова, уже неслось среди разрывов зенитных снарядов. Они вспыхивали вокруг самолетов, как черные молнии.
Восьмерка Колесникова должна была обработать небольшой участок вражеских укреплений, насыщенных артиллерией и минометами, какой-нибудь пятачок земли. На карте у Колесникова здесь показаны были два селения, но никаких селений уже не было на поверхности земли. Однообразные холмы, рощи и леса простирались вокруг, вплоть до горизонта. Но Колесников хорошо знал свой участок. Он уже летал в тыл противника, и местность вокруг была ему знакома.
Зенитки ударили по ним еще на подходе. Не обращая внимания на зенитки, Колесников обрушился с высоты на цель, и все воздушное пространство под ним наполнилось ужасающим ревом его мотора. Колесников не сбросил груза, а только прострочил из пушек и пулеметов. Он хотел получше рассмотреть цель. Он взмыл в высоту, и за ним низринулся на цель Королев, за ним – Баймаков и другие. Первый заход вся восьмерка сделала, не сбрасывая груза, а только высматривая цели и стреляя для устрашения.
Нельзя передать то чувство удовлетворения и торжества, которое овладевает летчиком, когда он видит, как враг, заслышав победный клекот его мотора, одурев от огня пушек и пулеметов, в ужасе бросается по щелям и блиндажам. Но еще больше воспламеняет летчика сопротивление врага, когда враг продолжает стрелять из зенитных орудий и пулеметов. Машина Курилова, шедшая последней, только вышла из пикирования, как капитан Колесников обрушился на цель во второй раз и со страшным грохотом положил бомбу. За ним положили бомбы Королев, Баймаков, Морозов, Вердиев, Щедров, Пикаев, Курилов и опять Колесников, и так они пошли страшным Хороводом, сметая все, что лежало под ними.
Они ходили так низко, что истребители охранения остались барражировать высоко над ними: ИЛы бронированы, и им менее страшен огонь зениток и пулеметов; для истребителей на малой высоте этот огонь смертелен.
Налет был так внезапен, что противник не успел подбросить свои истребители. Сделав шесть заходов и сбросив весь груз, восьмерка Колесникова без единой потери уже направлялась домой, как слева от них показалась в синем сверкающем небе идущая на ту же цель восьмерка старшего лейтенанта Кузина. Она шла звеньями: Кузин, Авалшпвили и Улитин, штурман части Зиновьев, Коломийцев и Береснев и пара – Молодчиков и Козлов. Но, подходя к цели, они также перестроились гуськом и таким же страшным хороводом стали обрабатывать цель.
5
Тишина стоит на аэродроме. Людей убавилось, правда, немного. Большинство – техники, механики, работники БАО – остались здесь. Но соколы улетели.
Бывает ли большая радость на свете, чем возвращение соколов в родное гнездо после большой удачи и когда все живы, целы, невредимы?
Еще крутят по аэродрому снежные вихри от вращающихся пропеллеров, а уже вокруг самолетов работают техники, механики, оружейники, мотористы, радисты, приборники. Одни залезли в кабину, другие под брюхо, третьи лазают по плоскостям – высматривают, завинчивают, выстукивают.
Здесь царят великие мастера своего дела – инженер по эксплуатации Адамович и инженер-оружейник Руев.
Адамович влюблен в свои ИЛы. Это – машина-богатырь, и это – машина-красавица, машина-умница. В каком бы виде ни дотащил летчик свою машину до аэродрома, как бы ни была она изувечена, но раз он ее дотащил – машина возродится к новой жизни. Порукой тому – такие мастера, как старшие техники Кондратьев, Троян или механики Рожков, Изотов, Зайцев.
А посмотрели бы вы на руки инженера Руева – оружейника, когда в кругу своих лучших техников, таких, как Цупаченко, Бабкин, Гребелкин, он сам проверяет неисправность поврежденного осколками механизма, подающего снаряды в пушку, или своими точными сильными пальцами откручивает пропеллерчик стокилограммовой бомбы, проверяя его ход по нарезам!
Безмерны подвиги летчиков, священен безыменный труд техников, чьими золотыми руками живет наша авиация.
Пока техники и оружейники осматривают самолеты, летчики, сбросив шлемы пли шапки-ушанки, в своих медвежьих унтах, с вспотевшими лбами от быстрого перехода с воздуха в теплое помещение, заполнив барак степенным говором, закусывают перед следующим полетом.
Разве им нужно лететь опять? Конечно, нужно, сегодня большой летный день. Несмолкаемый гул стоит в небе. Необъятные пространства неба весь день бороздят металлические птицы.
6
Во второй вылет они должны были обработать тот же участок, по больше в глубину. Они знали, что теперь дело будет посерьезней. Противник подтянул свои истребители, к тому же погода начала портиться. Солнце еще играло на снегу и в небе, по там, из-за горизонта противника, надвигалась какая-то муть.
Все тот же пейзаж расстилался под ними, только уже пробрызнули вечерние красные краски. Зимний день короток. Они могли видеть плоды утренней бомбежки: вывороченную наружу красную и черную землю, побитые и поваленные деревья в лесу. Снова их встретили зенитки. Машины одна за другой ринулись к цели, и над развороченным пятачком земли и по соседству с ним пошел чудовищный но реву и грохоту хоровод в четырнадцать машин.
В этой адской работе трудно уследить за всем, что происходит вокруг. Летчик-штурмовик – один в своей бронированной кабине. Он должен видеть свою цель, вести машину, сбрасывать бомбы, стрелять из пушек и пулеметов, иногда одновременно принимать радиоприказания. Летчик Морозов ухитрился и в первый и во второй вылет еще сфотографировать плоды труда своего и товарищей.
На этот раз они должны были сбросить свой груз в четыре захода. Они сделали один заход, потом другой, по в надвинувшейся облачности не видели, что происходит с каждым из них и вокруг них. В это время истребители, барражировавшие на высоте, заметили мчавшиеся к месту штурма двойки вражеских «мессершмиттов». С частью из них они завязали бой на высоте, а часть вражеских истребителей низом ринулась на штурмовиков.
Вслед за капитаном Колесниковым, ведущим, шел Баймаков – опытный боевой летчик, в прошлом рабочий Челябинского тракторного завода. Уже после первого захода он почувствовал, что но самолету что-то изрядно стукнуло. Вскоре в кабинке отвратительно запахло горелой резиной, но мотор работал безотказно, управление действовало, и он продолжал свою работу.
После третьего захода Баймаков увидел, что к хвосту самолета Колесникова пристроился вражеский «мессер» и обстреливает его с тыла. Баймаков устремился на «мессера» и ударил по нему из пушек и пулеметов. «Мессер» отвалил и низом-низом ушел куда-то в сторону. В это время Колесников пошел в четвертый заход, сбросил последний груз и, набрав высоту, вдруг закачался на крыльях, точно падая. Баймаков подумал, что вражеский истребитель все-таки повредил его. Но самолет Колесникова выровнялся, и Баймаков понял, что это была команда:
– Уходить!
В кабинке все удушливей воняло паленой резиной. Баймаков сбросил свой последний груз и взял курс на аэродром. Колесников, кружась на высоте, собирая свою восьмерку, видел, как один из них уже пошел домой.
Летчик Пикаев, уже знакомый нам как человек предельного упрямства, в свой последний заход решил разделаться с зенитками, которые все время били но штурмовикам с опушки леса. Со сдержанной яростью он спикировал на зенитки и сбросил последнюю бомбу. Вряд ля что-нибудь осталось от этих зениток, но какая-то еще успела тявкнуть на него почти в упор. Самолет рвануло, и он стал падать на крыло. Зенитный снаряд вырвал из середины правой плоскости чуть не половину.
С огромным самообладанием, которое было отличительным свойством Пикаева в минуты смертельной опасности, он выровнял самолет и, держа его на обратном крене (чтобы выровнять крен от вырванной плоскости), взял курс на свой аэродром вслед за остальными штурмовиками.
Последним в этом хороводе штурмовиков оказался летчик Авалишвили, из шестерки Кузина, уроженец Тбилиси, самый молодой из всех летчиков, но уже бывалый. Он добровольно пошел в авиацию со школьной скамьи.
После третьего захода он почувствовал, что его сзади обстреливают из пушек и пулеметов. В зеркальце, устроенном на верхнем бронированном стекле, он не мог разглядеть вражеский истребитель, бивший по нему. Но через боковое стекло он увидел второй, пристроившийся сбоку, позади и немного пониже первого. Они били по Авалишвили посменно. Один отваливал, прицеплялся другой, а тот шел на очередь. Когда Авалишвили пошел на последний заход, они отвалились от пего, а потом прицепились снова.
Штурмовики, отбомбившись, один за другим уходили домой. Авалишвили пошел за ними, но в это время снова затарахтело и застучало в хвосте, и он понял, что ему уже не избавиться от своих преследователей.
Последним впечатлением Авалишвили было, как из нашего горящего штурмовика, падавшего над самой линией фронта, выбросился на парашюте летчик, и ветер понес его.
7
Уже темнело, и облака заволокли небо, и мела поземка, предвещая пургу, когда штурмовики стали приземляться на своем аэродроме. Снова, не показывая этого друг другу, Ищенко, Сотников и все люди на аэродроме считали про себя: «Один, два, три, четыре…»
Техники, механики, оружейники обступили машину: большая, большая работа предстояла им. Но из четырнадцати самолетов вернулось одиннадцать, трех самолетов не было. Не было Баймакова, Авалишвили и Курилова. Дотащился даже Пикаев, весь потный от внутреннего напряжения. Нужно было быть Пикаевым, чтобы не сесть на любой подходящей площадке, а тащить свой самолет, с вырванным чуть не наполовину крылом, до родного дома. Спасибо конструктору Ильюшину за его чудесный самолет!
Но этих троих не было.
Знаете ли вы что-нибудь более прекрасное на свете, чем отношения смелых, связанных общими интересами людей во время опасности? Здесь радость – настоящая радость, а горе – настоящее горе.
Многие видели, как падал горящий самолет, но кто в нем был? Баймаков? Авалишвили? Курилов? Опять воет, крутит метель. Глубокая ночь. Летчики отпущены в деревню. Они устали, но не расходятся, а грудятся в одной-двух избах. Нет товарищей!
Михаил Арсентьевич и Иван Тимофеевич висят на полевом телефоне, названивают по всем частям и аэродромам: не приземлились ли у них чужие летчики, не знают ли они чего-нибудь?
Часов в двенадцать ночи раздается телефонный звонок.
– Здравствуйте, товарищ командир. Говорит Авалишвили. Разрешите доложить…
Счастливая детская улыбка внезапно освещает длинное, под темным ежиком суровое лицо мужественного солдата.
– Авалишвили нашелся! Ах ты, голубь! Вот черт, да говори, что с тобой случилось?
Авалишвили с мальчишеским воодушевлением рассказывает все с самого начала.
– Привязались, понимаешь, никак не отстают. Били, били, пока весь хвост не разбили. Слава богу, сел в поле. Немножко, правда, пеньки были. Самолет спинку поломал. А я ничего, жив, здоров. Этот Ильюшин, ей-богу, настоящий человек, дай бог ему здоровья.
В душе Ищенко просыпается рачительный хозяин:
– Где самолет-то угробил?
Он уже решил: завтра чуть свет отправить на «уточке» к самолету техника и выслать за ним грузовик; раз мотор в порядке – значит, самолет будет жить.
– Сам-то ты где?
– Я здесь, в одной братской части; конечно, пехота. Да я на главное шоссе выйду, меня какой-нибудь грузовик подхватит.
– Не знаешь, чей это загорелся там у вас?
– Чей загорелся – не знаю, видел, как падал, видел, как летчик выбросился на парашюте.
– На чью территорию?
– Падал вроде на чужую, а ветер на свою тащил. Наверно, ветер вытащил на свою, не может быть, чтобы не вытащил.
Весть о том, что нашелся Авалишвили, и что летчик из горящего самолета выбросился на парашюте, и что ветром его могло вынести на свою сторону, мгновенно облетает всю деревню. Кто это – Баймаков? Курилов?
Никто не спит.
Ближе к утру усталость берет свое. Но уже надо вставать, завтракать, идти на аэродром и ждать летной погоды. Чуть свет приезжает Авалишвили – черноглазый, здоровый, веселый, хотя за это время, пока его не видали, он ухитрился угробиться, пройти десять километров пешком, проехать несколько десятков километров в пургу на открытой пятитонке и не спал всю ночь.
Снова все на аэродроме. Все в том же бревенчатом бараке ждут летной погоды. Но нет Курилова и Баймакова.
И вот на командном пункте раздается звонок. Звонит врач Мария Алексеевна из медпункта в деревне:
– Привезли Баймакова.
– Привезли? – упавшим голосом говорит Ищенко. – Разбился?
– Не волнуйтесь, товарищ командир, он ходит на собственных ногах, – отвечает Мария Алексеевна. – Ему сейчас трудно говорить по телефону, у него вышибло четыре зуба. Конечно, сильный ушиб, и все лицо опухло, и лбом он ударился, рассек кожу, но это пустяк.
– Как это с ним случилось?
– Он предполагает, что пробило бак с бензином. Резина протектора загорелась. Пока он бомбил, бензин частью поступал в мотор, а частью – в воздух. Он был уже над своей территорией, когда мотор стал сдавать. Он стал нажимать, чтобы достичь поля впереди, и вдруг мотор заработал во всю силу, его перенесло через поле, и тут мотор сразу отказал. Он сел на лес. В общем, дешево отделался.
Снова метет метель. Вторые сутки, третьи. Летной погоды нет, и нет Курилова. Теперь ясно, что это его самолет загорелся, что это он выпрыгнул с парашютом. Конечно, ветер нес его на нашу сторону, но он выбросился с такой малой высоты, что его могли застрелить в воздухе.
Жизнь входит в свои нрава. В бараке идет политбеседа. Летчики играют в «козла» и поют под гитару Королева, но у всех болит душа за Курилова.
Уже заделали крыло самолета Пикаева, уже привезли самолет Авалишвили. Он будет летать. У самолета Баймакова сняли мотор в полной сохранности, а остальное, видно, пойдет в утиль.
И вдруг прилетает У-2 с линии фронта. Все обступают летчика, и выясняется, что он привез самые последние вести о Курнлове.
Курилов жив и здоров. Летчик вчера с ним обедал. Дело в том, что немцы не стреляли в Курилова. Он падал на их сторону, и они надеялись взять его живьем. Но так как был ветер, Курилова перенесло через проволочные заграждения противника в «ничейную» полосу, а парашют зацепился за проволоку. Пока Курилов освобождался от ремней, противник открыл по нему огонь. Ему бы, конечно, несдобровать, но красноармейцы, с замиранием сердца следившие за приземлением своего летчика, устроили для него такую огневую завесу, что он благополучно дополз до своих. Нет больших друзей у летчиков-штурмовиков, чем наша великая пехота.
Лица у всех летчиков преобразились. Напряжение всех этих дней разрешилось взрывом веселья. Одни схватились бороться, другие просто стояли и хохотали, и даже Пикаев вдруг улыбнулся широкой, доброй мальчишеской улыбкой.
1942
Центральный фронт
Братство, скрепленное кровью
«На одном из участков фронта успешно действует сформированная в СССР чехословацкая воинская часть под командованием полковника Свободы. Южнее города Н. бойцы этой часта были атакованы 60 танками и автоматчиками противника. Бойцы чехословацкой части в течение дня и ночи самоотверженно вели борьбу с противником и отразили все атаки гитлеровцев. В результате боя было подбито и сожжено 19 немецких танков и уничтожено до 400 немецких автоматчиков».
(Из сообщения Совинформбюро от 2 апреля.)
15 марта 1939 года немецко-фашистские войска вступили в Прагу.
В глубоком безмолвии, с потемневшими от безысходной ненависти глазами смотрели чехи, как по улицам родных городов и селений, где каждый камень, каждая пядь земли освящены были трудом поколений чехов, катились орды поработителей и их танки и пушки грохотали по асфальту.
Обманутые мюнхенским соглашением, чехословаки встретили врага обезоруженными. А между тем никогда еще чехословацкий народ не был так готов к сопротивлению. Я помню лето 1938 года в Чехословакии. Как клокотали Прага и Брно, Кладно и Моравска-Острава, каждый даже самый захолустный городок среди сиреней и жасминов и самая маленькая деревушка над Влтавой в предчувствии беды!
Костры в память Яна Гуса, зажигавшиеся каждый год в ночь с 5 на 6 июля на горах, поросших вековыми липами, и среди усеянных цветами долин по берегам рек, горели в этом году по всей стране, как призыв к борьбе. И старые чешские крестьяне с вислыми седыми усами, какие, может быть, носили их прапрадеды – славянские воины из легионов Жижки, рассказывали у костров среди ночи о многовековой борьбе чехов за свою свободу и звали народ на страшную битву с немцами Гитлера.
Аудитории старейшего в Европе Пражского университета ломились от студенческой молодежи. Лучшие ученые страны, цвет чешской интеллигенции, писатели и академики, многих из которых теперь уже нет в живых, воскрешали в памяти молодежи славные имена людей, чьей борьбой и трудами жив чешский народ.
Рабочие люди с завода Шкода, с заводов Витковице, рабочие, чьими умелыми руками создавалось самое совершенное оружие, готовы были сделать все для защиты родной земли.
Поезда, переполненные чешскими рабочими, учителями, артистами, украшенные знаменами и словно увитые песнями, льющимися из окон, мчались из Праги в Судеты на антифашистские митинги, а по всем направлениям к Праге летели поезда с юношами и девушками на сокольский слет, и воздух дрожал от мощных приветственных криков: "Здар! Здар!.."
Кто мог думать тогда, что через несколько месяцев лучшие из соколов будут казнены, а остальным свяжут крылья и кинут их за решетку?
21 мая страна призвала под ружье резервистов. Старые солдаты и молодые чешские парни, где бы ни застал их призыв – на поле за плугом, в шахте у перфоратора, за кафедрой в университете или за конторкой банка, молча, со спокойной решимостью во взоре откладывали орудия своего труда, целовали жен, детей, невест, матерей и шли на призывной пункт. Через несколько часов, вооруженные и обмундированные, сопровождаемые приветственными криками народа, они уже шагали в колоннах к вокзалам, и десятки поездов, точных, как часы, развозили их по границам родной земли.
Весь народ знал, что Советский Союз, верный договору с Чехословакией, выполнит свой братский долг до конца, если чешское правительство окажет вооруженное сопротивление насильнику.
Вращаясь в этом кипении народа, я гордился тем, что я – русский. В те дни двери каждого сельского домика, рабочей квартиры, жилища писателя, даже крепко завинченная крышка любой походной солдатской кухни где-нибудь на Дунае или в Судетах гостеприимно открывались предо мной, потому что я русский.
– Говорите с нами по-русски, – просили солдаты на границе за Братиславой, где в десяти шагах за шлагбаумом стоял немецкий часовой. Говорите по-русски, пусть немцы знают, что русские с нами.